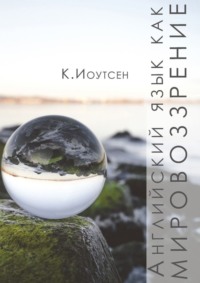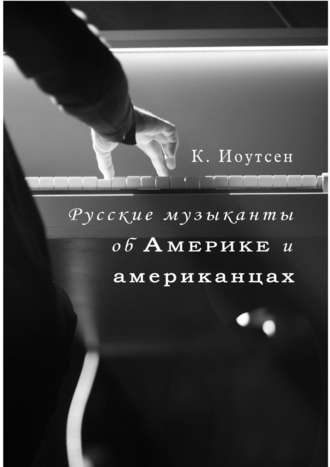
Полная версия
Русские музыканты об Америке и американцах
– Что это?
– Ноты.
– Вы сами их написали?
– Сам, на пароходе.
– А вы их можете сыграть?
– Могу.
– Сыграйте.
Играю на пианино, которое тут же в гостиной парохода, тему скрипичной сонаты без аккомпанемента. Не нравится.
– А Шопена можете сыграть?
– Что вы хотите?
– «Похоронный марш».
Играю четыре такта. Чиновник, видимо, наслаждается.
– Очень хорошо, – говорит он с чувством.
– А вы знаете, на чью смерть он написан?
– Нет.
– На смерть собаки.
Человек неодобрительно качает головой.
Перерыв мои сочинения и не найдя среди них писем, чиновник заявил, что хотя нам всем придётся съездить на остров, но вероятно через час меня отпустят. Остров, это звучало неприятно, так как мы его видели при въезде в бухту: он мал, скалист, красив и весь застроен тюрьмами.
11 (24) августа 1918 [всё ещё на острове].
Меня вызвали и подвергли часовому допросу. Спрашивали массу нужных и ненужных вещей, но некоторые вопросы были прямо шедевры:
– Сочувствуете ли вы в войне союзникам?
– Сочувствую.
– Сочувствуете ли вы большевикам?
– Нет.
– Почему?
– Потому что они взяли мои деньги.
– Бывали ли вы на их митингах?
– Бывал.
– Хорошо ли они говорят?
– Хорошо, но не логично.
– Где ваш отец?
– В могиле.
– Был ли он на войне?
– Нет.
– Почему?
– Потому что умер.
– Состоите ли вы членом какого-нибудь общества?
– Петроградского Шахматного общества.
– Политической партии?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я считаю, что артист должен быть вне политики.
– Признаёте ли вы многожёнство?
– Я не имею ни одной.
– Сидели ли вы в тюрьме?
– В вашей. Etc.
АМЕРИКАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
God bless America,
Land that I love,
Stand beside her and guide her
Thru the night with a light from above.
From the mountains to the prairies,
To the oceans white with foam,
God bless America,
My home sweet home.
Irving Berlin [Israel Baline] (1888—1989)
Бог – доллар,
доллар – отец,
доллар – дух святой.
Владимир Маяковский (1893—1930)
IV. Русские в Нью-Йорке
«Кто в мире не слыхал о Статуе свободы? Когда корабль входил в Нью-йоркскую гавань, я долго и с уважением смотрел на величавую леди, символизирующую свободу и права человека»64. Этими словами Дмитрия Тёмкина можно, вероятно, было выразить чувства многих иммигрантов, и не только, конечно, русских.
Ошеломляющую сказочную панораму, открывающуюся при приближении к Нью-Иорку, с эффектной, царящей над входом, статуей Свободы – всё это трудно описать. Шесть сезонов подряд я ездил потом в Америку и каждый раз приближение к Нью-Иорку производило на меня всегда одинаково сильное впечатление65.
Крупнейший и самый быстрорастущий город Америки, а в перспективе фактически и её символ, космополитический центр притяжения (как и въездного и таможенного контроля) для бесчисленных путешественников и переселенцев, равно, как и формирующийся культурный центр, законодатель мод и хорошего вкуса66 (пусть, словами Владимира Дукельского, «в смысле искусства» и «город обезьян, раззолочённых и галдящих, но никому не нужных»67), Нью-Йорк в начале ХХ столетия ещё не стал тем поражающим воображение городом будущего, образ которого приобретёт известность по всему миру. Ещё только возводились знаменитые небоскрёбы – самое высокое здание насчитывало пока всего два десятка этажей, – а до железнодорожного вокзала добирались в основном на лошадях.
Правда, многие характерные черты, вроде вавилонского смешения языков и наций или, по выражению Артура Рубинштейна, контраста между «изношенными трущобами и роскошью лучших отелей»68, были уже вполне заметны.
Если Нью-Йорк всё ещё не слишком отличался от многих других американских городов, то его неповторимость по отношению к городам Европы или России была несомненна. Его упоминали часто и описывали сравнительно подробно. Ещё Пётр Чайковский в конце XIX века отмечал, что Нью-Йорк «очень красивый и очень оригинальный город; на главной улице одноэтажные домишки чередуются с домами в 9 этажей… Великолепен Центральный парк»69. Приблизительно в таком же духе отзывались и русские иммигранты – почти на всех город произвёл в целом очень благоприятное впечатление. Так, красочно, пусть и не без критики, живописал Нью-Йорк Фёдор Шаляпин, во время своего первого визита в 1907 году.
Город производил удивительное впечатление: всё живое в нём стремительно двигалось по всем направлениям, словно разбегаясь в ожидании катастрофы… Вокруг стоит такой адский шум, как будто кроме существующего и видимого города сразу строят ещё такой же грандиозный, но невидимый. В этой кипящей каше человеческой я сразу почувствовал себя угрожающе одиноким, ничтожным и ненужным. Люди бежали, скакали, ехали; вырывая газеты из рук разносчиков, читали их на ходу и бросали под ноги себе; толкали друг друга, не извиняясь за недостатком времени, курили трубки, сигары и дымились, точно сгорая70.
Ко времени второго приезда артиста, почти пятнадцать лет спустя, принципиально изменилось мало, разве что город, как казалось, вырос едва ли не вдвое (в сущности, так и произошло).
На улицах стало так многолюдно, что, когда я издали наблюдал толпы народа, снующие по 5-ой авеню, мне казалось, что все люди идут в обнимку!
– Как прекрасно видеть такую братскую любовь! – размышлял я.
Меня, однако, ждало разочарование. Подойдя к толпе совсем близко, я понял: то, что я принимал за чувства, оказалось простой необходимостью. Это была вынужденная близость, наблюдаемая в знакомой всем банке сардин (или бочке селёдок)!71
Первые впечатления Сергея Прокофьева, посетившего Нью-Йорк осенью 1918 года, нашли выражение вполне в том же самом духе: «Нет другого города, кроме Нью-Йорка, который так красив, когда к нему подъезжаешь»72.
…Чем ближе к Нью-Йорку, тем вид был интереснее. Наконец, замелькали равномерные, нумерованные улицы, а затем мы углубились под город и так, не вылезая из-под земли, и приехали на вокзал. Затем нас удушили бензиновой вонью автомобили, которые пускали её сюда же, под землю, вертясь у входа вокзала, и мы поехали по улицам Нью-Йорка… Тем не менее, Нью-Йорк, ничуть не поразив, произвёл просто отличное впечатление73.
На следующий день Прокофьев добавил в дневнике, что «Нью-Йорк очень хороший город, и я рад, что поживу в нём»74. Вместе с тем было и ощущение сытости, даже пресыщения, богатства и некоторой безвкусицы (супруга музыканта Лина Прокофьева, истинный знаток моды, была позднее совершенно поражена кричащей одеждой дам75). Это мнение прошло проверку временем – несмотря на «удушающие бензиновые пары»76 и «бесконечную суету»77, и даже в сравнении с европейскими столицами: «В Париже Нью-Йорк казался мне узким и тесным. Да, здесь берегут каждый квадратный аршин, но как в нагромождении своём он импозантен!»78 – восклицал Прокофьев два года спустя. Но похоже, что деловой суете мегаполиса композитор в целом скорее симпатизировал: «В девять часов утра Нью-Йорк, такой же как всегда, благоустроенный и оживлённый»79. «Нью-Йорк выглядел весёлым…, богатым – и весь был залит солнцем. Мне было приятно в него вернуться»80, – записывал он в дневнике в октябре 1921 года.
В высшей степени положительное впечатление произвёл город на Джорджа Баланчина в 1933 году: «Помню запахи порта, портовую жизнь. Нью-Йорк мне сразу очень понравился: люди бодрые, дома высокие…». И вообще, Америка ему «понравилась больше Европы. Во-первых, Европа по сравнению с Америкой маленькая… И люди мне там [в Европе] не нравились – всё одно и то же, одно и то же»81, – вспоминал балетмейстер полвека спустя.
Естественно, далеко не все разделяли подобные восторги. Например, Артур Рубинштейн, не понаслышке знакомый с изысками европейских (и прочих) столиц, без особого энтузиазма описывал свой первый визит в 1906 году.
Откровенно говоря, Нью-Йорк в те дни был довольно безобразным городком. Этот длинный и узкий остров, втиснутый между двумя крупными реками, был разрезан авеню по вертикали и улицами по горизонтали; назывались все они, к моему удивлению, только по номерам. Считалось, что такая геометрия была практичной, мне же она казалась монотонной. Величественные небоскрёбы тогда ещё не построили, и лишь одно знаменитое Flatiron Building напоминало нечто похожее. Основными артериями города были Бродвей и Пятая авеню. Первая – жизненный центр Нью-Йорка, копия парижских бульваров; второй же был присущ некоторый «аристократический дух», благодаря дворцам американской знати, особенно тем, что выходили на Центральный парк… Боковые улочки этих «образцовых» кварталов были похожи на аналогичные в Лондоне, с их небольшими, аккуратными и узкими частными домами, расположенными строгими рядами. В остальных частях города царили запустение и нищета; улицы были грязными и вонючими, забитыми толпами плохо одетых и унылых людей, которые вечно куда-то спешили82.
Впоследствии, годы спустя, когда у пианиста появилась возможность изучить город более подробно, тот открылся ему и с более приятных сторон, вроде «Уолл-Стрит и её окружения, тихих старых улочек, у которых всё-таки были названия, экзотического Chinatown и Riverside Drive»83.
Вторил Рубинштейну и тогда ещё несколько менее искушённый, но не менее наблюдательный восемнадцатилетний Владимир Дукельский – один из самых молодых иммигрантов, – прибывший в Нью-Йорк в 1921 году: «Странным образом я почувствовал себя как дома в этом перенаселённом и чрезмерно разрекламированном городе – невероятно прекрасном издалека, невероятно уродливом вблизи»84. Одна из главных достопримечательностей, Бродвей, пользовалась особым вниманием музыканта – будущего знаменитого сочинителя мюзиклов.
[Бродвей был] неряшливым и вонючим под лучами палящего солнца, подобно немытой путане после ночи со слишком многими клиентами. После заката Бродвей – это, конечно, вавилонское зрелище, но будь я мэром Нью-Йорка, я бы закрывал его в дневное время, или же разогнал бы всех продавцов напитков и попкорна, посносил бы ларьки с хот-догами и гамбургерами и позакрывал бы бары – то есть, убрал бы всю эту мусорную мишуру, которая обезобразила некогда замечательную и благородную театральную улицу85.
Сдержанно и с изрядной долей разочарования и равнодушия описывал Нью-Йорк невпечатлительный Николай Набоков, известный космополит, очутившийся в культурной столице Америки в том же году, что и Баланчин:
Я помню, что вовсе не был поражён или потрясён Нью-Йорком. Оказалось, он в точности такой, как я себе и представлял: беспредельный вертикальный хаос… установленный на образцовом горизонтальном порядке86. Я ожидал увидеть причудливые, высоко расположенные железные дороги, картинки которых я рассматривал ещё в далёком детстве, и я также ожидал, что они окажутся шумными, грязными и обветшалыми. Я ожидал увидеть пообносившиеся трёхэтажные кирпичные дома, стоящие плечо к плечу со сверкающими небоскрёбами. Я ожидал увидеть на каждом углу удобные аптеки, где можно купить молочные коктейли и засахаренные бананы, ожидал увидеть удобные просторные такси и мрачных монстров частных автомобилей, стоящих в пробках на улицах. Это всё я уже видел в фильмах, читал об этом в книгах, и слышал от тех немногих американцев, которых мне довелось встретить87.
Фёдор Иванович Шаляпин | Feodor Chaliapine
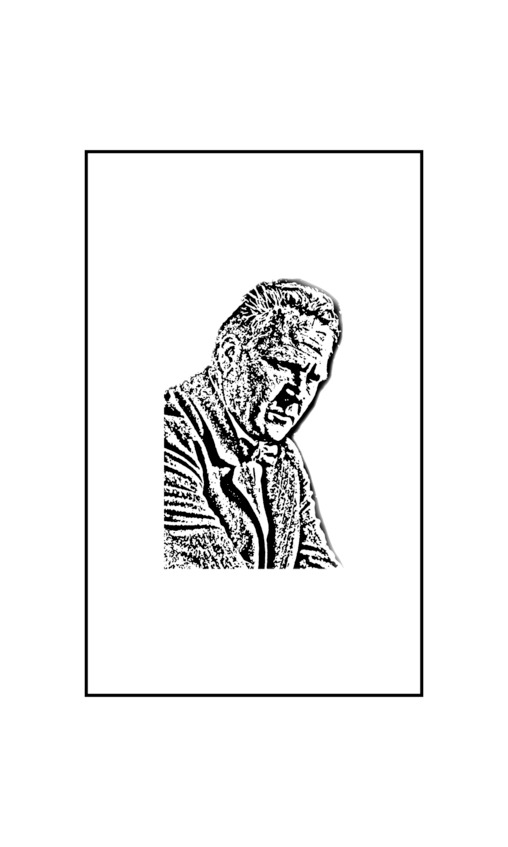
Оперный и камерный певец (бас).
Родился 1 (13) февраля 1873 года в городе Казани Казанского уезда Казанской губернии (Российская империя; ныне – Российская федерация). Умер 12 апреля 1938 года в Париже (Франция). В 1984 году его останки перезахоронены в Москве.
Один из ведущих оперных артистов своего времени, оказавший влияние на развитие оперного искусства и актерского мастерства в ХХ веке, а также на популяризацию русской оперы за границей.
Уже к началу века Шаляпин обладал широкой известностью, выступая в лучших оперных театрах, в том числе в составе трупп Большого и Мариинского театров (последний он возглавлял в качестве художественного руководителя в 1918—1921 годах). С 1901 регулярно гастролировал за рубежом. В 1919 первым получил звание народного артиста Республики.
В 1921 году покинул Советскую Россию, обосновавшись главным образом в США (в его честь открыта звезда на «Аллее славы» в Голливуде), также проживал в Финляндии, Великобритании и Франции. Продолжал регулярно гастролировать по всему миру. С 1935 – постоянно в Париже.
Владимир Дукельский [Мой Нью-Йорк, 1921/1955]88
Всякий великий город – а заслуживающих такое определение немного – производит мгновенное и особенное воздействие на каждого, кто попадает в него впервые. Так вот, Нью-Йорк бьёт прямо по зубам.
Конечно, в 1921 году облик Манхэттена был ещё не таким впечатляющим, как в 1935, но бóльшую часть первых трёх дней [после прибытия] мы провели в полном изумлении… Нью-Йорк казался даже грязнее Константинополя, но в наэлектризованном воздухе веяло каким-то лихорадочным ожиданием. Город был новым, несимпатичным и немного франтоватым, неловко юным, подобно неуклюжему щенку волкодава с непомерно длинными лапами.
Как и все чудеса света, вроде Эйфелевой башни в Париже или лондонского Тауэра, небоскрёбы уже спустя несколько дней перестали казаться чем-то необыкновенным, хотя ночной Бродвей по-прежнему являл собой удивительное и неповторимое зрелище. А вот центральный парк разочаровал – деревья хилые и анемичные, а окружавшие их высокие здания словно выжимали весь сок из всего этого безрадостного оазиса.
Вообще, существует несколько Нью-Йорков. Например:
– вполне дружелюбный предпиквиковский Нью-Йорк Вашингтона Ирвинга;
– элегантная, в духе Леди Блессингтон, столица несправедливо забытого Натаниэля Паркера Уиллиса89;
– Манхэттен продавщиц из рассказов О. Генри;
– иммигрантский Нью-Йорк Горького и Короленко;
– безжалостный город-монстр, воспетый Джоном Дос Пассосом;
– Нью-Йорк Скотта Фицджеральда, блистающий фляжками и бёдрами, опьянённый дешёвым джином и золотой молодёжью;
– полный достоинства изысканный клубно-литературный мир Генри Джеймса;
– Гринвич-Виллиджский гирляндочный образ большого города Максвелла Боденхайма90;
– излюбленное прибежище псевдо-аристократов, изображённое Беном Хектом91;
– Гарлемо-Монпарнасский рай Карла Ван Вехтена92;
– модный центр прилизанных пройдох Джерома Вейдмана93.
Мы увидели, почувствовали и попробовали немного от каждого, кроме рафинированного кирпичного Верхнего Вест-Сайда учителей пения – города стареющих экс-примадонн с крашенными волосами и поникших гардений, смертельных музыкальных вечеров с балладами Таун-холла, надоевшего куриного салата и слабых коктейлей; этот город остаётся невоспетым, и жаль, ведь в двадцатые это было занятное место – место, куда нас переселили из нашей гостиницы на Мэдисон-авеню.
Нью-Йорк: Плюсы и Минусы
<+>
– зубы, ноги и руки нью-йоркской женщины, лучшей в мире;
– устрицы в жёстких ракушках;
– закат на Вашингтон-Сквер;
– вопреки расхожему мнению, исключительные дружелюбие и гостеприимство нью-йоркцев;
– Мюррей-Хилл94;
– эйфория первого выступления (за кулисами и на сцене);
– Роберт Бенчли95, Айра Гершвин96 и доктор Лео Мишель (любимый Бродвейский врач);
– все Гершвины;
– животы танцовщиц в Парадизе и Голливуде;
– странные диалекты Баланчина, Сэма Лайонса97 и Сесила Битона98;
– поющие голоса всех цветных артистов;
– поэзия аптекарской Лиггетта99.
<—>
– невозможность заниматься любовью в нью-йоркских такси;
– Бродвей и Шестая Авеню в дневное время;
– цена простого омлета в клубе Двадцать Один;
– река Гудзон, которая должна быть на месте Ист-Ривер, и наоборот;
– акцент нью-йорской женщины на гламуре и почти полное отсутствие обаяния;
– Центральный Парк, одно из самых унылых мест Нью-Йорка;
– упадок и псевдо-высоколобость шоу-бурлесок и их последователей;
– трудность в перемещении между Ист-Сайдом и Вест-Сайдом, когда спешишь;
– бесконечное и повсеместное прославление в Нью-Йорке иностранных самозванцев;
– трудность в бравировании собственной мужественностью в артистических салонах.
V. America the Beautiful
После Нью-Йорка, восточных врат Америки, вторым центром русской эмиграции стала Калифорния, западные врата, а особенно совсем ещё молодой и только набиравший известность Лос-Анджелес. В начале двадцатого столетия это был небольшой пограничный город на краю неприветливой пустыни, лишённый европейской культуры и большинства удобств. Если он и был чем-то знаменит, так это, главным образом, своим мягким климатом, за что многие его и выбирали, а также киноиндустрией, которая только начала перемещаться сюда из Нью-Йорка.
В 1920-е годы русские эмигранты быстро создали в Голливуде яркую и дружную общину, с собственными книжными и прочими магазинами, кафе, ресторанами и даже своей православной церковью, которая стала духовным центром всей диаспоры. В отличие от других иммигрантов – венгров, французов, британцев, немцев, шведов, поляков, чехов – у русских больше не было родины, некуда была возвращаться, а потому в Голливуде они обосновывались не временно, а насовсем100. Западный Голливуд остаётся центром русской общины и сегодня.
Вообще, эту «чудесную страну»101, «край солнца, нефти, апельсинов и кинематографических звёзд»102, «роскошной»103, благородной и глубоко волнующей природной красоты104 облюбовали и многие представители европейской культурной эмиграции, вроде Томаса Манна или Арнольда Шёнберга105. Несмотря на то, что в отношении музыкального климата Лос-Анджелес сильно уступал другим крупным городам, и вообще в артистических кругах считался порой вульгарным, композиторы и прочие деятели искусства что-то в нём находили106.
«…Los Angeles… пожалуй, это лучшее место в Соединенных Штатах»107, – писал Сергей Рахманинов в письме 1924 года. В то время город ещё не задыхался в ныне знаменитом смоге. В декабре 1920 года Сергей Прокофьев отметил в дневнике: «Утром приехал в Лос-Анжелес, знаменитый тёплый уголок. Ещё три-четыре года назад мало кто знал о нём, а теперь Los Angeles по населению обогнал Сан-Франциско»108.
Именно в Лос-Анджелесе на долгие годы обосновался Игорь Стравинский, почти сразу же после переезда в Соединённые Штаты в 1939 году, и в общей сложности прожил здесь почти так же долго, как и в России.
Ещё со времени моей первой поездки [в этот город] в 1935 году, я подумывал поселиться где-нибудь в пригороде отвратительного, но восхитительного Лос-Анджелеса, прежде всего, памятуя о своём здоровье, но также и потому, что именно Лос-Анджелес казался мне лучшим местом в Америке, чтобы начать новую жизнь109.
Впрочем, какое-то время спустя, «отвратительная» сторона города стала для Стравинского преобладать над «восхитительной», что в конечном итоге заставило его в 1969 году перебраться в квартиру в Нью-Йорке.
…Голливуд всё увядает110… потому, что экономическое процветание, созданное войной уступило место маразму… и потому, что большинство наших самых интересных знакомых, которые раньше частенько приезжали в Калифорнию, теперь возвратились в Европу…111
В таком же пессимистичном духе выдержаны были и другие письма композитора конца 1940-х годов. «…Голливуд безынтересен, Калифорния вообще сильно изменилась, даже климат…»112 К последним годам жизни Стравинского Лос-Анджелес приобрёл уже те черты, которыми знаменит и поныне: «…Все [наши друзья] покидают California из-за плохого воздуха (туманы и smog). Зимой ещё лучше, а летом невыносимая жара. Но где же жить? В больших городах всюду стало хуже…»113 Полную солидарность в оценках проявлял и друг Стравинского Николай Набоков: «Голливуд из шикарной столицы кино быстро превращался в грязный муравейник, где солнце светило сквозь пелену смога, а знакомых лиц становилось всё меньше»114.
В октябре 1963 года в письме к Набокову бессменный секретарь Стравинского Роберт Крафт отмечал, что тот был бы рад любой возможности уехать из Голливуда, хотя бы на время – настолько город стал невыносимым. Друзей у композитора действительно здесь оставалось всё меньше, а кинозвёздная публика раздражала его всё больше; водить машину он не мог, ходил с трудом и вообще проводил большую часть времени дома, в окружении врачей и налоговых юристов. При этом, в полном соответствии своей противоречивой натуре, самим голливудским домом композитор был вполне доволен и не желал переезжать, даже когда появлялась перспектива улучшить жилищные условия115.
В несколько иных условиях находились все те, для кого Лос-Анджелес стал не только местом проживания, но и непосредственным местом работы, главным образом, очевидно, на киностудиях или в смежных областях, индустрии развлечений в целом. Кто-то же просто не имел ничего против атмосферы гламура и сомнительной экологии и без особого труда мог приспособиться к новым условиям. В конце концов, население Калифорнии вообще и Лос-Анджелеса в частности продолжало неуклонно расти. В 1960-е годы, незадолго до отъезда Стравинского на Восточное побережье, сюда переселился Николай Слонимский, а несколькими годами ранее – и Владимир Дукельский.
Теперь я – убеждённый калифорниец, и никуда больше не перееду, хотя мне по-прежнему кажется, что, по контрасту с Нью-Йорком, жить в Калифорнии хорошо, но посещать её неинтересно. Краткое пребывание в Лос-Анджелесе даже наблюдательному визитёру принесёт скромные впечатления. Вообще, всё тут смахивает на разбавленную Ривьеру, только в большем масштабе. Бензоколонки куда внушительнее пальм, а здешние обитатели, чистенькие и крупные, выглядят так, словно они всю жизнь только тем и занимались, что ели здоровую пищу, пили фруктовые соки и загорали, катаясь в своих открытых кабриолетах. Погода настолько однообразно хороша, что никогда не становится темой для разговора. Расстояния такие большие, что никто в Лос-Анджелесе никогда не «заскакивает» в гости к друзьям, которые обычно живут не ближе, чем в десяти милях. Ночная жизнь ничем особым не выделяется – в Нью-Йорке и Чикаго можно увидеть всё то же самое, только получше. Наконец, те, кто работает на студиях или в офисах, ложатся спать в десять вечера, а встают в половину седьмого или в семь, так что, всем прочим остаётся только бухать или смотреть кино, да и то, если есть машина. А без машины тут вообще делать нечего116.
Прочие города, если и не поражали, как Нью-Йорк, размерами, и не привлекали, как Лос-Анджелес, звёздностью и климатом, в большинстве своём тоже производили вполне благоприятное впечатление – многие русские музыканты гастролировали по Штатам, и в их распоряжении был богатый материал для сравнения.
Немало путевых впечатлений и наблюдений можно обнаружить в дневниках Прокофьева. В Сан-Франциско композитор писал: «Окрестности очень красивы, а благоустройство, довольство и богатство (всех классов общества) так и улыбается со всех сторон»117. Опять же, Нью-Йорк, самый впечатляющий из городов, часто напрашивался в сравнение со своими «младшими» собратьями: «Хотя Сан-Франциско не Нью-Йорк и не Чикаго, но всё же он поражал своим оживлением, благоустройством и, главное, удивительным богатством: магазины ломятся от превосходных вещей и, очевидно, доллары текут рекой»118. Уступал Нью-Йорку и Чикаго, город, занимавший не последнее место в творческой карьере музыканта: «Сам город разбит на правильные квадратики, застроенные небольшими домами, которые совсем не так импонируют, как большие домины Нью-Йорка. Только центральная часть города – Michigan Avenue – великолепна»119. «Я ожидал от Чикаго ошеломляющего движения. Оно и было, но город мне показался каким-то тесным, да и некрасивых, закопчённых домов было немало. Я гулял мимо ослепительных магазинов, но мои доллары кончились и магазины были для меня безопасны…»120 «Вообще, дым и туман – эмблемы этого города. Avenue по берегу озера [Мичиган] очень хороша, магазины роскошны, но сам город тесен и прокопчён»121, – добавлял композитор.
Подобные Чикаго промышленные города вообще не вызывали большого энтузиазма у Прокофьева: «В одиннадцать часов дня Буффало, город Буйвола. Большой, грязный и скучный для глаза»122. «Утром Pittsburg, царство дыма и копоти, как принято говорить…»123 А вот города поменьше, и не такие суетливые, гораздо лучше подходили вкусам музыканта: «Вашингтон мне чрезвычайно понравился, это один из лучших американских городов: просторный, спокойный, зелёный»124 (близкий друг Прокофьева Дукельский называл Вашингтон «маленьким Парижем с южным акцентом»125). «Cleveland такой же хороший американский город, как и все американские города»126, – подытоживал Прокофьев.