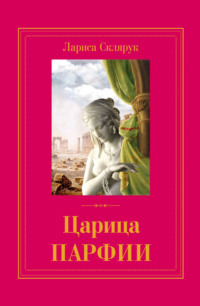Полная версия
Горечь сердца (сборник)
Стыдно, ох как стыдно идти за мужем в корчму, где пропивает он деньги, полученные за работу. Но чем же будет она справлять субботнюю трапезу? В доме хоть шаром покати. Что ж ей, приличной женщине, словно нищей, идти к синагоге? Там у входа все скамьи заняты нищими и попрошайками. После молитвы их пригласят к семейным столам, всех по домам разберут, никого не забудут, никого голодным не оставят. Но я скорей умру от голода, чем пойду просить подаяния. Я-то умру, а дети как же? Ой, горе мне, горе. Ой, стыд-то какой!
Несчастье произошло прошлой осенью. Умер средний сын. И с его смертью пришло в дом разорение. Муж не мог простить Всевышнему эту смерть. Он обращался к Богу не с мольбой, а с претензией, с негодующем воплем, жалуясь на его суровость.
– Как ты мог быть таким жестоким? – громко вопрошал Соломон Бога. – Отнять такого сына! Как самостоятельно «плавал он по морю Талмуда». Он достиг бы высокого уровня учёности, он бы возвысил себя, и отца, и семью. Сердце моё разрывается на части. О, добрый сын мой, почему так быстро скрылся ты с глаз моих?
Горе снедало Соломона, и он запил. Пропивал всё, что зарабатывал. Семье доставались лишь гроши, которые Соня находила в его карманах. Рухнуло и без того шаткое благополучие семьи.
Соня не обладала бурным темпераментом многих местечковых дам и их безостановочной речью, сыпавшей на головы своих мужей вороха проклятий. Она была скорей молчальницей.
– Тем хуже для неё, – прозорливо сказала как-то Зелда.
Соня не проклинала мужа и всё надеялась, что тот образумится и вновь возьмёт на себя заботы о пропитании семьи. И будут жить они тихо, скромно, но прилично, довольствуясь скудным достатком. Она не давала безнадёжности овладеть ею. Она не сдавалась.
Корчма стояла в стороне от дороги. Приземистое широкое здание из толстых досок, небрежно поставленное на фундамент из камней. Соня присела на пень. Её грудь от усталости часто вздымалась. Женщина словно не могла надышаться.
– Иди, Иосик, найди отца. Скажи, я жду его здесь.
Мальчик повернулся, нерешительно пошёл к двери корчмы. Взобрался на затоптанный порожек. За дверью раздавался гул от десятков голосов. Иосик повернулся, взглянул на мать, словно спросил: «Ты и вправду хочешь, чтобы я вошёл туда?»
Соня утвердительно кивнула головой. Мальчик толкнул дверь. На секунду голоса усилились.
Войдя в помещение с низким потолком и закопчёнными стенами, Иосик едва не задохнулся от удушливого смрада. Пахло сивухой и пивом, тяжёлым мужским потом, разлагающимся конским навозом. Под ногами на затоптанном полу валялись окурки, яичная скорлупа. Сквозь густую махорочную синеву перед глазами ребёнка замелькали распаренные припухшие физиономии посетителей, закоптелые лица снующих половых. Грязь и убожество.
Мальчика затошнило, в глазах у него потемнело. Он судорожно втянул в себя нечистый воздух и, справившись с тошнотой, побрёл по корчме, заглядывая в лица.
Одни пьющие тянули напитки с лицами безжизненно-равнодушными, другие были нервными, дёргаными, крикливыми, дымили папиросами, сосали глиняные трубки.
Соломона Иосиф отыскал в дальнем углу. Отец сидел за столом, покрытым грязной скатертью неопределённого цвета. Концы скатерти были засморканы. На столе среди пустых и полных бутылок горела свеча. Соломон обеими руками колотил себя в грудь и всхлипывал.
– Пойдём. Пойдём. Там мама, – задёргал Иосик край рубахи отца.
Выпивая, Соломон знал, что ему будет очень плохо. Что он будет страдать и физически, и нравственно, бесконечно укоряя себя в своей слабости. Но то состояние, которое он испытывал после трёх стаканов вина – состояние облегчённой радости, даже эйфории, когда всё кажется не тяжело и не страшно, состояние пьяного восторга, пусть недолгое – тянуло и притягивало к себе. Отказаться от него у Соломона не было сил.
Держа сына за руку, Соломон неверной походкой вышел из корчмы. Его мягкая физиономия заискивающе улыбалась. Голова приятно кружилась. Горе временно утонуло в пьяном тумане.
Лицо Сони раздваивалось. Усилием воли Соломон пытался удержать раздвоение Сони, но вторая Соня мягко отъезжала и отъезжала в сторону. Соломон напрягал зрение. Соня возвращалась, сливалась в единое целое и вновь раздваивалась. Соломон ухмыльнулся пьяно и глупо. Хотел что-то сказать, но качнулся и, продолжая нелепо улыбаться, опёрся на худенькое плечо Иосика.
Сумрачное лицо жены тревожило и раздражало. Соломону не хотелось возвращения в сумрак. Он пьяно таращил глаза, переступал с ноги на ногу.
– Зачем ты здесь, жена? Позоришь меня перед людями.
– Всю неделю дети не видели мяса, всю неделю ели чёрный хлеб с луком. Завтра суббота, мне нужны деньги.
Соня протянула ладонь, словно за подаянием. Соломон пожевал губами, неуверенно принялся искать по карманам. Протянул несколько грошей. Соня посмотрела на монетки и тихо заплакала. Морщинки её лица пришли в движение, задёргался подбородок, и крупные капли неслышно потекли по ложбинкам искривлённых губ, срываясь и падая в пыль дороги.
Соломон продолжал стоять, опираясь всей тяжестью своего тела на щуплое плечо мальчика. Эта тяжесть мешала Иосифу рвануться к матери, уткнуть лицо в подол её платья, согреть своими хрупкими руками зябкие её колени. Он не мог шевельнуться, он лишь открыл рот, словно намеревался зарыдать, но молчал.
Косые лучи заходящего солнца окрасили золотом соломенные крыши. Тишина постепенно разливалась над местечком. С лугов, окружавших штетл, долетел сладкий запах сена. На пруду важно заквакали лягушки. Назойливо застрекотали кузнечики. Неприютно прозвучал одинокий крик неведомой птицы.
На безбрежном небе стали проявляться звёзды. И странное чувство охватило Соню. Словно она уже осталась одна под этими холодными, ледяными звёздами. Слёзы её высохли. По бледному лицу разлилось равнодушие. Глаза приобрели нездешний блеск.
Через месяц Соня слегла. Евреи народ жалостливый, сердобольный. Её навещали, приносили еду, гладили по щекам бедных деток, совали им то яблоко, то пряник. Соломон вяло топтался в комнате, не зная, чем помочь больной. Все в доме со страхом предчувствовали беду.
Прикованная к постели, медленно угасая, Соня сжимала в руках окровавленный платок, смотрела тоскующим взглядом на детей, на свой дом, приходящий в полный упадок.
Пока она могла ходить, эта мужественная женщина сражалась с бедностью, как с главным своим врагом. Не жалея себя, она мыла, стирала, скребла полы, заколачивала дыры в старом полу, и бедность не так бросалась в глаза, но теперь, когда Соня слегла, разорение полезло из всех углов дома. Оно наполнило углы комнаты мелким сором, шевелило усами чёрных тараканов из щелей стены, высовывалось мордочками мышей из прогрызаемых в полу дыр, пахло грязным бельём, селёдкой, луком, керосином, помоями, запустением, болезнью.
Забившись в угол, Иосик смотрел на мать испуганными глазами. Ему ещё было не дано постичь всю тяжесть надвигающегося на него несчастья. Но когда он изредка встречался глазами с лихорадочным взором матери, на его светлые глазки навёртывались слёзы. И тогда Соня говорила:
– Иди, иди, погуляй, Иоселе. Что тебе здесь делать?
Иосик убегал на улицу.
Ещё через месяц больной стало совсем плохо. Она перестала разговаривать, и теперь даже участь детей, их будущее не могли заставить её выйти из тяжкого раздумья. На старой перине, комковатой подушке, прикрытая лоскутным одеялом, ещё более похудевшая, она смотрела ввалившимися глазами в потолок. Лицо приобрело восковую бледность, губы превратились в две бледные полоски. Навещающие Соломона соседи шептали:
– Глаза стали уходить под лоб. Это конец.
Соня умерла на исходе холодной октябрьской ночи. Лениво занимался мутный рассвет. Дождь то накрапывал, то унимался, то моросил опять. Со всех концов городка люди пришли проститься с Соней. Битком набились в маленькую комнату. Слышались женские рыдания. Тяжко вздыхала толстая Зелда.
В полном людей доме детей задвинули в угол. И они сидели там, несчастные, брошенные, держались за руки. Не плакали, не вполне осознавая, что происходит.
Соломон, казалось, и вовсе отупел. Семь дней он просидел на полу, сам окаменевший и безучастный, уставившись застывшим взглядом в одинокую тусклую сальную свечу, горящую перед кривым обмазанным глиной окном. Медленно стекал жир на засаленный медный подсвечник. Сквозь окно глядел серый вечер, и жуткая тоска вползала во все углы комнаты. Плечи Соломона были сгорблены, руки дрожали, тело высохло, щёки глубоко ввалились. «Всё кончено!» – думал Соломон, окончательно отделённый от остальных тяжкой мукой великой вины и тоски. В душе его было пусто и глухо. Дети боялись его отчуждения и не подходили к нему.
После смерти жены Соломон вновь запил. Как-то февральским вечером, выйдя из корчмы, он заблудился, долго бродил, не находя дороги. Промёрз. Добравшись до дома, слёг, и вскоре его не стало.
Четыре еврея почти бегом отнесли умершего на кладбище. Десять стариков прочли заупокойную молитву: «Боже всемилостивый, обитающий в горних высях! Даруй блаженный покой под крылами величия Твоего, на ступенях святых, пречистых, сияющих небесным лучезарным светом, душе, отошедшей в твой мир».
И вновь дети уныло сидели у холодной печи. Они знали, что их разлучат. Раю забирала старшая сестра Минда, а Иосика должен был забрать брат Пиня. Так, во всяком случае, думали соседки, обсуждая между собой судьбу сирот.
– Копель Зорах богат. Владеет продуктовой лавкой.
– Магазин у него, магазин колбасный.
– Будет сирота как сыр в масле кататься.
– Ну, хоть в этом ему повезло.
Брат Пиня был щуплым молодым мужчиной с острым носом, редкой бородкой, встревоженными глазами. Одет он был довольно безвкусно, хотя и в соответствии с модой того времени, что вызвало в местечке много разговоров. На нём были узкие брюки, туго застёгнутый пиджак, стоячий, жёстко накрахмаленный воротничок, мягкая фетровая шляпа, чёрные туфли на пуговицах. Местные косились на Пиню.
В своем поведении Пиня был неровен и ненужно суетлив. Он часто останавливался и на мгновение замирал, словно в сомнении, словно ожидая дальнейших приказаний. Встретив ждущий взгляд Носика, обнимал мальчика, прижимал к себе под умилённую, растроганную воркотню женщин.
Носик растерянно утыкался носом в гладкую холодную ткань жилета. Соседки причмокивали от восхищения губами. Но Пиня, уже отстранив мальчика, задумчиво смотрел в окно. Печаль и беспокойство мешались на его лице, подёргивали мягкие губы. Поведение Пини пугало и без того испуганного, потрясённого Носика.
Уже давно уехала Минда, забрав с собой Раю и остатки Сониной посуды, а Пиня всё ходил по старому разорённому дому, бормотал что-то под нос, жестикулировал, словно готовил речь. Носик всё сильнее съёживался на лавке в углу. Может быть, если он станет меньше, Пине легче будет забрать его с собой.
На улице возле дома Пиню ждал экипаж. Угрюмый возчик в старой поддёвке[10] и засаленном картузе сидел на ступеньке крыльца, поигрывал кнутом в рыжих ручищах. Соседские мальчишки бродили вокруг, с упоением разглядывая сидение, туго набитое волосом и обтянутое синим потёртым сукном. Порой кто-нибудь из смельчаков, протянув руку, дотрагивался до сидения, чтобы удостовериться, что оно мягкое, или пытался поднять кожаный складной верх брички. Извозчик неприязненно взглядывал на сорванцов из-под кустистых бровей, и дети, восторженно визжа, бросались врассыпную.
– Где твои вещи? – спросил наконец Пиня. Иосик встал, прижимая к себе пёстрый платок, в котором лежали его бельё и рубашки. Пиня посмотрел на жалкий узелок, вздохнул и взял Иосика за руку. Ему больше нечего было делать в этом доме.
Извозчик снял с лошадиной морды торбу с овсом, залез на козлы, удобно устроился и смачно чмокнул:
– Но! Поехали!
Лошадь не спеша затрусила по просёлочной дороге, мягко зашуршали колёса по песку. Мальчишки бежали следом за экипажем, глотая пыль.
Глава третья
В Харьков они приехали вечером. Город потряс воображение мальчика. Он никогда не покидал местечка и никогда ещё не видел ничего столь роскошного. И чего тут только не было, в этом городе!
Золотые лучи заходящего солнца скользили по зданиям из жёлтого, серого, красного кирпича, по деревьям, по широкому каменному мосту через реку Лопань. Празднично светились масляные фонари. Зеркальные витрины магазинов блистали шелками и украшениями.
По улицам неспешной беспрерывной волной двигались гуляющие. Мужчины в кургузых пиджачках вели под руки удивительно красивых женщин в громоздких шляпах с перьями. Звонко цокали лошадиные подковы по булыжной мостовой, слышались крики извозчиков, голоса прохожих, фабричные гудки. Прогромыхал жёлто-красный электрический трамвай. И над всем этим городским шумом, как бы поверх него, плыл густой колокольный звон. Колокола пели, благовестя к вечерне.
Приоткрыв от изумления рот, стараясь ничего не пропустить из проносящихся перед глазами чудес, Иосик вертел головой так, что у него в конце концов заболела шея.
Оставив позади шумные улицы, экипаж подъехал к одноэтажному деревянному дому, оштукатуренному и выкрашенному в голубой цвет. Вывеска, написанная светлыми буквами по тёмному кровельному железу, гласила: «Копель Зорах. Вина и закуски».
Булыжная мостовая перед домом поросла травой, что придавало тихой улице провинциальный вид. Старый фонарь на углу часто замигал, затем громко зашипел и погас. На крыльце соседнего дома кудрявый парень в картузе лениво растягивал меха гармошки. Лузгая семечки, хихикали девушки.
– Прибавить надо, господин хороший. Дорога очень плохая, да и ждать пришлось долго, – привычно гнусаво затвердил извозчик.
– Заплачу, сколько подряжались, – нервно отрезал Пиня, скользнув беспокойным взглядом по окнам дома. Возчик смачно сплюнул.
В тёмной прихожей было две тяжёлые двери. Одна вела в жилую часть дома, вторая – в лавку. В большой комнате, оклеенной обоями, у стола сидел грузный пожилой мужчина с благообразной внешностью. Почтенная седая борода ложилась на грудь, высокий лоб прорезали морщины, в глубоких глазницах прятались небольшие глаза. Жёсткий нос сильно выдавался вперёд. Это и был Копель Зорах, тесть Пини.
Надев очки, мужчина внимательно оглядел Носика. Под взглядом Копеля мальчик переминался с ноги на ногу, не понимая этого взгляда, но ощущая его явную недоброжелательность.
Копель Зорах не так давно покинул штетл, но уже ощущал себя городским жителем. Разбогатевший и чванливый, он не желал иметь родственников из местечка. Это обстоятельство бросало на него неблагоприятный отсвет. Всё же у него не какая-то там лавчонка для бедняков с окрестных улиц. Покупатели его, Копеля, магазина – приличные обеспеченные люди. И прибавление родни в виде нищего мальчика его, естественно, не радовало. Нищие родственники никому не нужны, с ними не хотят демонстрировать знакомства. Хотя иногда можно пожертвовать им какую-либо старую ненужную вещь, приятно ощутив себя при этом благодетелем.
В комнату вошла тучная женщина, остановилась поодаль, демонстративно сложив руки под огромной подтянутой корсетом грудью. Лицо её было гладким, круглым и розовым, как бок поросёнка. Второй подбородок вялыми брылями свисал над шеей. Иосик улыбнулся, наклонил голову, сказал вежливо:
– Шалом.
Голда посмотрела отстранённым взглядом. Достала из буфета тарелку с кусочками колбасы, поставила на стол.
Голодный мальчик ел поспешно. После каждого проглоченного им куска Иосик вскидывал на женщину заискивающе-виноватый, по-детски преданный взгляд и пытался улыбнуться. Ему так хотелось понравиться ей и тому суровому старику, что сидел в кресле.
Копель смотрел на мальчика, сокрушаясь и о его великом аппетите, и о предстоящих хлопотах:
– Документы придётся выправлять. За чертой только богатым да образованным жить разрешено. Не хочет царь-батюшка распустить бедных евреев по всей России.
В комнату медленно вплыла томная красавица с мелкими чертами лица и причёской из взбитых волос, жена Пини – Тайбель. Женщина была беременна. Её большой живот натягивал чёрное платье. Тайбель незаметно поглаживала рукой живот и, словно вся сосредоточенная на новых своих ощущениях, смотрела на окружающих равнодушными коровьими глазами. Она поднесла к глазам странные очки без дужек. Иосиф только позднее узнал, что эта вещь называлась лорнетом и была в чести у харьковских модниц.
– Мама, прикажите его выкупать. Вдруг у него вши. И пейсы эти отрежьте, – брезгливо протянула Тайбель. Иосик быстро прижал пейсы ладошками к щекам, вскинув на Тайбель огромные от смятения глаза.
– Поел? – спросила Голда. Иосик сглотнул и хотел сказать, что он поел бы ещё немного, но, из робости соглашаясь, кивнул головой. Женщина протянула руку и, забрав тарелку с едой, заперла её в буфет.
Постелили Иосику в углу комнаты. Лёжа на полу, на старом рваном одеяле, свернувшись в жалкий комочек, мальчик долго горько плакал, постепенно осознавая всю непоправимость своих потерь. Это было особенно тяжело для восприимчивого, эмоционального ребёнка, каким был Иосик. Он жестоко страдал от отчуждения, от холодности, с которыми к нему отнеслись. Ведь он не только потерял родителей, он ещё и выпал из привычной ему среды местечка. Пусть жалкой и мелочной, серой и трагичной, но родной и, главное, понятной. Перенесённый в другую обстановку, он терял и привычные слова, и привычные жесты. Жестокий чужой мир окружал его, и, казалось, не было в нём никого, кто бы пожалел несчастного мальчика. Как тяжело быть без близких… Как тяжело чувствовать, что ты не нужен, что тебя не любят… Но во сколько раз это тяжелее ребёнку, который ещё совершенно не защищен, который ещё не нашёл в своей душе утешения, который ещё цепляется взглядом за каждого взрослого, благожелательно на него взглянувшего, и словно молит безмолвно, широко распахнутыми глазами – ну полюби меня, полюби, полюби.
Ощущение одиночества было настолько острым, что, казалось, Иосик не мог вздохнуть. Невыразимо тяжкие слёзы текли ручьями. В полном отчаянии заплаканный и несчастный Иосик наконец заснул, чтобы с пробуждением привыкать к горькой доле круглого сироты. А старый дом, равнодушный к горю ребёнка, был наполнен шорохами. Поскрипывали брёвна, посвистывал ветер в оконных рамах, слышалась невнятная возня мышей под половицами.
Утром следующего дня Пиня взял Иосика за руку, привёл в магазин и исчез. В просторном помещении магазина было темновато. Голда, стоя у конторки с кассой, выстрелила в мальчика недобрым взглядом. Иосик попятился в угол, прислонился к бочке с мочёными яблоками, глядел затравленным зверьком, как Копель, приветливо улыбаясь, обслуживает покупательницу. Нарезает колбасу, взвешивает конфеты…
Покупательница прошла к кассе. Голда, растянув в улыбке губы, взяла деньги, крутанула ручку механической кассы, небрежно бросила мальчику:
– Ну что ты стоишь, как истукан? Беги за извозчиком.
Иосик испуганно отскочил от бочки. Куда бежать?
Сердце бешено заколотилось о рёбра. Под жёстким взглядом хозяйки выскочил на улицу. Завертел головой. Побежал. На углу улицы экипаж. Серая лошадь с подстриженным хвостом спокойно объедала кору дерева. Извозчик в долгополом синем халате, высоко подвязанный кушаком, подрёмывая, клевал носом. Иосик подбежал и остановился. Он не знал ни одного слова по-русски. В смятении он затеребил полу халата. Мужчина открыл глаза:
– Чего тебе, жидёнок?
Иосик замахал руками, пытаясь объяснить, куда нужно ехать. Мужчина повернул голову. Возле дверей магазина стояла красиво одетая женщина и Копель, державший в руках два больших свёртка, перевязанных бечёвкой. Извозчик встрепенулся, разобрал поводья и расторопно подал экипаж. Тронувшись с места, он бросил монетку к ногам мальчика.
Копель положил свёртки на сидение рядом с женщиной и раскланялся на прощание. Иосик подошёл к Копелю:
– Вот, – сказал он бесхитростно, раскрывая ладонь и показывая грош. Копель странно взглянул на мальчика, но монетку забрал и ушёл в лавку. Неподалёку сидел чистильщик сапог, по возрасту не старше Иосика. Он крикнул мальчику со смехом:
– Зачем отдал? Это твой грош. Ты же его заработал. Вот дурень так дурень. Первый раз такого вижу. Следующий раз не отдавай. Леденцов в кондитерской купим.
Носик, конечно, не понял слов чистильщика, но уловил насмешливость интонаций. Он провёл рукой под носом, что вызвало новые насмешки:
– Ну и нос. На двоих рос, а одному достался.
Носик доброжелательно смотрел на хохочущего чистильщика, на присоседившегося к этому смеху прохожего, на стоящего неподалеку презрительно усмехающегося дворника, скрестившего на груди мощные руки. Мальчик ещё не ожидал от всех окружающих зла. Он этому ещё только учился. А сейчас его детская доверчивость сочеталась с поразительной способностью терпеть. Тут из лавки раздался вязкий крик хозяйки:
– Где этот дармоед?
Носик стремглав влетел в лавку и через минуту уже шёл следом за другой покупательницей, нагруженный свёртками. Так началась его новая жизнь. Жизнь сироты. Его поднимали с рассветом. Он стирал пыль с кассы, прилавка, полок, протирал стёкла витрин, мыл полы, мел тротуар перед магазином. Бегал за извозчиком, носил покупки. Он был не очень расторопен, но чрезвычайно старателен, быстро всему учился. Через два месяца он уже сносно говорил по-русски, хотя и с сильным местечковым акцентом, что вызывало в лучшем случае смех окружающих, в худшем ему давали подзатыльник.
Спал Носик в маленьком чулане на деревянном сундуке. Он не бывал теперь голоден, так как обедали все вместе, за общим столом. Во главе стола сидел сам хозяин, Копель Зорах. Рядом с ним его жена Голда. Дальше, подав еду, усаживалась толстая кухарка Фейга в постоянно засаленном фартуке. С другой стороны стола сидели брат Пиня и его жена Тайбель. И на самом конце, в стороне от всех, садился Иосик.
Ему постоянно напоминали, что он чужой в этом доме. Глядя, как мальчик ест, Голда обязательно кривилась:
– Ну и аппетит у этого… Не ест – глотает. Не напасёшься. Чума его возьми!
– Он же ребёнок, он растёт. И потом, он не даром ест хлеб, он трудится, – пробовал вступиться за брата Пиня.
– Трудится… Скажите-ка…
– Зачем вы его всё время проклинаете?
– Вейз мир[11], – проклинаю?! Ну да, проклинаю. Но разве я прошу Бога меня слушать?
Твёрдой рукой вёл Копель бизнес. Твёрдой рукой вела Голда дом. Теперь Иосик понимал, что Пине тоже живётся в этом доме несладко, и ежедневно за столом Копель не отказывал себе в удовольствии напомнить зятю, что человек он без капитала. Лишь однажды Пиня не выдержал и взбунтовался.
– Я был илуем[12], – закричал он, вскакивая с места и размахивая руками, – и именно такого зятя вы хотели. Теперь я тружусь от зари до зари, а вы ещё осмеливаетесь попрекать меня. Из Иосифа вы сделали мальчика на побегушках, а он должен учиться.
– Мальчик на побегушках в галантерейной лавке пять рублей в месяц получает, – неожиданно сказал Иосик. Это было его большой ошибкой. Голда буквально прожгла его взглядом.
Копель немного опешил от непривычного взрыва Пини. Он пожевал губами и спросил довольно спокойно:
– Зачем ему учиться? Да и кто будет платить за его учёбу? Я не собираюсь. Ты, словно враг, ждёшь нашего разорения. Достаточно и того, что он живёт в таком доме. Сыт, одет.
Если со словом «сыт» никто спорить не собирался, то слово «одет» было явно сказано сгоряча. Та одежда, в которой Пиня привёз Иосика, давно расползлась на части, превратилась в лохмотья. И мальчик теперь ходил в старой кофте Тайбель, подпоясав её верёвкой, а на ногах у него были её же старые туфли, каблуки у которых Копель собственноручно отпилил. Из прежней одежды у Иосика остался лишь потрёпанный картуз, который он плотно натягивал на остриженную и без пейсов голову.
– Нечего сказать, сокровище. Светило науки, – не преминула вставить Голда свои «пять копеек», скривившись так, словно укусила лимон. – А ты что вечно молчишь, корова ты этакая? – напустилась она на дочь. Тайбель вскинула на мать томные глаза, продолжая вяло жевать.
Громко заплакала маленькая Кейла. Иосик вскочил и, вытягивая вперёд шею, стараясь таким манером протолкнуть в желудок застрявший в пищеводе сухой кусок, побежал в соседнюю комнату качать кроватку. Пиня сразу остыл, как обычно, пригнул голову, словно у него на шее был тяжкий груз, словно он взвалил себе на плечи весь мир, освободив от этой ноши мифологических Атлантов, и молча сел на своё место.
Между тем Иосик укачивал девочку. Кейла тянула к нему свои маленькие ручонки и смеялась. Вошла Голда. Привычно недовольно взглянула на мальчика, не зная, к чему придраться. Кипевшая в ней неприязнь искала выхода.
– Ну, чего разгулял ребенка, болван? Отнеси лучше бутылочку на кухню. Не видишь, что ли?
Иосик взял бутылочку с остатками манной каши. Войдя в кухню, он оглянулся и, удостоверившись, что его никто не видит, стащил с бутылки резиновую соску и выпил остатки каши. От вкусовых ощущений он даже зажмурился. Манная каша казалась ему необыкновенно вкусной. «Когда вырасту, буду есть одну манную кашу, буду есть её каждый день», – мечтательно подумал мальчик. Он всунул палец в горлышко бутылки и попытался соскрести кашу с её внутренних стенок. За этим занятием его и застала Голда. Эта женщина, словно ищейка, не выпускала мальчика из своего поля внимания. Иосик тут же получил весомый подзатыльник: