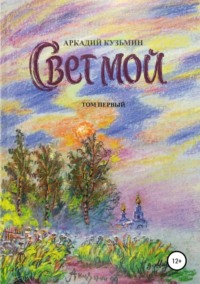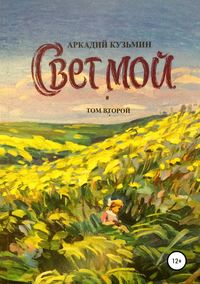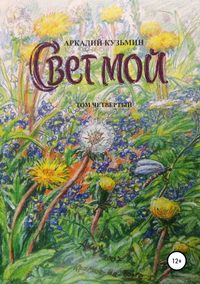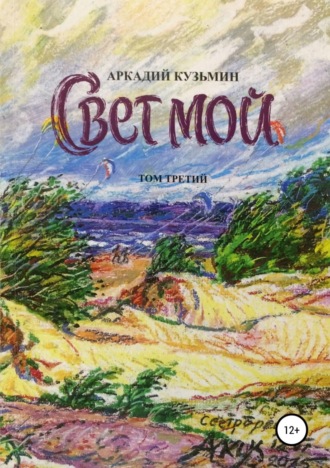 полная версия
полная версияСвет мой. Том 3
– А я разве против? Только сказал… – Не ожидал Антон подобного.
– По-моему, великолепно, что человек своими руками может сделать то, что другой (и завистник!) ни в жизнь не сделает.
Антон уже хмуро смолчал. Словно ушат холодной воды обдал его. И поделом: не треплись понапрасну; и впрямь – еще молод, зелен.
Другое событие, увы, имело более важное последствие.
Нужно сказать, что Тамонов не был женат. Очевидно, поэтому он так церемонно и обращался с дамами, – сказывал, что жил главным образом в обществе тети, весьма любившей оперу, филармонию, книги. Его откровения на этот счет были признанием достоинства в его самоотдаче целиком искусству. Но подобное лишь заинтриговывало все: вопрос спорный – всем хотелось докопаться тут до полной истины. Ведь весь мир человеческий делился на две неравные половины: большая – были семейные люди, не осуждаемые обществом нисколько, а меньшая, незначительная часть, – были почему-либо закоренелые холостяки, осуждаемые всеми публично, потому как не совсем ясны и убедительны были мотивы и доводы в пользу их холостячества.
Илья Федорович откровенно признавался сослуживцем, что он дал себе зарок не любить женщину; любовь к ней, по его понятию, могла пагубно повлиять на судьбу художника в творческом плане – затормозить его рост; он был всегда уверен, что женатому в наше время почти невозможно достичь каких-то вершин в искусстве: поглотят семейные заботы, добывание денег и пр.
– Так зачем же тогда жить? – искренне удивился кто-то.
– А возможно, я уже и привык к такому положению, – понесло его на большую откровенность. – Рисуя частенько обнаженых натурщиц, которые запросто стояли перед нами на возвышении, я ничуть уж не стыдился их обнаженности, их тела, того, что часами глядел на них – глядел, как… на гипсовые статуи. Одно время, еще в дни молодости, мы заядлые рисовальщики, постоянно ходили на такое рисование. Кто-нибудь из нас, рисующих, вздохнет над планшетом оттого, что не получается нужно, и с треском порвет лист бумаги, берет новые, приспосабливает, и натурщица, не шелохнувшись, не меняя позы, называет по имени вздыхателя и говорит: «Ты, Борис, чего вздыхаешь? Брось! Я сегодня утром тоже повздыхала напрасно, а потом перестала». Заговорит о том, что ей очень нужно завести для себя альбом поз натурщиц – будто б есть такой альбом знаменитых натурщиц; о том, что она это дело – позировать – очень любит и что натурщицкий стаж у нее уже десять лет. Вот повстречался ей вчера известный художник и просил ее уважить их клуб. Но не могла же она разорваться… И тут же натурщица уточняет: «Ну, говорите, как вам встать еще для набросков? Какую позу изобразить? Этак, что ли?» «Нет, так вы уже стояли, – говорим мы. – Так сидели тоже. Что-нибудь экстравагантное, новенькое, но чтобы было движение. Да и в движении вся прелесть». И послышался снова шелест бумаги и вздохи-муки творческого преодоления себя.
– Нет, что, прямо голая, или как, она позировала перед вами? – изумленно спросил у Ильи Федоровича сержант Волков.
– Именно разденется догола, выйдет к нам в халате, чтобы напрасно не мерзнуть. Влезет на помост, снимет халат и пожалуйста – традиционный вопрос: «Ну, как вам встать? Скажите».
– Для чего же это нужно, Илья Федорыч?
– Для того, чтобы суметь точней нарисовать женскую фигуру и чтобы полней ощущался объем тела под складками одежды.
– А, как в скульптуре?
– Похожая задача. Мы же пишем бесконечные этюды. И каждый раз природа новая. Надо успеть схватить и передать ее состояние, характер, пластичность, что и в портрете. Так же. А художники – народ интересный, надо сказать. Был, например, у меня один знакомый, Колесов. Умный собеседник, помимо всего прочего. Болтали с ним при встречах о судьбах человеческих, различных веяниях, модах, вкусах, литературе, различных случаях. Образованнейшая была личность. Жив ли он? Так смерть косила ленинградцев в блокаду!.. Ну, так вот он десять лет примерно писал пьесу.
– Что, сам по себе? Никто не просил его об этом?
– Разумеется. Труд художника, писателя таков. Никто не заставляет. Кто ж станет просить, если еще неизвестно никому, в том числе и самому творцу, что из задуманного выйдет, будет ли толк? Нечто стоящее или сплошь глупость? Ведь многие пробуют… Да не у всех получаются шедевры. Бывало, увидимся – спрошу: «Как идет у Вас?» (он был порядком старше меня). – «А что?» – уточнит он. – Но мы-то, посвященные, об этом его увлечения уж знали – он сам хвалился, без радости, правда. – «Ну, конечно, самое главное». – «Ах, пьеса! Да это уже выходит драма. На нее повернуло отражение эпохи. Я хотел бы дать тебе на прочтение немного – картины две, узнать твое мнение». – «Принесите, буду рад». – «Начало у меня еще не сделано. Самое трудное в произведение – начало и конец; их надо потом делать, когда все написано. Воистину они должны стрелять. Это кто-то Чехова обвинил в том, что у него в каждой пьесе герои стреляют. Однажды даже Лев Толстой сказал ему – наклонился к уху и сказал: «Зачет Вы пишете пьесы? Ведь даже Шекспир не всегда писал их хорошо» – старик не любил Шекспира. Вот у Шоу, я считаю, очень интересные пьесы – крутит, крутит вокруг какого-нибудь одного события; у Шоу трагедия и смешное рядом, как в жизни переплетены». Но я уже перевожу разговор на иное: «Сегодня погодка ладная, день красивый». – «А вчера как чудно было», – не отстает Колесов. – «Нет, – говорю, – превосходен день для этюдов». – «Вчера так мотало тополи, еще зеленые (они не хотят сдаваться), – ветер с первым снегом, уф! Я люблю такую забубенную погоду. Помнишь, это как у Достоевского, когда Сдвиригайлов шел стреляться – было точно такое ж светопреставление, – понесло опять по кочкам Колесова. – А ты все-таки пишешь этюды?» «Не бросаю. И сегодня поехал бы – написал бы с удовольствием первый снежок». – «Как же, надо, сразу свет прибавляется. В бездну осени. А ты не пробовал записывать, какие видишь краски?» – «Да, иногда записываю на полях своих акварелей. Когда не успеваю, скажем, передать небо, насколько оно изменилось, – посинело или полиловело»… – «И я вот в молодости записывал. Для памяти великой. Знать, от того и пошла у меня страсть к писанине, изложению чего-то словами. Но и помню: наш педагог Таршанский говорил нам, студентам: «Мне, ребятки, не обязательно писать этюды. Я всегда держу при себе маленький блокнотик; взгляну на пейзаж, на натуру и записываю, где какие краски и, конечно же, крохотный рисуночек карандашом накидаю. А дома спокойно пишу пейзаж. Так некоторые художники ухитряются писать, быть на уровне». – Я говорю: «Но это же профанация творчества. Природа-то подсказывает почти все: не только ритм, краски. Важно и состояние твоей души. Сейчас дерево стоит царственно, но подул ветер – и оно упруго взогнулось, листья блестят, повернулись другой стороной, трепещат, рябь по траве бежит…» – «А, все дело, Федорыч, в том, что есть художники, которые раскрашивают холст красками, и есть художники, которые пишут своей кровью. Их следует различать. Я не о себе, конечно, говорю; я-то давно конченый человек, потерявший свою жизненную стезю». Начну разубеждать его: «Ну что вы, дорогой…» Перебивает: – «Да, да, не говори, пожалуйста…» Этак переговорим с ним где-нибудь на ходу, в коридоре того же издательства, где зарабатывали хлеб насущный, – и разойдемся. До новой встречи. Уйдет он, сгорбленный, побитый жизнью, с кожаной папкой под мышкой – несет к себе домой фотографии для ретуширования, чем был вынужден тоже заниматься, чтоб кормить свою семью. Идет и попыхивает папироской.
XII
– В общем, жизнь сложна, – разговорился Илья Федорович. – Каждый день приносит что-то новое. Трудно с ходу ухватить все. Как же художнику не практиковаться в своем ремесле – да я не представляю! Это все равно что велосипедисту, не учась, сесть за руль автомашины. Но не в этом еще суть. Все нужно испытать самому. На меня, например, в осенние дни находило какое-то смятение, я испытывал небывалый внутренний подъем. Мокро ли, не мокро ли, но какие краски вокруг – одно загляденье! Делая этюды, я становился как бы богаче и счастливее. Был у меня как раз такой период жизни, когда чувствовал все на подъеме; как будто предчувствовал, что больше уж не будет подобного времени и нужно им дорожить. Хотелось послать ко всем чертям все жизненные мелочи. Я видел, понимал как никогда, знал, как сделать что, – позволяло мастерство. И с каждым разом, работая лучше и уверенней, наблюдал краски земли все особенней – и хотел нарисовать ее попроще и родней… Измокнешь весь под дождем, устанешь, закоченеешь на холоде; зато несешь с собой (и в душе) нечто выдающееся для себя и только ждешь другого раза, чтобы написать все уж так, как никогда еще до этого. Бог знает, для чего.
Видимо, у нас, живописцев, душа такая неуемная. Мы все равно что завещаем людям красоту увиденную…
Нередко с этюдником проходил мимо прелестных уголков на Каменном острове с кирпичными кладками еще петровского времени (Петр Первый обязывал каждого, кто ехал в строившийся Санкт-Петербург везти камни), какими-то построечками, крохотными забытыми улочками, аллейками, тонувшими в листопаде.
Как-то я залез поближе к проточной воде, по которой лениво гоняли лодочки (от праздношатаек иногда спасаешься ровно от дикого нашествия). До меня-то никому не добраться, и можно только посмотреть на то, что я делаю, через кусты, с берега. И все равно пришло чувство, к сожалению, что потерял в работе какой-то стержень, нет в ней желаемой свежести – пора сворачивать всё. А вечереет уж. В этюдник укладываю кисти, тюбики, разбавитель, тряпки, вытираю руки. И вот слышу из-за спины отчаянно-озорное:
– Непохоже!
Оглянулся – это хрупенькая девушка сказала. Она добавила:
– Ведь в натуре все слабее, не так ярко.
Я захлопнул этюдник и – наверх, на тропку. Только девчушечка смутилась вдруг – была, по всей вероятности, разочарована моей внешностью – и быстро пошла прочь. Но я поспел за ней. Сказал: позвольте, мол, не то, что возражу на ваши замечания, а кое-что объясню вам. Великий Леонардо да Винчи в своем трактате по искусству писал, что нельзя войти дважды в одну реку – вода окажется в ней разной по ряду признаков. Так и с состоянием природы. Пишешь-то этюд не секунду, а минимум час – обобщаешь увиденное; да и важно передать красочное сочетание в небольшом формате, исходя из своих настроений. Это ж не фотография. Слово за слово – мы познакомились. Звали ее Оленькой. Потом я даже брал ее с собой на этюды. Давайте, я в другой раз доскажу. А то увлекся и сам сбил себя – что-то рисунок мне не нравится. Я переделаю завтра-послезавтра, хорошо? – спросил он у позировавшего ему сержанта Волкова.
Тот согласился вновь позировать.
Снова Антон заскочил в комнату Тамонова тогда, когда тот сосредоточенно молча уже почти заканчивал набросок с сидевшего перед ним на стуле полнолицего Волкова. И тут он то ли под влиянием того, что рисунок сейчас удался, то ли на него дунула стихия, или почему-то – опять разговорился. Предложил:
– Так, если вы возражаете, я доскажу ту историю, помните?
– С интересом послушаем, – сказал сержант.
– У меня ведь тоже был свой профессор живописи, – начал Илья Федорович, дорисовывая портрет. – О, я думал, что заберусь к нему на чердак – и мне откроются тотчас все таинства искусства живописи. Ничего похожего! Пришел к нему в мастерскую, где он и жил, а у него почище, чем у меня, – все в папках, навалом завалено, пыль несусветная… вытереть, убрать некому… Холостяцкая жизнь… Во всю стену – книги. Стол – не стол… Завален… Корректура книжки на краешке. Тут… На полу чайник – зазвенел, покатился… Я не замечал – зацепил его ногой. На краю же стола – бутерброды… И это как-то неприятно бросилось мне в глаза. Сжалось сердце. Я спросил: «Василий Васильевич, вы когда-нибудь любили?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, только и сказал: «Было дело». Так и я скажу: было дело – мы с Оленькой встречались.
Однажды я почистил ножом морковку, как картошку (при возвращении откуда-нибудь домой всегда заходил попутно на Кузнечный рынок, чтобы купить себе всякую снедь), и стал хрустеть морковкой. Хрустел – приходилось доедать ее, правда, еще повкусневшую от того, что полежала она день-два на столе, и ходил взад-вперед по большой пятиугольной комнате, рассуждая о чем-то с собой. Окна у нас выходили во двор-колодец с преотличной слышимостью. Думаю, что когда у меня колотилось сердце сильней, – там оно отчетливо слышалось; только не до этого было всем жильцам, чтобы устраивать театр. Было кое-что поинтересней где-то в доме. Пьяный буйствовал – и звенели, сыпались вниз разбитые стекла. И вот под этот знакомый житейский аккомпанемент, расхаживая, я внезапно решил, что жил до сих пор не так. Захотел понежней поболтать с Оленькой.. Обязательно…
Но фокус, как говориться, не удался. Мой знакомый Нефедов, видный, симпатичный, говорун, заморочил ей голову… И ему-то все не нужно, а другим вред… Как собака на сене. Он литографией занимался. Офортами. Вы знаете, у Рембрандта что такое офорты? Симфония! Каждая веточка дерева есть именно веточка, непохожая на другие. А тут – он показывал мне работы – смотрю: все сплошь дохленькие штришки, штришок на штришок – и отобрать-то нечего для заставок к книге. Хотя все это в художественном беспорядке, с претензией на значительность. Кому такое-то эстетство нужно? Это – выламывание наизнанку. Прав был Колесов. – И Тамонов вынужденно опять прервал рассказ: вошли дамы – офицеры медицинской службы Цветкова и Суренкова, и он, отдав портрет Волкову, усаживая и занимая их разговором, засуетился около них.
Даже об Антоне он мгновенно забыл.
XIII
Был на исходе 1944 год.
Снег усыпал все белым-бело, шапками навис на скученных пышных темно-зеленых елях, и старинный седой особняк, который они неизменно сторожили, был таинствен, загадочен; казалось, он молчаливо хранил свой гордый дух, недоступный еще мальчишескому пониманию Антона Кашина. В этом обезлюженном польском имении теперь, с ноября, находились одни они, военные. После долгих лет гитлеровской оккупации и хозяйничанья в нем нацистов его законные владельцы канули неизвестно куда. Восточнее усадьбы – поле кочковатое; стыли, темнели амбразуры куполообразных вражьих дотов. Пахло печалью.
Залиловел вечер. Пугающе шелестели на ветру высокие, разросшиеся заросли акаций, окаймлявшие дорожки, когда Антон заспешил в большой сарай за углем; нужно было протопить камин, чтобы нагреть помещение, в котором они работали. Он, насилу столкнув примерзшие к наледи ворота, проник в глубокий неподвижный мрак сарая. Наощупь лихорадочно накидал в плетеную корзину гладкие брикетовые плитки еще немецкого завоза. Да еле выволок ее наружу, притащил в отдел. Только принесенного угля могло не хватить на топку, и он поневоле вновь скользнул в сарай за углем. Настороженно в синей темноте приглядывался ко всему…
Зато после он сидел подле топившегося зеленого камина и чувствовал на лице и руках теплое дыхание огня.
С мороза впорхнула к ним в отдел капитан-медик Цветкова, миловидная женщина со спокойными светлыми глазами и спокойными, полными обаяния и достоинства, движениями. Она зашла не одна – вместе с провожатым, щеголеватым капитаном Шелег, начальником автохозяйства. К его характеру – несколько беспокойному – Кашин не мог привыкнуть, а потому в его обществе испытывал некоторое неудобство и беспокойство. Цветкова, завидев весело горевший камин, сразу от дверей подошла сюда; она распахнула плотный теплый полушубок и, подсев к Антону на скамейку, протянула вперед – к живому огню – тонкие гибкие руки, и расправляя их, застывшие на холоде, пошевелила пальцами. Доверительно улыбнулась ему, отчего на ее припухловатых щеках обозначились ямочки-двойники, ровно у девочки-подростка, и заговорила с ним. Сопровождавший капитан не перебивал ее. Он явно ухаживал за нею, или, может пытался ухаживать. Подобно другим офицерам.
– А-а, почитываешь тут роман? Небось, начал с середины? Разве нет? Признайся уж, Антон, – со свойственной ей мягкостью сказала ему Цветкова. – А что именно? Я пока около тебя, у печечки, погреюсь чуточку. Зябну на морозе – прямо дикий ужас. Сущая мерзлячка.
Кашин обычно тушевался перед ней слегка, не знал, о чем таком с ней говорить, вернее, как, чтобы не сфальшивить.
Она с самого первого раза их знакомства, как увидела его в военной части (полтора года назад), шагнула прямехонько к нему и, с ласковостью коснувшись ладонью его лица, сказала вслух при всех: «Славный мальчишечка!» И так навсегда определилось его особенное отношение к ней – неизменно восхищенное, благородное. Вероятно потому она всегда улыбалась ему, что своему хорошему знакомому.
Молча, чуть смутившись, он приблизил к ней страницу книги, которую она ж сама дала ему почитать, – с рассказом Льва Толстого про любовь полячки Альбины.
С привычностью искушенного читателя Цветкова, скользнув взглядом по истрепанным книжным страницам, внимательно опять поглядела на Антона, чем привела его в еще большее смущение.
– Значит, повесть о поляках? Их страданиях? – Старший лейтенант вздохнула.
Привалившись к камину грудью и разогреваясь, Шелег поводил ладонями по глянцево-зеленоватым кафельным плиткам, и, в свою очередь, подступил к Кашину без всяких околичностей – спросил напрямик:
– Ну, ты-то как, Антон, надумал или нет?
– А что, товарищ капитан?.. – Он в сильнейшем замешательстве глядел на него, должно быть, глуповато, – сразу не понял, о чем тот спрашивал его.
– Да, учиться… в школе… на художника… Или ты забыл наш разговор? Я ведь предлагал тебе…
И Кашин простодушно кивнул ему – вполне утвердительно, витая в данную минуту в своих мыслях где-то далеко-далеко.
– Вот напрасно, скажу тебе, Антон: нужно время не терять – золотые его дни, заспешил Шелег высказаться. – Ведь прекрасная художественная школа есть и в Одессе. Если ты не хочешь поехать в Москву, чтобы там учиться, поезжай, пожалуйста, в Одессу. Приглашаю ведь… Поживешь, как родной сын, у моей жены Фроси; у нас двое детей, мальчишек, так ты третьим в семье будешь, самым старшим.
Когда Антон отказывался поехать в Москву для того, чтобы получить образование художника, этого, хоть убей, не было. С чего капитан взял? Должно быть, у него такая странная манера: как бы отвечать самому себе на свои же собственные умозаключения.
– Разве есть в Одессе? – засопротивлялся Антон слабо, досадуя на себя за то, что оказался втянутым в никчемный и бессмысленный разговор в присутствии Цветковой. Нет, никоим образом он не усомнился в честности и искренности намерений капитана, но ему было бы трудно, если бы он и захотел принять честь по чести его предложение в обмен на свою бесспорную свободу. Ему в высшей степени было неловко отказаться от услуги капитана – и в то же время жаль его за что-то, точно опрометчиво он своим отказом лишал его какой-то человеческой радости. И все-таки Антона сильней всего останавливало чувство долга перед сослуживцами, мнением и отношением которых он очень дорожил. А поэтому он и ни за что не мог принять во внимание очень разумные, казалось бы, доводы, капитана. – Но в Одессе школа еще вряд ли действует: город-то совсем недавно освободили… Все в нем, наверное, разрушено…
– Великая оказия: напишу домой и попрошу узнать. Сегодня же!
– Ну, напишите, – согласился Антон. – Только я, наверное, все же не смогу…
– Что не сможешь?
– Да поехать уж туда.
– Опять двадцать пять! – И Шелег, досадливо морщась, отвернулся от него. Затем он, откачнувшись от камина, размеренно двинулся вглубь гостиной; там за столом, весело споря, играли сержанты, заядлые шахматисты – Коржев и Юхченко. Они переговаривались меж собой по ходу игры:
– Что мне ставить коня, когда у меня других фигур еще достаточно. Вот так!
– Не согласен. Я ничью предлагаю.
– Давай! Давай! Испугался?
– А чем ты угрожаешь? Подскажи…
– Как-никак у меня две лишние пешки…
– Ишь ты! Значит, так?
– Я не могу так играть уже. Атака у меня иссякла.
– Отлично! Но я считаю, что тебя еще надо погонять.
– Я в гробу все это видел.
Сверху, с антресолей, по деревянной лестнице скатился, что бильярдный шар, майор Рисс в накинутой на плечи шинели. На мгновение остановившись внизу, он повертел туда-сюда круглой головой и отрывисто велел Кашину сходить к шоферам и передать солдату Шарову приказ о том, чтобы он завтра утром выехал на новое место, за Острув-Мазовецкий.
Шоферы размещались примерно в километре от усадьбы.
– Но ты, кажется, занят, брат? – сощурился он на Цветкову, подмигнув. – Тогда извини. – И резко повернулся, как на шарнирах, к капитану Шелег, опять оказавшемуся тут как тут.
– Пусть, товарищ майор, и Антон поедет вместе с ним. Все-таки вдвоем будет как-то понадежнее. Больше послать некого. А нужно. – Шелег, видимо, не мог уняться: все хотел определить Антона куда-нибудь! И при этом он исходил, возможно, из самых искренних своих желаний.
– Нет, серьезно, капитан! Вы не обижайте моего подопечного! Да! – Майор по своему обыкновению мерил короткими шажками гостиную и вздыхал, сосредоточенно обдумывая что-то: он, расхаживая взад-вперед, оценивающе взглянул на Антона, привставшего с места и ждавшего дальнейших его распоряжений, и он понял, главное то, что тот понял, как он любит его.
– Что ж, он отказался от суворовского училища и не хочет поступать в художественную школу, сколько я ни предлагаю ему, – ну и пусть себе возится на службе, а? – полушутя-полувсерьез говорил ему Шелег.
– Прав, капитан; ты прав: непорядок – Майор хмурился, сдвинув на переносице жесткие, торчащие пучком, брови. Развернулся к Антону корпусом. И уже с сопутствующими строгими наставлениями разрешил ему поехать тоже. Для подготовки места очередной стоянки.
А минутой позже по-старчески сипло и как-то ненатурально рассмеялся: Цветкова во всеуслышание призналась, что боится шума ветра в деревьях, и попутно попросила Антона (а не Шелег) проводить ее до другой парадной особняка. Всего-то!
Порывистый ветер и вправду дико свистел в вышине, над ними, раскачивал султаны елей, и Кашин, проводив Цветкову, давшую ему последние наставления – одеться завтра потеплее, под этот свист вприпрыжку пустился в ночь.
Очутившись в одном из длинных бараков, в котором поразительно бедно, тесно и жалко ютились местные поляки, и поднявшись с их помощью (они ему посветили) по приставной лестнице на чердак, который занимали шоферы, он застал Шарова, прослывшего молчальником, в необычной роли рассказчика. Здесь так же тускловато, как и внизу – у поляков, светила керосиновая лампа возле горящей печурки, а шоферы, рассевшись кружком кто на чем, трапезничали. Он тоже подсел к ним, но, к сожалению, Шаров уже кончил свой рассказ, улыбаясь грустно.
Находясь под впечатлением от чтения повести Льва Толстого «За что?» и теперь еще от посещения этого захудалого жилища, испуганно теснившихся в нем поляков с детьми, Антон при возвращении в ночной особняк всю дорогу, не переставая думал о причинах общих людских мучений – отчего они? Отчего насилие злобствует, бесчинствует над отдельной личностью и над целыми народами? Отчего же скверненькие люди испокон веков жаждут так уничтожения себе подобных и охотно участвуют в убийствах? Неужели, думал он, и теперь, будучи освобожденными, поляки жмутся потому в плохих, малопригодных для жилья бараках и не занимают опустевшее, например, имение, что настолько напуганы могущей быть расправой со стороны закоренелых бандитов?
XIV
Уже голубело позднее зимнее утро, Кашин с надеждой еще дальше почитать в пути начатую накануне книгу засел в кабину старой трехтонки, груженой железными печками-времянками и трубами к ним, тридцатипятилетнего Матвея Шарова, божьего человека, как уважительно-почтительно его величали товарищи, – и грузовик вынес их на застыло-звонкую дорогу.
Все-таки Кашину везло на исключительных в доброте своей людей. Несмотря на их естественно-простительные слабости в характере, он привязывался к ним. А особенно тянулся к таким великим работягам, каким был Матвей Шаров с его открытостью души.
И сегодня, виделось ему, было ласково-серьезное выражение на его крупном загрубелом лице и неторопливо-неуклюжи, как и весь он сам, движения его сильных голых рук, словно не боящихся несильного прибалтийского мороза. Он жил с утра в своем обычном душевном равновесии, а не то, что был просто в расположении к Антону, своему младшему товарищу, – жил как будто в отблеске своего обычного настроения. Антон, едва обменявшись с ним несколькими малозначащими словами, снова почувствовал себя его единомышленником, и ему стало на душе легко и радостно.
Было легко потому, что он, юноша, завсегда откровенничал, доверяя Шарову даже свои личные планы, и что солдат отвечал такой же взаимностью; стало быть, платил ему той же симпатией, не делая скидки на его юный возраст. А интересно с ним было потому, что он, бывалый человек, превосходно знавший свое шоферское искусство, успел в жизни испытать немалое. Он как бы уже сросся со своей трехтонкой – она была в его руках тоже неустанным работягой, выполнявшим самую что ни есть черную и тяжелую работу, очень нужную для всех.