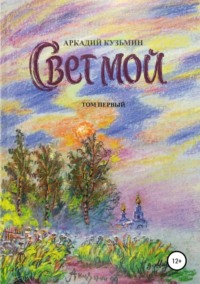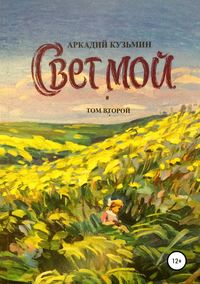полная версия
полная версияПолная версия
Свет мой. Том 3
После, когда все уже разошлись по углам своим, Кашин вспомнил, что хозяйственный сержант Вихорев, кладовщик, обещал ему дать александринскую бумагу, прибереженную им. Но, завернув в слабо освещенное лампочкой вместительное помещение, что было перед складским, внезапно замер на пороге, едва отвел рукой занавеску: услыхал здесь названным свое имя! В дальнем конце комнаты капитан – медик Михишина рассказывала о том, как накануне он, Антон, очень учтиво провожал ее сюда, в барак, и как любезно уговаривал ее не бояться темноты. Никто не почувствовал присутствия здесь Антона, еще помедливавшего с уходом (хотя знал, что негоже было подслушивать чужой разговор) – он затаил дыхание, так как Микишина следом и спросила:
– Валюша, ты-то молодая… А тебе-то он, Антон, понравился в роли провожатого? Или кто-то другой есть у тебя?
И Валин голосок за шторкой ответил с заметной заминкой:
– Ну, есть – не есть. И, знаете, о нем, наверное, следует судить тогда, когда он станет мужчиной, например, таким, каким был мой отец. Все, что я могу Вам сказать.
О, до чего ж Антон тут возненавидел себя в свете ее неприкрытой правды, очевидной, ясной и логичной, тотчас разрушивший его хлипкую и несбыточную надежду на что-то исключительно романтичное. Он самому себе был противен. Итак, потерпел поражение везде…
Он, по обыкновению подсвечивая себе спичкой в темной комнатушке, узрел свою постель, разложенную на матрасе, кинутым прямо на полу у стенки, наощупь разделся и забрался под одеяла с великой думкой. Ему предстояло по-новому жить.
И к какому же выводу он пришел в конце-концов? К самому простому и естественному: главное, не суетится и не носиться впредь с собственной персоной – ни к чему. Потом ему показалось такими плоскими и нудными шутки и смешки окружающих взрослых над чем-то значащем, подобном тому, что он переживал, и сами сослуживцы обыкновеннее, чем думал о них, в том числе и Валя, которую он уже видел все реже, неохотнее и от которой уже отдалялся мысленно. Чтобы уступить ей не привязанность.
Везде уже пустел, сквозил простором Замбрувский краснокирпичный городок; все снимались с мест – повсюду возле зданий были накиданы всякие вещи в ожидании погрузки и вывоза отсюда; возле немногих грузовых и санитарных автомашин сноровисто сновали хозяйственники, командиры, шоферы, экипированные тепло, по-дорожному.
Задувал холодный ветерок. Белели обсыпанные мелким снежком, как синеватой крупой, доски, палки, крыши и блеклая трава, обращенная прерывистой, что рябь на воде, поверхностью к северу; прихваченная морозцем, осыпалась шелухой с кустарников последняя листва.
Антон возвращался сквозящей липовой аллеей к себе в часть. Когда взглянув попристальней вперед, вдруг заволновался и нахмурился невольно. Навстречу ему мягко шла она, Валюша, в шинели и беретке. Точно маленький, либо напроказивший, он нагнул голову: ему стало страшно и отчего-то стыдно быть наедине с ней. Было неудобно также, как всегда, и за свой допотопный вид в фуфайке и в порванных брезентовых сапогах. Он лишь поздоровался несмело, все же надеясь на то, что умом Валюша все поймет и остановит его своим чудным голоском, и замирая в ожидании того самого. И так было уж совсем прошел мимо нее. Чужой. Какой-то заколдованный. Однако, чувствовал, и она, удивленно онемевшая не менее чем он, проговорила на ходу потушенно:
– Здравствуй, Антоша! – словно тоже стыдилась чего-то теперь – и не могла первой опомниться, остановиться.
Тогда он глухо, сделав усилие, позвал ее:
– Валя, до свиданья, что ли? – сказал к спеху подвернувшиеся слова, а хотел бы сказать-попросить, чтобы она простила его за что-то скверное, за что ненавидел себя в эти дни. Да, было нечто нежеланное, насилие над собой. – Ведь мы тоже уезжаем. Знаешь?
Она развернулась к нему:
– Что, сегодня же? Готово? – не сдержала вздох.
– Все. Упаковались. Транспорт ждем.
И Антон с ней, было разошедшиеся на несколько шагов, вновь сблизились на холодной дорожке, засыпанной хрупкими мертвевшими листьями.
Сблизились под негреющим солнцем. Он подал руку ей. Она задержала его ладонь в своей. Казалось, оттого, что он позвал ее, она вновь преобразилась вся; она улыбалась ему, и ласковость светилась в ее теплых глазах с искринками. А солнечные лучи золотистые, как и тогда, когда – в первый раз – он увидал ее, били ослепительно из-за нее, играли в ее волосах, что ему опять было ломко глядеть в лицо ей. Но они были одни на тротуаре. И тут он особенно остро почувствовал вдруг ее всегдашнюю хрупкость и беззащитность.
Им никто не мешал. Никто не видел их вдвоем. Благословенный же был момент – тот самый удобный, когда им можно бы было поговорить друг с другом о чем-то самом главном. Ему все-таки нравилась Валя – она была очень мила, особенна… Да, как на грех, откуда ни возьмись, на шоссе, шедшую параллельно аллеи, выкатил на телеге согбенно сидящий поляк с бочкой. Рыжая его лошаденка как-то сама собой вкопанно стала с тоской вечной покорности в глазах – как раз напротив Вали и Антона; полусонный возница, держа в руках вожжи, и не подгонял свою лошадку, а с передка телеги уставился на них, стоявших среди осеннего запустения; он словно видел нечто диковинное, невиданное им здесь еще прежде. Там что вследствие этого сызнова скомкалась последняя встреча Антона и Вали: он по-прежнему засмущался, стал поскорей прощаться. То – немыслимо!
– Ну, надеюсь, еще увидимся с тобой, Валя? – сказал он робко.
– Я тоже надеюсь, – присказала она с легкой грустью. – До свидания! – Она, медля, сделала шаг в сторону от него.
– Пока!
– До свидания, Антон!
Он запнулся и потом пошел быстрей, быстрей.
Вдруг его слух уловил захватывающе-чарующую песню.
«Неужели вот этот – такой редкостный певец?» Он вгляделся пристальней. И увиденная им картина была для него столь необычной, бесподобной. По шоссе шагал прямо, даже величественно, положив на голову длинное двадцатидвухкилограммовое противотанковое ружье и не придерживая его руками, а лишь словно балансируя телом, стройный и сильный, видно, грузин-боец в серой шинели, истребитель фашистских танков, и так красиво – мужественно пел на грузинском языке о неиссякаемой любви к своей матери, к своей невесте, к своей Родине. И его гортанные звуки чарующе разливались и таяли в морозном воздухе под чужим небом.
Ничего естественней и величественней этого Антон еще не слышал и не видел. Его ожидание в душе чего-то еще неизведанного прекрасного вполне соответствовало этим подаренным ему звукам песни. Да, если бы он мог, он тоже так бы запел – пусть все слышат вокруг; ах, как здорово было бы, если бы он мог так петь и мог так любить. Несомненно же все, что было с ним хорошего, вместе с этой прекрасной песней, было для него сказочным подарком судьбы. Он знал это.
Х
Минуло еще несколько месяцев. Кашин урывками – между штабными делами – также занимался прежним рисованием портретов. И еще увлекся почему-то и тем, что с жадностью почти выслушивал правдивые исповеди о самих себе простых работяг-бойцов, с кем сближался в дружбе и кто так открывался ему. Иные рассказы их, как правило, отличались поразительно колоритной правдивостью, что и в книгах порой не сыщешь; а хорошие книги Антон любил всегда читать, читал их с сызмальства. Услышанные от рассказчиков яркие истории точно пробуждали и обогащали больше его воображение. Это был такой узорный калейдоскоп событий всяких – таких разнообразно насыщенных, цветных!
Уже шел апрель. Сырые дни. Теперь Управление занимало здание в приграничном с Германией польском городке. И здесь, мимо дома, уже тек поток изможденных европейских жителей, освобожденных из нацистских концлагерей; они, и полуобтрепанные, шествовали с каким-нибудь скарбом, с мешочками, с колясками и с тачками, обозначив себя различными флажками. Шли к вокзалу: хотели поскорей вернуться из плена к себе на родину.
Как обычно в третий отдел бодро, вкатился начальник-майор Рисс, в распахнутой шинели: он только что вернулся из поездки. И сазу же с порога направился к столу Антона, сообщил:
– Ну, теперь порадуйся, художник Кашин. Еще не догадался? Нет?
– Нет, никак, товарищ майор, – Привставший Антон лишь пожал плечами отрицательно: он терялся в догадках. Майор любил иной раз и пошутить над ним.
– Ты пляши: я нашел для тебя хорошего учителя.
– Да? – Но вначале Антон все-таки не понял: какой такой учитель. К чему? Однако ж желтоватые не смеющиеся глаза майора и все его естественные поведение сейчас красноречиво говорили о том, что и ему самому небезынтересна предпринятая им такая акция. – И Антон уж догадался: – Вы, что, художника нашли?
– Вот именно его. Ведь нужно?
– Нужно, нужно… – обрадовался Антон такой приятной неожиданности – и вмиг воскресла в нем надежда на внимательного советчика-портретиста или пейзажиста. Должен же он все-таки оправдать свое призвание и назначение, а также доверие таких благорасположенных к нему людей!
Вследствие доступности и простоты майора Антон давно уже считал его своим старшим другом и не находил ничего предосудительного в его тоже дружеском расположении к нему. Только, сколько ни помнил, не пользовался этим корыстно в военной обстановке; довольствовался тем, что было, – выгод никаких не искал и ничего не выбирал из того, что попроще. Без скидки принимал сложившиеся коллективные обычаи и нормы наравне со взрослыми. Майор же по собственной инициативе приготовил ему сюрприз.
– Так где же этот художник? – спросил Антон в волнении.
– А у меня сидит. Привез его. Идем – познакомлю с ним. – И майор уже засеменил шажками к двери.
Антон последовал за ним.
В тускловатом коридоре худенькая, в годах, полька – единственная из поляков, кто еще обретался в этом бывшем казенном здании, приветствуя, успела сделать приседание – так называемый книксен, отчего майор отшатнулся, разумеется, от неожиданности такой. Сказывали, что это милая полька, делавшая книксен перед всеми, будто бы давным-давно приживала здесь на правах горничной, или прислуги, а нынче она прижилась больше возле шоферов Управления, бойцов, ребят, жалевших и принимавших ее у себя в общежитии, ровно близкого и равного себе товарища. Они давали ей еду, высказывали ей сочувствие, поскольку она сказалась совсем одинокой. И она платила им тем, чем нередко что-нибудь делала для них, стирала. В общем при взаимной симпатии и привязанности (на войне нередко бывало подобное) перевода чувств на язык и не требовалось нисколько – сердце и так все прекрасно понимало. С несколько нарушенной, может быть, психикой полька была покладистой, общительной, услужливой; она явно радовалась при встречах тому, что не одна на свете живет.
В комнате начальника железная раскладушка, заправленная серым байковым одеялом, была отгорожена у самого входа двумя простынями, висящими на шнуре; возле окна стоял стол, на полу постелена матерчатая дорожка в цветную полоску. К этой виденной Кашиным прежде обстановке прибавилось еще нечто незамеченное сразу: на стуле скромно-робко, даже испуганно полусидел, лишь прислонившись слегка к спинке, небольшенненький солдатик с рыжеватыми вислыми усами.
При входе майора и Кашина он суетливо вскочил с места и застыл перед ними в какой-то готовности. Что-то излишнее было в его поведении.
Майор представил Антона ему.
– Солдат Тамонов, Илья Федорович, – чрезвычайно учтиво назвался тот, словно именно его привели к Антону учеником. И с какой-то необычайной неспешностью пожал руку Атону – правда, твердо, обрадовано как-то.
Кашин совсем обескуражен был: видел бог, он ждал чего-то иного.
Назавтра дверь в отдел тихонько приоткрылась, из-за нее протиснулась, спросив с хрипотцой разрешения войти, вчерашняя невесомая солдатская фигурка в длиннополой шинельке и кирзовых сапогах, в которых вошедший, можно сказать, буквально тонул: так незначителен был он на вид или форма на нем несообразно велика.
– А-а-а! Это вы?.. Входите! Входите! – Майор Рисс, на миг оторвавшись от подписываемых бумаг и повернув к посетителю седую, почти безволосую голову, удовлетворенно издал какой-то всегдашний торжественный крик, выражавший нечто среднее между желанным принятием чего-то к сведению или сообщением чего-то. И затем скороговоркою проговорил: – Ну, Антон, держись теперь. Не подкачай!
Солдатик, действительно невеликий и вдобавок смешной в обмундировании, мешком висевшим на нем, костлявом, стеснительно и манерно раскланялся со всеми.
По лицам сослуживцев Антон заметил, что и все они встретили Тамонова без особого энтузиазма.
Но Тамонов пока зашел только с незначительной просьбой к Кашину: помочь ему перенести его вещички, красочки. И Антона немедля отпустили с ним, куда нужно. Только и всего пока.
– Благодарю, идемте, друг, – позвал он. – Мы быстренько все сделаем. Тут недалеко.
Он радовался, вероятно, перемене места, новым предстоявшим знакомствам.
Госпиталь, в котором он лечился после пулевого ранения и впоследствии служил несколько месяцев, находился примерно в километре отсюда, под спуском. Был сухой ветерок, задувавший пыль, прошлогоднюю труху, солому, обрывки бумаги. Тропка была неровной, скользкой. И солдатик этот ведомый всякий раз любезно предупреждал Антона:
– Осторожно! Здесь не прыгайте!
По дороге Кашин вкратце рассказал ему о себе и о желании рисовать, а он сообщил ему, что вел лекции в институте живописи и графики и оформлял различные книги в издательствах. Словом, художничал – не ленился. Ленивых в этом поприще ждет неминуемый крах. Поэтому учиться никогда не поздно ничему – присказал он знающе и подбодряюще.
Когда же за полуразбитым кирпичным зданием с оборванными лестничными пролетами они, переступая куски железа, груды искромсанного кирпича, какие-то торчащие металлические каркасы и перепрыгивая траншеи, подошли к еще одному строению и нырнули в него, две пожилых медсестрички внимательно взглянули прежде на Антона. А затем одна другой сказала:
– Марьюшка, видишь, наш Илья-то Федорыч желанный, убывает, значит, от нас. Наверно, за пожитками пришел?
– Да, списываюсь с корабля, – ответил Тамонов. – А где кладовщик?
– Сейчас, значит, придет, милый. Потерпи малость.
– Потерплю, как же.
– А в какую же часть такую направлен, Илья Федорыч? В хорошую?
– Переводят в Управление госпиталей.
– А-а, если молодец оттуда, то хорошая, – медсестра имела в виду Антона.
– Оттуда. Тоже художник. Поможет мне все сразу донести.
– И, что ж, мою просьбу не успел-таки выполнить, душа-человек? Так ты Петровну изобразил – одно загляденье.
– То ведь недалеко, не тужите – может, еще нарисую Вас. Прискачу… А вот и Афанасий Никитич пришел…
– Ко мне? – внешне сурово спросил тот, всходя на горку свежих стружек и щепок: здесь что-то надстраивали, строгали.
– Отчитаюсь напоследок кое в чем, если это Вас не затруднит, – заторопился Тамонов. – По необходимости убытия…
Кладовщик-сержант значительно помолчал, бренча связкой ключей перед закрытым складом и отыскивая среди них нужный ключ.
– Продался, выходит? Мы чем-то не понравились?
– Ну как можно меня обвинять, Афанасий Никитич! Грешно…
– Пошутил, конечно, я. Чур не забывать.
– Постараюсь, безусловно.
Чувствовалось, что Тамонов составлял с этими простыми людьми нечто единое целое. Был среди них как любимый ребенок, право, – возраст его не являлся помехой для этого.
Очень скоро Тамонов освоился на новом месте. По первости Антон помог ему лучше сориентироваться в местонахождении управленческих служб: рассказал – показал ему все. А что он – настоящий художник, чрезвычайно общительный, любезный, приветливый – стало сразу ясно всем.
Тамонову отвели пустовавшую комнату. И для начала он сделал с натуры два карандашных портрета, уловив удивительное сходство с натурой. Это стало для всех как-то ново, необычно, интересно. И поэтому вскоре к нему началось своеобразное паломничество: всем хотелось увидеть, насколько удачно он запечатлел кого-либо, как это выходит у него, – ведь прямо на глазах свершалось таинство – под его рукой возникал набросок, удивительно схожий с оригиналом; другим хотелось просто поговорить о том – о сем, что было связано с искусством, доступной не для всех в силу разных причин, но таким заманчивым. Оттого он, как Антон заметил, как-то расцвел, был всегда одухотворен, подвижен.
Тамонов, работая, что-нибудь рассказывал из того, что было связано с профессией художника, и всем нравилось бывать у него; отбоя не стало от тех, кто хотел его послушать, поговорить с ним или хотел быть срисованным на портрете. И обычно он, такой безотказно-предупредительный, не мог никого обидеть и срисовывал всех подряд. Бумагой он был обеспечен вследствие предприимчивости завскладом.
На каждый натурный рисунок у Тамонова уходило поболее часа.
Конечно же, для Антона, впервые видевшего подобное как бы изнутри, присутствие на его натурных сеансах рисования, когда это получалось, давало ему неоценимую пользу: наглядно виден был желаемый принцип работы над моделью – выбор поворота или наклона головы, освещения, компоновка на бумажном листе, построение и соразмерность частей лица, сочетание света и тени, постепенное выявление деталей, углубление и обобщение рисунка. Такая школа была несравненна, представляла откровение для него. Тем более, что художник, имея большой практический опыт, не испытывал, видно, никаких неудобств при наблюдателях, никогда не нервничал, не волновался, не пыжился и не изображал час драматических мук творчества, а лишь терпеливо, последовательно наносил карандашом рисунок, что дано, Антон знал, не каждому. Несомненно, это качество он воспитывал в себе.
Антон лишь удивляло его настороженное отношение ко всему.
Все он делал с какой-то оглядкой, как-то опасливо и с оговорками; сам с собой советовался по пустякам и часто передумывал то, что только что надумал. Он себя контролировал так ежеминутно, и невольно окружающие становились свидетелями его колебаний и раздумий; он даже как бы преохотно делился этим со всеми – смотрите, дескать, ничего особенного, все по-человечески! С кем не бывает? Но сходился с людьми довольно быстро и в проявлении своих чувств был очень искренен.
XI
– Вот что, Антоша, я вам скажу: вам нужно обязательно начать, если хотите настоящим образом работать карандашом, углем, сангиной, пером, кистью, – стал с воодушевлением Илья Федорович перечислять, беря над ним шефство – начать с самого простого. Хотя бы вот с этого. – Он коснулся пальцем пресс-папье. – Поставить перед собой, изучать – и вдумчиво рисовать; сначала, разумеется, верно построить (я буду показывать, как следует); найти направление штриха, не стараться отделывать набросок сразу, в один присест, и все обозначить в полную силу. Главное – увидеть объем вещей в пространстве и точно изобразить их на плоскости листа, вписать в него, чтобы они не выпадали. Потом постепенно перейдешь к вещам посложнее. Ну, хотя бы к рисованию посуды, такой бутылки. Это самое трудное – нарисовать просто предмет. Должна быть основа рисунка. Только тогда будет толк.
– А разве можно в точности срисовать, например, эту заляпанную бутылку из-под чернил? – засомневался Антон.
– О, для художника нет ничего невозможного, – подивился Тамонов его наивности. Тут же взял лист писчей бумаги, простой карандаш, присел на краешек табуретки и стал набрасывать линии.
Через четверть часа Антон уже видел, как им вырисовывалась точно эта, стоящая перед ними однобокая бутылка, как шло необыкновенное превращение линий и штриха в нечто осязаемо-предметное.
Тамонов схематично ему показал, как нужно последовательно строить весь рисунок, определять его границы, проводить основные и вспомогательные линии; он советовал – чтобы не грубить его свежесть, сочность, строгость – не прибегать к помощи резинки и не растушевывать тени пальцем – не вырабатывать в себе дурной вкус. И с этих пор, ежели выдавались свободные минуты, Антон ставил перед собой самые неожиданные предметы: кружку, миску, кирпич – рисовал все, хотя это ему отчасти, если признаться, и не нравилось, было скучновато выполнять, так как хотелось создавать что-нибудь необычное, большое, заметное. Хотя бы те же портреты. Все объяснялось, конечно же, нетерпеливостью Антона, присущей юному возрасту.
Безусловно, по молодости и наклонностям, а также обстоятельствам Антон уже привык к подвижной, деятельной жизни. Иного и не мыслил. Однако прямо заставлял себя отныне, когда понял, что нужно так, – заставлял приноровиться, или приспособиться, к усидчивости над работой первоначальной, незаметной, черновой, однообразной, не дающей вроде б сердцу ничего существенного, кроме навыков. Почему-то знал определенно: лишь освободи себя от таких забот, прикрой хоть маленькую щелочку подмывающим тебя желаниям – и уж распахнется вовсю дверь свободе ложной, и тогда уплывут куда-то все твои лучшие намерения.
То, что Тамонов, как рассказывал, имел уже своих учеников, взрослых художников, что он рисовал мастерски и что вместе с тем держался с людьми без всякого высокомерия, душевно-просто – это успокаивающе действовало на Антона, вселяло в него уверенность. С каждым днем у Тамонова увеличивалась галерея нарисованных портретов, хотя он раздаривал их и нередко бывал недоволен получившихся рисунком. Без всякого позерства. Среди новых позирующих друзей у него уже объявились молодые женщины, в том числе из комсостава, но выявились тоже и противники, подмечавшие в нем мало-помалу непростительные с их точки зрения слабости. Что и говорить, ведь в себе лично человек редко когда видит их.
Да, вначале его вежливость, пожалуй, нравилась всем. Однако же неисправимая черта в нем – вроде бы желание заискивать перед всеми и преувеличенно кланяться в почтительности – в дальнейшем стала претить сослуживцам; это выглядело нарочито, вызывало и во Антоне какую-то досаду. Он старался отгородиться от всех рождавшихся о нем людских пересудов, тем более, что окружающие соответственно (из благих, безусловно, побуждений) уже донимали и его вопросами:
– Но ты-то, Антон, не станешь же, наверное, таким угодливым?
– Постараюсь быть самим собой, – Антон не понимал и не принимал никакого иронизирования по поводу привычек своего негласного учителя.
«По-особенному он воспитан, только и всего, – думал он о нем, – не допустит хамства по отношению к другому. Все, что ни делается им, делается очень естественно, привычно, и не может задеть чье-то самолюбие». И нужно принимать его таким. Уж более искренне-теплого и любовно-честного отношения ко всем и ко всему, чем проявлялось у него, Антон еще ни у кого не встречал. Один раз даже застал у него эту польку, любительницу книксена; она сидела – позировала – на стуле, и Илья Федорович, разговаривая с ней, срисовывал ее. Оттого она буквально вся расцвела, сияла, как какой дикий, полузабытый цветок, – поразительно! – Он, стало быть, не чурался водить знакомства ни с кем, что говорило о широте его души. С ним можно было толковать на равных – и не почувствовать никакого превосходства над собой. Иногда Антону хотелось даже оберегать его от злых языков.
Но людское мнение влиятельно и может сбить, что говориться, с толку. Так случилось и с Антоном. Хотя он нередко поступал вопреки чужому мнению, и никому не подражал, но сам не сдержался как-то. Правда, ничего не наговаривал; только взял не тот тон – вышел грех с ним. Непростительный.
Нацисты еще повсеместно огрызались до последнего, но уж отчетливо ощущалось приближение победного часа.
Тамонов, освоившись с ролью волшебника, по приказу начальства подготовил эскизы предполагаемого оформления клуба – просто большого помещения, где теперь иногда проводились политинформации, и на оклеенных бумагой панно, условно раскрашенных под мраморные доски, красной гуашью выписал известные цитаты. Шрифт для них выбрал строгий, классический. Их развесили по простенкам. Все было нормально, уместно. Однако дотошное начальство в лице суховатого майора Голубцова, замполита, нашло, что, во-первых, в цитатах встречались прописные и строчные буквы и, во-вторых, у некоторых букв – перемычки и хвостики несколько игривые; Антону тоже показалось, что Илья Федорович кое-где не соблюдал расстояние между буквами, а иные из них были широки по сравнению с другими, не так стройны. И об этом он ему сказал. Он спокойно согласился с его мнением: что делать? Нет времени, удобства далеки от совершенства, и приходится шить шубу из ситца. Понимаете? Антон понял его.
После состоявшегося здесь концерта грузинских артистов, выступивших дивно, виртуозно, в компании, расходясь, почему-то упомянули имя Тамонова, и Антон заметил друзьям, что, кажется панно не совсем удачно выполнены им.
– А может, ты, голубок, того: заелся чуток, что тоже критикуешь зря? – резко ополчился вдруг на него, отчитывая, его хороший друг шофер Маслов. – Чужое-то ведь не свое. Со стороны всегда видней. Это, брат, пусть пенкосниматели треплются, а тебе-то не пристало…