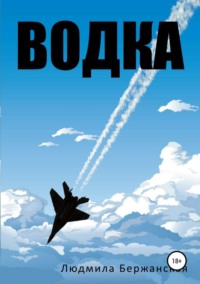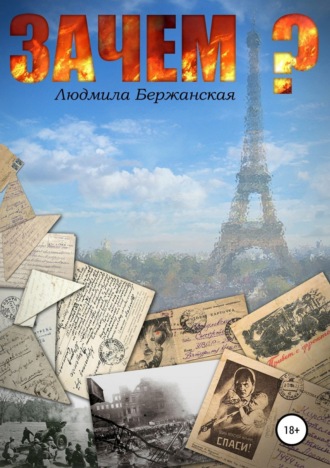 полная версия
полная версияЗачем?
Мы говорили до двух часов ночи. Нам было комфортно и душевно. А главное, понятно. Только к трем часам Жан подвез меня к гостинице.
Представить не могла, что далеко-далеко на маленькой улочке, в небольшом городке, недалеко от Парижа я буду долго-долго, умно-умно разговаривать с потомственным хозяином маленького кафе.
Я обещала еще раз приехать. Я так искренне хотела этого.
20
Вечер. Автобус привез к гостинице. Не хочу ложиться спать. Успею. Хочется гулять по Парижу. Спускаюсь в метро, и еду в центр. В самый что ни на есть. Мне казалось, вечером на Елисейских полях кипит жизнь. Но почему-то тихо и спокойно. Во-первых, не туристический сезон. А во-вторых, будний день. Я понимаю, что они, эти поля, относятся к затасканным брэндам Парижа, как Монмартр, как художники на берегах Сены. Нет, нет, там все роскошно. Но для других. Опять та же мысль: все на продажу. Гуляя по улицам, переезжая из одного района города в другой, в метро общаюсь на отвратительном английском. Хуже не бывает. Ну, совсем very bad. А если учесть, что французы не любят английский, то, казалось бы, должна быть полная немота. Но нет. Парижане привыкли к туристам, гордятся этим, и очень доброжелательно стараются понять, хоть и с большим трудом, таких как я.
И еще. Ну, почему, проехав столицы благополучных государств, я не могу отделаться от одного очень важного чувства. Европейцы поняли в смысле жизни что-то значительно больше, чем мы. Может, последняя война поставила последние точки над “і”. Нигде, ни в чем не бьет в глаза роскошь. Парижанки моего возраста одеты и ухожены со вкусом, но без демонстрации своего материального положения. На улицах нет такого количества очень дорогих машин как у нас. В супермаркетах и тихих кафе цены нам, бывшим советским, и тем более украинским туристам по карману. И это при наших-то зарплатах.
Они, наверно, поняли, что человеку для жизни, и даже для комфортной жизни, не так уж много нужно. А для счастья…
Мне опять вспомнился Андре Моруа: цветок искренней любви охотней цветет среди скромных людей, чем в пустыне власти и богатства.
Весь день прошел сегодня в водовороте впечатлений. С утра поехали в Версаль, потом гуляли по Дефансу. Мне, закончившей когда-то давным-давно строительный институт, и очень увлекавшейся архитектурой, было невероятно интересно, чем же восхитил в 50-е годы XX-го века новый район Парижа. Интересно. Но сегодня уже не вызывает восторга. А тогда, почти полвека назад, конечно, это был верх архитектурно-строительной мысли.
А вот Версаль… Сама не знаю, что надеялась увидеть, чем думала восторгаться. Все мы, выросшие в Советском Союзе, закрытой стране, столько читали по истории Франции. Все Людовики, Генрихи и Наполеоны были у нас на слуху и в памяти. Читая книги семейства Дюма, наша фантазия разливалась рекой по поводу роскоши дворцов. И вот Версаль. Говорят, что дорвавшиеся до революции 1848 года трудящиеся сотворили там такой разгром… Поэтому то, что мы видим сегодня в стенах дворца – это с “миру по нитке”. То есть, из разных дворцов Франции. В том числе, и из замков, которые расположены на берегах Луары. Когда слушаешь историю французской власти, тут же на ум приходят аналогии. Видимо, у власти всегда и везде одни законы, одни проблемы и, чаще всего, никаких выводов.
Я все думаю, как попытаться объяснить: почему в кровавое время революций в людях поднимается все кровожадное и жестокое? Интересно, XIX и XX века научили человечество, показали всю если не бесплодность, то кровавые результаты добрых намерений? Ведь реки крови русской и французской революций стали основой не демократии, а тирании. Видимо, для прихода демократии нужен другой путь. Скорее всего, цивилизованность общества. Я не знаю, откуда во Франции в середине XIX века оказалось столько головорезов, но у нас эти события были более чем закономерны. Крепостной – это русский синоним слова “раб”. У него нет ничего. Он пуст. Он озлоблен. Он жесток. Он ненавидит всех и вся. У него нет привязанностей. Видимо, с освобожденными рабами проще всего. Они еще послушны, но давно жестоки. Они ненавидят хозяина, соседа, того, кому, хоть чуть-чуть, лучше. Инородца, более умного, более грамотного. Ну, а уж о богатом и говорить не приходится. Им не известны слова «достоинство» и «самоуважение». Именно эти люди бросались со стороны в сторону, бросались друг на друга в Гражданской войне. И победили, естественно, самые жестокие. Те, которые в результате этой страшной бойни забыли первоначальные благородные цели. Те, которые для себя лично поменяли цели на противоположные. Не равенство всех, а собственное верховодство, не равные права, а собственное первое право, не уничтожение бедности для всех, а только для себя. Они, вообще-то, очень быстро все поняли…. и замолчали, или говорят, но очень осторожно и угодливо. Они не предадут. Из страха. Но не предадут. Они уже увидели, чем это для каждого из них все может закончиться.
Вот такие мысли вызвала у меня экскурсия по Версалю. Не восхищение парком. Может, потому, что Петергоф роскошней. Впечатляет не роскошь гобеленов и люстр, а кровавая история.
Мне подумалось, что иногда исторические аналогии оказываются сильнее чувства прекрасного.
21
Переходя из зала в зал, я восхищалась, удивлялась, задумывалась. Здесь жили слабовольные и тираны, агрессивные и уступчивые, добрые и жестокие.
Интересно, что знали, о чем молчали и, главное, что думали о них те, кто был рядом. Какое мнение о тиране было у кухарки, уборщицы и охранника? Наверно, много общего в мыслях тех, кто обслуживал, охранял, готовил еду для Людовика, Гитлера, Сталина, Ленина. У каждого из них, конечно же, было первое впечатление, у которого, к сожалению, только один шанс. Как же оно менялось? Как быстро приходило понимание того, кто, в самом деле, рядом? А может, не хотели или боялись задумываться? У них на глазах самые низкие человеческие качества: двойные стандарты, предательство, беспринципность облекались в красивые слова. Например: дипломатия. Они видели глав государств из толпы и из комнаты охранника или кухни. Они слышали от них, самых главных, главнее не бывает, слова “свобода” и “независимость”. Почему-то каждый вождь считает нужным говорить их своему народу. Но забывает или не хочет объяснить, что это совершенно разные понятия.
Мы видим демонстрации тех, кто сегодня называет себя коммунистами. Они призывают не забывать Сталина, олицетворяющего достаток, порядок и справедливость. Они, не стесняясь, своими лозунгами и призывами издеваются над теми, кто забыл или не хочет помнить, или не в состоянии понять, что это просто игры, в которые играют взрослые.
Тираны были разные и те, кто их обслуживал, тоже были разные. Умные и глупые, задумывающиеся, анализирующие и те, кто не может или не хочет думать. В любом случае, каждый из них видел воочию, что власть, тщеславие и благочестие несовместимы. Что высокие слова “доброжелательность” и “снисходительность” в этих апартаментах превращались в другое слово “беспринципность”. Интересно, в высоких коридорах когда-нибудь произносится слово “совесть”? А главное, произносящие его помнят, что оно обозначает?
Есть три вида свободы: свобода слова, свобода выбора и свобода этим пользоваться. А что имеют в виду те, кто кричит это слово с трибун в толпу? У меня есть подозрение, что они и мы думаем о разном.
Как узнать, те, кто рвется к власти, кто хочет быть впереди всех, готовы ли идти на Голгофу? К сожалению, движение на верх власти связано с огромным количеством вранья, у которого цена давно известна – человеческие жизни. Врут про честность, про свободу, про сытость, про справедливость, про веру. А если, в самом деле, руководитель страны глубоко верующий человек? Ему по-настоящему нужен Бог, он не может жить без веры. То есть, его собственный внутренний стержень опирается на волю Бога. Что тогда? Ведь стране нужна лично его воля, лично его представление о мироустройстве и порядке, лично его решение всех проблем. Может, не зря большевики так тщательно продумали политику атеизма? Что-то в вере первых лиц государства не клеится. Как боязнь кары господней сочетается у них с ложью, воровством, лицемерием, предательством? Вот и верь обещаниям властолюбцев. Они так далеки от нас. Они говорят, что хотят, потому что знают, что не услышат от нас то, чего не хотят слышать.
22
– Па, кажется, все уже рассказала.
– Все? – спросил он разочаровано.
– Я часов пять говорю без остановки.
– Но я все равно буду уточнять все подробности.
– Конечно. Только не сегодня.
– Устала?
– Устала.
– Неужели сидеть в кресле, пить чай с бутербродами и рассказывать утомительно?
– Па, ты специально это говоришь?
– Чего обижаешься?
– Я не обижаюсь. Я еще раз говорю, что твоя дочь – старенькая девочка, которой ощутимо перевалило за 50.
Папа весь съежился.
– В моих глазах ты все равно ребенок.
– Понимаю. Но дети тоже устают. Особенно в таком возрасте и особенно проехав две недели в автобусе.
– Я понимаю.
– Мне сегодня звонить Зауру или можно завтра?
– Девочки ему уже звонили.
– Так что, он уже все знает?
– А ты должна само собой. Для него это все очень важно.
– Я понимаю. Только завтра.
– Хорошо.
– Когда тебе Заур рассказал о телефонных звонках?
– Позавчера.
– Доволен?
– Ты еще спрашиваешь! Мадлен с внуком собирается в Ленинград.
– В гости к дедушке?
– Конечно
– Но у Сары с этим сложнее.
– Почему?
– Па, я же тебе говорила, что у нее с Раулем много внуков и внучек.
– Сколько?
– Не знаю. Не помню.
– Заур доволен, что наши с ним отношения не заканчиваются, а продолжаются благодаря тебе и девочкам.
– Па, девочкам тоже будь здоров – за 50.
– Ладно, ладно. Все равно девочки. Знаешь, Заур мало говорил о жизни в Париже и об отъезде. Я никак не мог понять, как он с Франсуазой после 20-летней разлуки мог опять расстаться.
– Теперь понял?
– Конечно. Я думаю, это высшая степень любви женщины к мужчине.
Слова папы попахивали пафосом, но, в общем-то, он был прав.
– Интересно, а если бы он не вернулся после войны домой? Что было бы? Были бы они в этом случае счастливы? Или ежедневная обыденность стерла любовь? Прискорбно, но, похоже, разлука сохранила их чувства. Хорошо, что в жизни нет сослагательного наклонения: ах, если бы…
– Помнишь, у Вольтера: ни воздержания, ни излишества не дают счастья.
– Па, а что дает?
– Не знаю.
– Вот и твой любимый Вольтер умничает, а главное не говорит.
– Наверно, потому что не знает.
– Наверно. Я поняла, почему Франсуаза так решила.
– Как?
– Предложила Зауру жить в Ленинграде. То есть, до конца дней продолжать жить врозь. Я понимаю ее логику и совсем не понимаю его.
– Почему?
– Не могу объяснить.
– Ты считаешь, что он должен был остаться в Париже?
– Не знаю. Не понимаю. По поводу одного и того же события, одной и той же проблемы у мужчин и женщин разные мысли, разные подходы, разные решения.
– А вывод часто бывает одинаковый.
– Бывает. Слышал, что самые любящие матери – это те женщины, которым судьба не подарила взаимную любовь с мужчиной. Что она всю нерастраченную на мужа любовь прибавляет к материнской.
– Ты хочешь сказать, что Франсуаза в разлуке с Зауром все сердце отдала девочкам?
– Я этого не знаю. Хотя бы потому, что ее душа всю жизнь была наполнена любовью и ожиданием. Правда, как женщина, я не во всем ее понимаю.
– Ты не смогла бы ждать?
– Нет, не то. Я не знаю сама о себе: смогла бы годами и десятилетиями ждать. Понимаешь, молодость – это не только яркость чувств, это и яркость красок всего, что окружает. С годами все тускнеет: и чувства, и краски. Молодость полна эмоций, впечатлений, свежести восприятия. Потом восторги сменяются обидами и переходят от белого цвета в черный. А к старости и мудрости – в серый. Видишь, как просто цветами определить интерес к жизни.
– Но когда люди редко видятся, у них почти нет обид и разочарований.
– Почти.
23
Перелистываю папин дневник с 1941 по 1944 годы. Он писал очень редко. Видимо, в такие минуты, когда была особая потребность. Поэтому в записях пропущены целые месяцы, много месяцев.
18.08.42г.
Вспомнил все до мельчайших подробностей 22 июня 1941 года. Знойный день. Люди, ничего не подозревая, утром ушли на работу. У студентов – экзаменационная сессия. В библиотеке им. Короленко духота. То и дело вспыхивают и угасают матовые квадратики с черными цифрами на светосигнализаторе. С каждой вспышкой кто-нибудь встает из-за стола и идет за книгой. Мирная рабочая обстановка. Даже в голове не укладывается мысль, что эти драгоценные книги будут подкладывать под машины фашистские изверги. То, что считалось до сих пор полезным и почетным, должно подпасть под грязные слова: совесть, как и образование калечит человека (это из «Майн Камф», в переводе «Моя Жизнь» Адольфа Гитлера – з.а.).
….Вдруг кто-то вбежал в зал и, задыхаясь, крикнул: война! Все бросились на улицу. Это было 12 час. 15 мин. Каждый не находил себе применения. Мне показалось, все то, что я делал 15 минут назад и что было больше чем необходимо, стало теперь уже совсем ненужным, бесполезным.
“История западно-европейской литературы” П. Когана осталась открыта на странице, на которой написано большими жирными буквами “Байрон. Жизнь и деятельность”. Какое историческое совпадение! Мне только сейчас пришло это в голову. А перед Байроном был Шиллер.
– Что делать? – мы задавали вопрос друг другу. Лева Аксянцев мне, а я ему (тогда он был еще жив – з.а.). Мы еще не знали, что делать. Нам все еще не верилось.
Теперь, спустя 14 месяцев, делается даже смешно, до чего дошла наша растерянность. Затем я пришел в себя, и тут же извлек пользу. Мне предстояло шестой раз сдавать историю средних веков профессору Пакулю. Эта “каменная статуя” придирался к каждому слову, и дело всегда заканчивалось тем, что он любезно говорил: возьмите ваш матрикул, идите, будьте здоровы, приходите в следующий раз.
Так он мне предлагал 5 раз. В шестой – слушать его любезности мне не хотелось. И я решился. Не помню, какого числа июня месяца 1941 года я зашел к нему, вытянул билетик с вопросами. Первые два я знал исключительно, но третий …темный лес. Ответил на два и замолк, профессор поднял голову и говорит: приступим к последнему.
– К последнему – в последний раз,– ответил я.
– Почему?
– Ухожу на фронт добровольцем.
У профессора брызнула слеза, он дрожащими руками поставил “посредственно”. Отдал мне и говорит: идите, желаю вам счастья.
После этого у меня засела мысль, действительно пойти добровольцем. Так как, по состоянию здоровья меня признали негодным к службе в РККА.
Не медля, пошел к другу Льву Аксянцеву. С ним мы решили идти, но получилось так: внутренние силы говорят “иди”, а внешние – “не иди”.
30 июня все комсомольцы по предложению РК партии (Дзержинский РК КП(б)У г. Харьков) собрались идти в добровольцы. Не хотя, пошли и мы. Многих взяли, а нас нет. Тут-то нам стало обидно, внутренние силы одолели внешние.1 июля мы снова пошли и опять отказ. Что делать? Такой вопрос мы задавали друг другу. И вот 3 июля решили, я 4 июля поехали работать в колхоз «Путь к коммунизму», Алексеевского района, Харьковской области. Чем-то нужно было быть полезным. Но все же это не фронт. Как ни говорят, что завод, колхоз то же фронт. Это все не то. Федот да не тот. Но ничего не сделаем. Нужно пока мириться с этим. Война только началась.
В сентябре 1941 года эшелон со студентами– добровольцами двинулся в сторону Москвы. Комсоргом этого батальона был Леня Бержанский. Единственно, что напоминает сегодня об этом событии – памятник тем, ушедшим ребятам, рядом с университетом, над спуском Пассионарии.
Папа рассказывал мне обо всем еще много-много лет после войны.
17.05.43.
………………………………………..…………..
Вообще, сейчас полная неразбериха. Власти на местах – это маленькие царьки, что хо
тят, то и делают. Действуют по принципу: кого хочу – помилую, кого хочу – казню. По рассказам комиссара, жена секретаря Кустанайского обкома занята только пошивом новых нарядов. Продукты, привозимые для нужд города, складываются в кладовые обкома, и там “прилипают” к рукам. 14 мая, когда я приехал, привезли откуда-то сельди очень много. А вечером какая-то женщина тащила полный ящик от стола домой.
Сегодня мне дали в Обкоме поесть: стакан простокваши и четыре белых пирожка, начиненных рисом с яйцами. Поджаренные в масле. Вообще, очень вкусно, но не по военному времени.
С севом обстоит очень плохо. Некоторые колхозы и целые районы к 14 мая засеяли 14-16% площади. Нет тягла, нет людей, нет семян – вот основные причины.
…………………………………………………….
Записи в дневнике начинаются только со второй половины 1942 года. После того, как прожиты страшные месяцы обороны Москвы. На переднем крае – в пехоте. Ранение, обморожение, выздоровление и признание не пригодным к дальнейшей службе.
Он начал писать тогда, когда понял, что уже остался жив, что уже можно писать для себя, оставив себе память о войне.
Очень мало писал о том, что было там, на фронте.
Не писал о тяжелейшем ранении, о невыносимых болях. Правда, потом обо всем этом часто вспоминал.
А вот о любимой Лидочке в дневнике очень много.
После госпиталя поехал в г. Кустанай. Сначала работал инструктором обкома комсомола и ездил с проверками по колхозам. Потом вернулся к учебе в университет.
26.05.43.
……………………………………………………
Люди живут плохо. Чем же все это объяснить? Как мне рассказал ветфельшер в колхозе “Пламя”, уборка зерновых проводилась преступно: полову сложили в небольшие кучи и они сгнили, солому сложили в скирды и ее разворовали, сено сложили в скирды, и оно сгорело. Уход за скотом варварский. На работу идут по желанию.
Причина – война. Она забрала мужчин, лучших лошадей, заводы не дают запчастей для с.х. машин. Весь скот гибнет от голода на широких, степных пространствах. Земля не родит из-за плохой обработки. Люди истощаются то голодания. А пока война идет…
29.05.43.
……………………………………………………
Лида! Лида! В ней я нашел настоящего человека, любимую девушку, верного товарища. Всем я говорю, что она моя жена. По крайней мере, я так хочу. И сейчас я не могу ей изменить. Никакая женщина не заменит ее. Где ты, моя милая, родная? Чувствуешь ли ты, как я здесь, в далеком, диком Казахстане, страдаю о тебе?
Да, ты чувствуешь. Если мы никогда не соединим свои сердца, то память о тебе я унесу с собой в могилу как самое родное.
02.06.43.
……………………………………………………
В Федоровке один лейтенант дал мне любопытное письмо одной девушки какому-то ее другу в госпитале.
Вот его содержание.
Толик! Если у вас есть в госпитале подходящий капитан или майор, то, конечно, ты должен его мобилизовать на мою долю. Обрисуй меня в хороших красках, и скажи, чтобы он написал письмо. Только, конечно, чтобы был высокий, интересный, с руками и ногами. Одним словом, легко раненый и не женатый. Вот тебе мой заказ. Если выполнишь, то значит, ты еще кое на что способен. А если – нет, значит, тебе ничего нельзя доверять.
Сима.
Вот, дрянь! Значит, чтобы был с руками, ногами и между ногами.
07.11.43.
Домой явился в 5 утра. Встречали Октябрьскую годовщину. Сложились по 250 рублей и закатили такой пир, что не дай бог. Во всяком случае, было весело.
Вчера уже передали о взятии Киева войсками генерала Ватутина. Подъем невероятный.
……………………………………………………..
Несколько дней тому назад получил письмо из Дружковки. Пишут, что всех моих родственников и часть знакомых взорвали на заводе. В общем, немцы ввели «новый порядок».
08.11.43.
Иногда вдумаешься, всмотришься в свою жизнь, и делается страшно. Ведь я совсем не обеспечен. Вечно без денег, вечно мечта поесть, никогда не бываю сыт. Даже хлеба никогда не бывает. Что эти 600грамм, когда больше ничего. Одна надежда на столовую, где только гадкий винегрет без жиров, на обед суп землистый с черной лапшой, без мяса, без масла. Я не жалуюсь на судьбу, я понимаю, но….
……………………………………………………
Завтра меня будут принимать кандидатом в члены ВКП(б).
23.11.43.
С 21 ноября урезали всем норму хлеба. Теперь вместо 600 гр буду получать 500 гр.
29.11.43.
Только что студент историк 5 курса Михаил Слонимский, взволновано, подошел ко мне и, багровея до ушей, глядя пристально мне в глаза, резко спросил:
– Ленчик, не осудишь меня, если я тебе скажу одну вещь? Только секрет, об этом никто не должен знать.
Я пообещал не осуждать его и никому ничего не говорить.
– Я только что “срубал” (съел) кошку. Сварил с рисом и съел. Я больше не хочу голодать, когда перед моими глазами бегают такие продукты. Завтра думаю “срубать” (съесть) собаку. Я не знаю, почему люди раньше не догадывались “рубать” кошек. Мясо как курятина, правда, цвет характерный для млекопитающихся.
Я до сих пор не могу прийти в себя. Михаил мне, правда, сказал, что другим людям сделать это мешают предрассудки. Но он выступает против предрассудков и суеверия.
Да, это философия голодного человека. В мирное время он бы никогда этого не сделал. Но теперь его обрюзшее, красное, опухшее под глазами, обросшее шерстью лицо было способно съесть даже человека. Михаил очень способный, начитанный, умный студент. Но в военное время он не нашел себя, а трудности, которые уже третий год не убавляются, а обостряются, выбили его из колеи. Он не может приспособиться к этой жизни, поэтому ходит грязный, оборванный, сгорбленный. Его красный крючковатый нос сопит, а подслеповатые глаза куда-то жадно всматриваются. До чего может дойти этот человек. До убийства? До ограбления? Голод – это страшная штука. Голод может из самого культурного человека сделать зверя, убийцу. Все это ужасно. Война требует жертв.
09.04.44.
7 января уехал из Можги в Харьков. Приехал только 12. Город произвел жуткое впечатление. Разрушенные корпуса зданий. Изуродованный в моральном отношении народ.
……………………………………………………..
Приехавшие из Дружковки сказали мне, что Вася Еременко, мой лучший друг, с которым я 12 лет дружил, погиб. Жутко. Одиночество. Все гибнет вокруг меня. Что делать? Как жить дальше? Васи нет. Это легко сказать, но нелегко пережить. Я живу, а он лежит в сырой земле. Говорят, что он погиб в Крыму. Я прошел огонь и воду войны 1941-1942гг и не погиб. А он… он погиб.
Со вчерашнего дня все мне не мило.
15.04.44г.
Завтра первый день пасхи. Ну, и что же. Я один. Целый день работаю как вол, старясь забыть все и вся. Утром и вечером готовлю себе пищу. В Харькове жить легче. Питание плохое, но нет голодания как в Кзыл-Орде. Самое главное, никто об этом не знает. Я всегда внешне весел, но от этого в желудке не прибавляется. Сижу на постном масле утром, днем и вечером. В столовой – суп-вода и кашица на второе. Дома – суп с фасолью и пшенка. Но и на это нет денег. Целый день бегаю по городу добиваюсь квартиру. А потом уже поеду за мамой и сестрой в Можгу. На первых порах неудачи. В Дзержинском райисполкоме председатель на мое заявление о том, что я доброволец, сказал: что, дескать, ты сам пошел, тебя никто не звал.

Л.С.Бержанский, г.Костин Московской обл..
“Маме от Леонида на память”
24
Я несколько раз перечитывала этот небольшой дневник.
Некоторые страницы написаны карандашом. И приходилось каждое слово рассматривать под лупой. Мне казалось, что читаю о чувствах, о боли, читаю раздумья не молодого человека, которому чуть-чуть за 20, и которого называю “мой папа”, а о душевных страданиях моего ребенка. Может, потому что собственному сыну уже значительно больше. Читая папин дневник, во мне поднималось, наверно, больше материнских чувств. Болело сердце, потому что не могла накормить голодного мальчика, не могла облегчит боль его души.