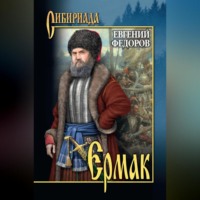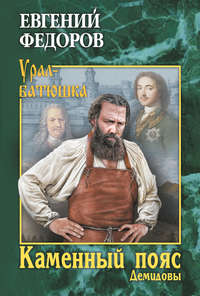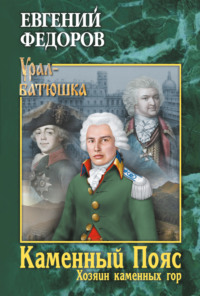Полная версия
Ермак. Том II
Жил Савва словно перекати-поле. Буйствовал с повольниками на Волге, а сейчас что случилось? Словно прирос к ермаковскому воинству. Много осталось позади: и Сылва-река, и Серебрянка, и Тура, и Епанчин-городок, и Тархан-Калла, и Бабасанские юрты! Много пройдено! И все вместе с Ермаком.
Шли за ним потому, что видели: крепко верит он в свое дело и знает, куда ведет казаков и камских солеваров, потому и зажигал он всех своей верой. Откуда же эта его вера и эта его сила? Народ родил их. Тот народ, что исстрадался под татарским игом и не хочет больше терпеть набеги кровавых хищников. Народ поручил Ермаку и его дружине защиту своей жизни и своей чести. Не будь такого – не было бы в казацком войске силы, были бы казаки тогда разбойничьей ватагой, а не воинством за правду.
Поп вздохнул и оглянулся на стан. Сильно одолевали комары и гнус. Их не было только у дымных костров, над которыми в черных котлах варилась душистая уха. Казаки сидели подле огней, под прозрачной кисеей голубоватого дымка и мирно гуторили. Над рекой, талами и камышами простирался безмятежный покой. Многие повольники лежали чуть поодаль от костров. Приятно было растянуться среди душистых трав, внимать голосу птиц, тихому шуршанью камышей и другим, еле уловимым, шорохам, наполняющим лесную чащу.
Паруса бессильно опустили крылья над Тоболом. У самого берега, среди кувшинок, играла и билась рыба, всплывала вдруг черная щучья спина и виделась на миг зубастая пасть, хватавшая лягушку или рыбу. Савву взволновала охотничья страсть. Он ринулся было к реке… Но заиграли горны: батька вызывал воинов на круг.
Загребая грузными сапогами, раздосадованный Савва пошел на сбор.
Среди дружины, поблескивая панцирем, на пне стоял Ермак и пристальным взором оглядывал воинство.
– Браты! – заговорил атаман. – Предстоит нам ныне не только лихость и умение свое показать, а и выдержать великий искус: терпением обзавестись! Все на нас падет, всякие лишения придут, а идти надо все вперед и вперед. Таков наш самый верный путь! И тут, чтобы одолеть врагов, должны мы быть прилежны и в строгом послушании. Трудно будет видеть врага, идти под его стрелами и скрепя сердце, притушив пламень в груди, продолжать дорогу, будто не слыша его озорных криков. Да, нужно это! Знаю я, браты, это потруднее, чем саблей кромсать, но такими быть должны в этом подвиге нашем! Слыхали, чай, вы добрую старинную сказку об Иванушке – русском молодце, и о том, как добывал он злат-цвет. Все поборол он, а самое главное впереди ждало. Надо было идти ему среди чудовищ, нечисти всякой, слышать за собой змеиное шипение и не оглянуться назад, не дрогнуть.
– Ты это к чему притчу, батька, сказываешь? – уставился в атамана чубатый казак с посеченной щекой. – Аль запугать удумал?
– Тебя не запугаешь, Алешка, ни лешим, ни оборотнем! – улыбаясь, отозвался Ермак. – О том весь Дон знает, а ныне и Волга и Кама-река!
Казаку лестно стало от доброго слова. Он оглянулся и повел рукой.
– Да тут, батько, все такие. Из одного лукошка сеяны!
Ермак прищурил глаза и подхватил весело:
– Выходит, один к одному – семячко к семячку: крупны, сильны и каждое для жизни!
Гул одобрения прокатился среди дружины!
Ермак вскинул голову и продолжал:
– Слово мое, браты, к делу. Дознался я, что на Долгом Яру опять нас ждут татары. Яр – высокий и впрямь долгий, не мало тревоги его миновать…
– Батько, дай после Бабасана отдышаться! – выкрикнул кто-то в толпе.
– Тишь-ко! – приглушили другие. – Сказывай, атаман.
– Нельзя медлить и часа, браты. Внезапность уже полдела. Перед нами одна дорожка – на Иртыш. Надо прорваться, браты! Пусть осыпают нас стрелами, а мы мимо, как птицы! Зелье беречь, терпеньем запастись. Плыть с песней, казаки! А сейчас к артельным котлам, набирайся сил – и на струги! Плыть, братцы, плыть, мимо ворога, с песней!
– Постараемся, батько! – ответила дружно громада.
– В добрый час, браты! – поклонился дружине Ермак и сошел с мшистого пня.
Над глушицей вился сизый дымок. У костров казаки хлебали, обжигаясь, горячее варево.
В полдень кормщик Пимен махнул шапкой, и вмиг на мачтах взвились и забелели паруса. Береговой ветер надул их, и они упругой грудью двинулись по течению. Под веслами заплескалась волна. И над рекой, над лесами раздалась удалая песня. Вспоминалось в ней о Волге:
По ельничку, по березничкуЧто шумит-гремит Волга-матушка,Что журчит-бранит меня матушка…Атаман снова впереди всех, смотрит вдаль, а голос его рокотом катится по реке. Поют все лихо, весело. Хантазей и тот подпевает. Время от времени он утирает пот и вздыхает:
– Холосый песня, очень!
В лад песне ударили в барабаны, зазвучали сиповки, серебристыми переливами голосисто заиграли трубачи.
Словно на светлый праздник торопилось войско. Кончило одну песню, завело другую – о казачьей славе.
Струги шли у левого лугового берега, покрытого таволгой и густой высокой травой. Справа навстречу выплывал темный Длинный Яр.
– Ну-ка, песельники, громче! – гаркнул Ермак.
Заливисто, протяжно до этого стлались по Тоболу душевные казачьи песни, теперь же торжественность и величавость их вдруг сменились бойкостью, слова рассыпались мелким цветным бисером.
У нас худые времена –Курица барана родила.Кочерга яичко снесла.Помело раскудахталося… Эх!..Вот и крутые глинистые обрывы, а на них темным-темно от всадников. Сгрудились стеной, и луки наготове. Доносится и волнует сердце чужое разноголосье.
– Словно вороны слетелись на добычу! – с ненавистью вымолвил Ильин. – Из пушечки бы пальнуть!
– Гляди, гляди! – закричали дружинники, и все взглянули влево. Там, над зелеными зарослями таволги, над травами, плыла хоругвь с образом Христа. Невольно глаза пробежали по стругам – среди развевающихся знамен и хоругвей знакомой не отыскалось.
– Наш Спас оберегать дружину вознесся! – удивленно перекликались казаки. И впрямь, со стругов казалось, что хоругвь трепещет и движется сама по воздуху.
Громче загремели трубы, заглушая визг стрел, которые косым дождем посыпались с крутоярья. Татарская конница, не боясь больше огненного боя, живой лавой нависла на береговом гребне, озаренном солнцем. На статном коне вылетел Маметкул и, подняв на дыбы ретивого, закричал по-татарски:
– Иди в плен или смерть! Эй, рус, на каждого тысяча стрел!
Не раздумывая, казак Колесо спустил шаровары и выставил царевичу зад:
– Поди ты… Вон куда!..
Из-под копыт пришпоренного коня глыбами обрушилась земля в закипевший Тобол. Маметкул огрел скакуна плетью и, задыхаясь от ярости, кинулся в толпу всадников.
– Шайтан! Биллягы![22] Пусть забудут имя мое, если стрелы моих воинов не поразят их раньше, чем закатится солнце. Джиргыцин![23] Я искрошу казака на мясо и накормлю им самых паршивых собак. Бейте их, бейте из тугих луков!
Потоки воющих стрел низали небо, они рвали паруса, застревали в снастях; одна ударила Ермаку в грудь, вогнула панцирь, но кольчужная сталь не выдала.
– Поберегись, батько, не ровен час, в очи угодит окаянная! – заслоняя атамана, предупрел Иванко Кольцо. Ермак локтем отодвинул его в сторону.
– Не заслоняй мне яра! Трубачи, погромче!
Белокрылые струги легко и плавно двигались вниз по Тоболу мимо выстроенного, как на смотру, татарского войска. Изумленные татары дивились всему – и ловкости кормщиков, и неустрашимости казаков, и веселой игре трубачей. Но больше всего поразил ордынцев плывущий над зеленым разливом лугов образ «Спаса».
– Колдун, шаман, русский батырь! – кричали татары.
– Велик бог! – вскричал Маметкул и набросился на ближнего конника. – Чего скалишь зубы и порешь брехню? Какой шаман? Тьфу! За твои речи я сдеру с тебя кожу и набью ее гнилым сеном! Я вырву язык тому, кто закричит о чародействе русских, и велю всунуть его в свиное гузно!
Мокрое от липкого пота лицо тайджи исказилось от гнева. Со злой силой он сжимал рукоять плети, готовый в любой миг исполосовать неугодного.
– Бейте из луков! Бейте! – кричал он. – Я залью Тобол русской кровью. Биллягы! Скоро мы скрестим сабли над дерзкими головами!
Но трубы над водой не прекращали греметь. Дружно размахивая веслами, казаки пели:
По горючим пескам.По зеленим лужкам…Да по сладким лужкамБыстра речка бежит…Эх, Дон-речка бежит!..Солнце раскаленным ядром упало за лесистые сопки, засинели сумерки. Татарский говор и крики стали смолкать, последние стрелы ордынцев падали в кипящую струю за кормой. Постепенно стихла песня, умолкли трубы. Высоко в синеве замерцала первая звезда. Долгий Яр остался позади, окутываясь сиреневой мглой.
Хоругвь со «Спасом» подплыла к берегу, из лозняка вышел поп Савва и крикнул:
– Умаялся, браты, еле на ногах стою.
Ертаульный струг подошел к мысочку. Поп, бережно храня хоругвь, заслоняя ее своим телом, перебрался на струг. С опухшим лицом, облепленный комарьем и мошкарой, он со стоном опустился на дно.
– Вот оно как! – со вздохом вымолвил он.
– А мы и не знали… Ну, спасибо, друг, хитер ты, и нас ободрил, и татар напугал…
Но Савва уже не слышал: от усталости он повалился на спину и захрапел.
Вызвездило. Над кедрами дрожал хрупкий бледный серпик месяца. Вода под веслами сыпалась серебристыми искрами. Струги шли ходко, а Ермак мысленно подгонял их: «Быстрей, ходче, браты…»
Гремели уключины, с громким окриком сменялись гребцы для короткого сна. Только кормщик Пимен не сомкнул глаз – он неподвижно стоял на мостике и следил за стругами.
2
В шестнадцати верстах от устья Тобола лежит изогнутое подковой Карача-куль[24]. Над ним тынами темнеет городище кучумовского советника Карачи. Надлежало ханскому служаке следить, кто по Тоболу плывет, дознаться – с добрыми или худыми замыслами.
Карача – маленький плешивый старичок – жил тихо, угождал хану. Чтобы не утерять волости, он отвез Кучуму свою единственную дочь – красавицу Долинге. Мурза был хитер, из ясака немало утаил от хана. В кладовушках его хранились лучшие собольи и лисьи меха, в окованных ларцах переливались яркими огнями редкие самоцветы. В синем шатре Карачи резвились семь молодых жен. Быстроглазые, они насмешливо взывали к мужу:
– Козлик, наш козлик, поди сюда!
Всего вволю имелось у Карачи, но одно волновало его – незаметно подкралась старость и ушли силы, как вода из обмелевшего пруда. Только лукавство и вероломство росли с каждым годом, и все надменнее становился Карача. Бежавшие с верховьев Тобола татары с изумлением и страхом рассказывали мурзаку о пришельцах из-за Каменного Пояса. Он посмеивался в бороденку; не верилось ему, чтобы несколько сот казаков могли дерзко пройти до Иртыша. Но когда вечером на взмыленном коне прискакал гонец и оповестил о разгроме Маметкула под Бабасанскими юртами, Карача упал на колени, простер к небу руки и, потрясая ими, завопил:
– Аллах всемогущий, отведи ханский гнев! Что скажу я сильнейшему и мудрому Кучуму в свое оправдание?
Гонец злобно сказал:
– Ничего не скажешь, твою голову он наденет на острый кол, а тело бросит псам. Ты проглядел врага!
Карача обернулся к гонцу.
– Я могу за такие слова отрубить тебе голову раньше, но я не кровожаден. Скачи в Искер к хану и скажи ему: «Пока жив Карача, русские не пройдут к Иртышу».
Вечером в городище закрыли все ворота, завалили их камнями и дерном. Мурзак с муллой взобрался на минарет и оповестил:
– Аллах, сам аллах и Магомет, пророк его, повелели нам покарать неверных! Смерть нечестивым! Они идут сюда, готовьтесь их достойно встретить мечом и стрелами!
Из-за рощи выкатился ущербленный месяц. Над башней бесшумно пролетела сова. Карача стоял у каменного парапета и всматривался в зеленый сумрак, простершийся над землей. Серебристой рябью морщились озерные воды, и лунная дорожка бежала к другому берегу. Шумит камыш, из него черной тенью выкатился волк и, крадучись, трусливо побежал к лесу.
Внизу, в маленьком дворике, там, где воды близко подходят к стенам, ржали оседланные кони. «Лучше иметь трех скакунов, чем покорно ждать смерть!» – подумал Карача и вспомнил о женах.
В полночь их усадили в ладью, и суденышко уплыло в камыши. Самая младшая и красивая из жен – Зулейка – большими темными глазами взирала на своего повелителя.
– Неужели ты останешься здесь умирать? – встревоженно шептала она. – Боюсь, что ты всех нас обманешь…
Мурза так и не дознался, о чем хотела сказать Зулейка, так как ладья отплыла от берега.
К утру, когда все тонуло в зыбком тумане, под стенами городища появились изнуренные, голодные и оттого злые казаки. Вдали в солнечном озарении ослепительно белели тугие паруса на стругах. Они показались татарам крыльями неведомых птиц.
Казаки пошли на приступ сомкнутым строем. Над ними развевались сверкающие хоругви. В напряженной тишине гулко раздавались грузные шаги. С тяжелыми топорами бросились ермаковцы на тыны. Каждого из них донимали раны, и у каждого кипело сердце. Столько плыли, шли, бились, поливая кровью сибирские просторы, оставляя под курганами тела товарищей! Теперь все это сразу вспомнилось и всколыхнуло кровь.
– На слом, браты! – потрясая мечом, загремел Ермак. С башенок и тынов навстречу летели камни, но он шел прямо, грозно, а за ним спешили казаки.
Карача явственно видел их суровые, загорелые лица, полные решимости. Правее, впереди горсти воинов, с кривой саблей бежал смуглый проворный казак. Он выкрикивал что-то озорное.
Карача схватил лук, пустил стрелу. Озорной казак завидел мурзу и пригрозил ему саблей:
– Доберусь до тебя, тогда – молись, сукин сын!
Мурзе стало страшно: он вдруг понял, что перед этими людьми не устоит его городок. Незаметно покинув тын, Карача выбрался тайной калиткой к озеру. Верный слуга ждал его на утлой душегубке. Над озером все еще колебались холодные седые космы тумана, когда мурза уплывал в густой камыш… Позади все громче становились крики…
В ранний час казаки ворвались в городок. С плоских крыш на них лили кипяток, бросали камни, песок в глаза. Шли в последнюю битву древние старики, давно не державшие оружие. Даже женщины и подростки, подобрав подле трупов копья и мечи, вступили в бой.
На площади перед мечетью собрались последние защитники – оплот ислама, которых до решающей минуты берег Карача. Они не молили о пощаде, сбились в плотные ряды и пошли навстречу казакам, без криков, не спеша. Это были отборные воины, молодец к молодцу, – рослые, сильные, многие из них в кольчугах и начищенных латах, блестевших на утреннем солнце. С кривыми ятаганами они бросились на казаков.
– Добры вояки! – похвалил Ермак. – Живьем бы взять!
– Да нешто их, чертей, возьмешь, батька! – огорченно вскрикнул Брязга. – Гляди, как режутся!
Под их ятаганами падали посеченные тела.
– Не можно терпеть, батько! – кричали казаки, и жесточь овладела ими. Они били топорами, палицами, рубили мечами идущих на смерть фанатиков. Быстро редела толпа храбрецов, и наконец остался один. Брязга ловким ударом выбил из его рук ятаган. Казаки навалились скопом и повязали удальцу-татарину руки. Его подвели к Ермаку.
– Хвалю, джигит! Иди ко мне! – сказал он по-татарски.
Изумленный татарин упал на колени, и крупные слезы потекли по его лицу:
– Вели рубить мою голову! – взмолился он и склонился перед атаманом.
– Да зачем же рубить ее, коли ты еще молод и в честном бою взят? – удивился Ермак.
– Секи, рус! Не могу в неволе жить! – горячо вымолвил татарин.
– Коли не можешь жить в неволе, иди, куда глаза глядят! Браты, освободи его! – усмехнувшись, взглянул на пленника Ермак.
Татарин с недоумением разглядывал казаков. Бородатые, кряжистые, злые в сечи, сейчас они добродушно кивали ему:
– Айда, джигит, уходи!
Пленник закрыл руками лицо и в неподвижности простоял с минуту, потом встрепенулся, опустил ладони. Глаза его блестели радостью. И вдруг он рассмеялся.
– Можно? – переспросил он.
– Айда! – махнул Ермак.
Татарин сделал два-три неуверенных шага вперед, потом сорвался, подпрыгнул и легко понесся к озеру. С размаха он бросился с зеленого обрыва в воду и ушел в глубь.
– Никак утоп? – вздохнули казаки, но в тот же миг просияли: на озерной глади появилась бритая голова и стала быстро удаляться к противоположному берегу.
Выплывшие из-за мыса два лебедя, завидя человека, шумно захлопали крыльями, побежали по воде, поднялись ввысь и вскоре исчезли, как дивное видение. А вслед за ними растаял в синеватом мареве и пловец.
3
В амбарах Карачи сберегалось много добра. Была и ячменная мука, и арпа-толкан[25] – неизменная еда бедняков, хранились бочки меду, вяленое мясо и рыба. Казаки наелись вволю, напились кумыса и ходили по городищу веселые, сытые и немного охмелевшие.
Только один Ермак не изменил своей привычке: поел толокна с сухарями и тем удовольствовался. Опытным взглядом он рассматривал свое воинство. Исхудалые, обросшие, оборванные казаки имели суровый, закаленный вид, но видно было, как они смертельно устали. Все – от атаманов до рядового казака.
Полный раздумий сидел Ермак в шатре. Неподалеку – Иртыш, а там, на крутых ярах, кучумовская столица Искер. Перебежчики сообщили атаману, что ханские гонцы рыскают по улусам и северным стойбищам, сзывая народ на войну. Уже примчали в Искер степные кочевники на шустрых косматых коньках. На ярах пылают костры, наездники живут под открытым небом. Ржанье их жеребцов слышно в Заиртышье. Из сумрачной тундры на поджарых, полинявших оленях и на собачьих упряжках подоспели остяки. Из Прикондинских лесов подошли вогулы – воины в берестяных колпаках и с деревянными щитами, обтянутыми кожей. Но хан все еще колеблется, выжидает. Он не верит, что пятьсот русских дойдут до Искера…
«Надо дойти! – сдвинув густые брови, думает Ермак. – Дойти и напомнить хану его прошлые дела, пролитую кровь».
Перед мысленным взором атамана лежала обширная страна, населенная разными народами, чуждыми татарам и враждебными к хану. Если сбить Кучума с его куреня – откроется несбыточное… Да, другие люди шли теперь с Ермаком, не те, что приплыли с Волги. Была вольница, а теперь кусочек Руси.
«С ними дойдешь! – решает Ермак. – Но дух перевести надо! Пусть перестанут ныть раны их, пора отдохнуть! Сакма[26] на Искер – последний невиданный подвиг. Перед ним, видно, придется сделать великий искус, пытать рать нуждой. Скуден, ой как скуден хлебный припас! Выдюжит рать, тогда и вперед будет с чем идти».
В шатер по-медвежьи ввалился Мещеряк. Лицо круглое, изрытое оспой, плечи широкие и руки – медвежьи лапы.
«Силен! – с одобрением подумал о нем Ермак. – А к силе ум немалый и великая хозяйская сметка!»
– Ах, Матвей, Матвей, тебе бы думным дьяком в приказе сидеть! – не утерпел и сказал Ермак.
– Мне в приказе сидеть не с руки, – серьезно ответил Мещеряк, и его водянистые глаза потемнели.
– Пошто? – спросил Ермак.
– Всех приказных хапуг перевешаю за воровство и сам с тоски сдохну, – не моргнув глазом, ответил Матвей и вместе с атаманом захохотал.
– Ух, и вольно бы тогда дышалось на Руси! – сквозь смех выговорил Ермак.
Мещеряк в раздумье сдвинул брови.
– Нет, – покачал он большой головой. – Не быть этому на Руси! Как только на Святой земле появились приказные крысы да иуды, с той поры и пошло заворуйство и лихоимство! И не будет ему перевода до конца века.
– Вишь ты, что выдумал! – весело удивился Ермак. – Так и не будет перевода?
– Хочешь верь, атаман, хочешь нет, но, видать, руки у того, кто к складам да амбарам, да к торговлишке приставлен, так устроены, что чужое добро к ним прилипает!
– Вон оно что! И у тебя, выходит, такие руки?
– Мои руки чистые: своего не отдам и чужого не возьму!
– Добрый порядок! – уже не смеясь, похвалил Ермак. – Ну, сказывай, что с припасами?
– Беречь надо, – ответил Мещеряк.
– Коли так, будем беречь, – согласился атаман. – Зови Савву!
Загорелый, жилистый поп предстал перед Ермаком.
– Ведомо тебе, что наступает Успеньев пост? – спросил атаман.
– Уже наступил, – поклонился Савва. – Добрые люди две недели блюдут пост, а наши повольники скоромятся.
– Какой же ты поп, коли дозволяешь это?
Савва поскреб затылок:
– А что поделаешь с ними? Да и не знаю: то ли я поп, то ли я, прости господи, казак? С рукомесла сбился.
– Вот что, милый, – негромко сказал Ермак, – предстоит нам идти на зимовье. А перед тем, как решить, что делать, повели всему воинству поститься, да не две недели, а сорок ден. Слышал? Можно то?
– Казаки не иноки и не пустынники… – заикнулся Савва. – Не выдюжат… согрешат.
– Так ты молебен устрой да богом усовести их. Адом пригрози. Тебе виднее. А на все время поста мое атаманское слово – отдых!
Расстрига тряхнул волосами:
– Будет так, как велено! Выдержат искус, атаман!
– Ну, молодец поп! Спасибо тебе. – Ермак хлопнул Савву по плечу.
Вскоре в Карачине-городке отслужили молебен. Иерей, облаченный в холщовую ризу, торжественно распевал тропари, курил смолкой, а сам умильно и с хитрецой поглядывал на повольников: «Кремешки и грешники! То-то постовать заставлю вас!»
А «кремешки» и «грешники» стояли с опухшими лицами: комары и неистребимый гнус за летние недели искусали их лица, шеи, руки. Не спасали ни смоляные сетки, ни дым костров.
Склонив голову, среди казаков стоял и Ермак. Тяготы и заботы оставили следы и на его лице. В бороде атамана еще больше засеребрилось прядей.
Чувство жалости наполнило сердце попа, голос его задрожал: «Какой тут пост! Едой бы крепкой побаловать трудяг. Устали, бедные!»
А воины и впрямь утомились. Теперь они, как селяне, вспахавшие поле, умиротворенно слушали молитвы, старательно крестились и кланялись хоругвям. Когда Савва оповестил их о сорокадневном посте, никто ни словом не взроптал.
Стоявший рядом с Ермаком Иванко Кольцо протяжно вздохнул:
– О, господи, помоги угомонить плоть!
Ермак взглянул на атамана, заметил горячий блеск его глаз и подумал: «Этот и до могилы не угомонится!»
Матвей Мещеряк тут же, на молитве, отозвался на слова попа:
– Браты, перенесли мы тяжкие испытания и стали крепкими и непобедимыми! Так железо крепчает и становится годным для меча только в огне горна! Испытаем, браты, дух свой еще и постом и подумаем, как быть? Пусть каждый из вас честно прислушается к своей совести, что она скажет. Правду ли я говорю?
– Правду! – хором ответила громада.
Лицо Ермака просветлело. Добрыми глазами оглядел он своих бойцов: «Вот когда все казачьи думки слились воедино!»
– Батько, – прошептал ему на ухо Кольцо. – А коли повоюем Сибирь, быть тут казацкому царству!
Всегда охотно об этом говоривший, Ермак вдруг нахмурился и промолчал.
4
Четырнадцатого сентября тысяча пятьсот восемьдесят первого года казаки покинули Карачин-городок и отплыли вниз по Тоболу. Берега были охвачены осенним багряным пламенем. Желтели и осыпали яры золотыми листьями догоравшие березки, трепетали на солнце лиловые листья осины. По буграм, откосам, берегам розовели, бурыми, рыжими разводьями ярко пестрели леса. Стояли сухие и красные дни осени.
Вдали выступили утесы, на них, торжественный, сияющий под солнцем, шумел кедровник. Струги вышли на стремнину; с каждой минутой утесы все больше расходились в стороны, и вдруг разом за ними распахнулась водная ширь.
– Иртыш-батюшка! – полной грудью вздохнул Ермак.
Казаки сняли шапки, кланялись великой реке, черпали горстями воду и пили.
– Студена!
И не только вода оказалась студеной. В лицо ударил холодный ветер-бедун, он поднимал высокую свинцовую волну, и хлестала она в глинистый берег. Ермак прислушался к шуму ветра. Долетели до него и отдельные отрывочные слова:
– Вот коли подоспела осень. Стужа, ветер…
– Годи, не спорь, Кучум шатры теплые припас для нас.
Раздался веселый окрик Брязги:
– Браты, не унывай. Ударим – или Сибирь наша, или с ладьи – прямо в рай. Казаку пугаться нечего. Гей-гуляй! Песню!..
Могучие голоса огласили Иртыш:
Не шуми, мати зеленая дубравушка,Не мешай мне, добру молодцу, думу думати…День быстро угасал, надвигались сумерки. На правом берегу Иртыша замаячили огни. Смолкла песня. За бортами стругов плескала волна, но сквозь шорохи и плеск слышался гомон и топот коней.
– Вот коли доплыли! – с горечью сказал Савва. – Хан Кучум, поди, давно нас поджидает.
– Струсил? – спросил его Ермак.
– И у храброго сердце замрет перед битвой последней, – не скрываясь, ответил поп.
В густых талах шумит и стонет ветер, и в ответ ему глухо ропщет Иртыш. Грозно вздулась сердитая река, торопит ладьи. Ночная тень окутала весь мир.
– Как будем, батько? – Перед атаманом появился кормчий Пимен.
– Всю ночь плыть! – решительно сказал Ермак. – А трубачам играть отход ко сну.
Стих шум на стругах. Усталые казаки вповалку спали. Ермак всю ночь не сомкнул глаз, думал: «Близится час, последний час, когда решится участь всей дружины. Теперь ничто уж не остановит схватку!»