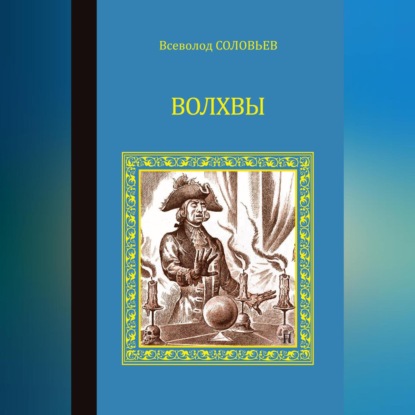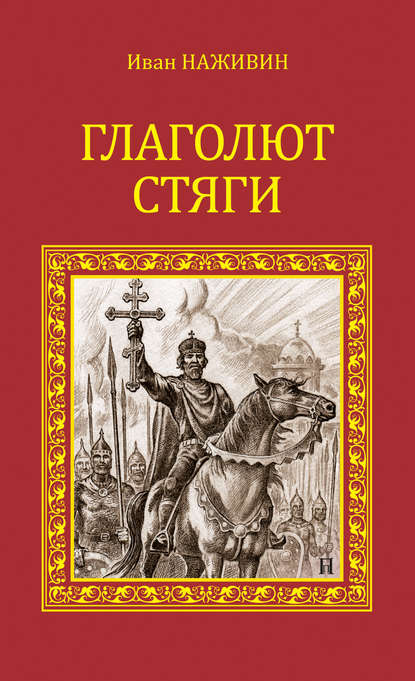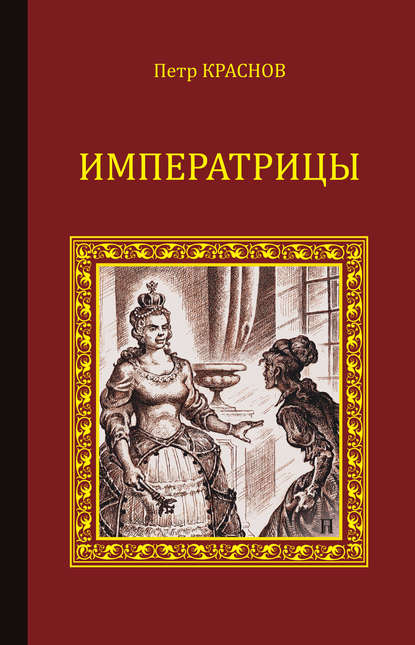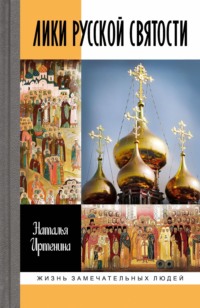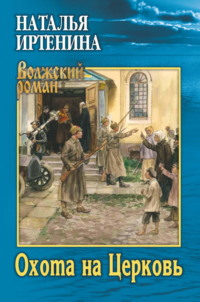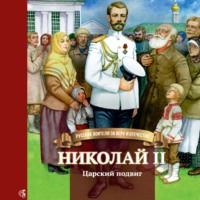Полная версия
Русь на Мурмане
– А где оно, море-то? Все только о нем говорят.
– Море-то? Дак отсюль не видать. По Двине ешшо семьдесят верст проплыви – вот те и море.
Митроха вздохнул.
– Воли-то сколько тут. Простору.
– На Москве небось такого нету?
– Нету.
– Оставайся.
– Пращур мой тут остался. В землю лег.
– Ну?! – удивился двинянин.
– Вот те ну! Где такое место – Варзуга-река?
– То на Терском берегу. Как из морскова Гирла в окиян плыть, по левую руку тот берег.
– Живут там монахи?
– Был ихной погост в стары годы, от Николы Корельского цернецы, цто у Двинской губы. Сейцяс только село, монасей нету. А на цто тебе?
– Там он лежит. Погиб от мурман-находников. Чернецы, которых не зарезали, его погребли.
– Быват, – покивал служилец, перекрестясь.
– А мурманы – они кто? – наседал Митроха. – Где живут?
– Мурманы-то… дак немчи и есть. Кто ж ешшо. А мурманами зовуцца от моря Мурманска, моря-окияна, которо лопску землю с северу моет. За тем морем далеко живут, на норвецком берегу. Оттуда и приходят на своих бусах-корабелках. В досельны-то годы, в старину бывалу, новгородчи с корелой ходили туда дань с тамошней лопи брать. Племя тако дикуще – лопяне. А и мурманы с нашей лопи дань берут.
– Как же – и нам и им лопское племя дань дает? – удивился отрок.
– Дает. Им-от, лопи дикой, все равно, кому давать. А даньщики ихные с нашими, быват, вздорили, быват, и бились. Порато бились. Ну, крепко, весьма, – объяснил двинянин незнакомое Митрохе здешнее словцо.
Мальчишка задумался, затвердел скулами. Наконец сказал:
– Мурманы, свеи, каяны. Всё едино немцы. Возьму и я с них свою дань.
От крыльца дома с высоким всходом донесся шум голосов, крики. Несколько послужильцев, среди которых были и посольские, и воеводские, ругались с оборванным и косматым простолюдином в войлочной поморской шапке. Мужик был плечист и здоров, как конь, в левой руке держал на весу толстый длинный сук. Всем видом говорил, что готов пустить свою дубину немедля в дело.
– Пшел, дурень сиволапый, куда лезешь мохнатым рылом.
– У князь-государя воинских людей хватает, чтоб еще безрукие в службу просились.
Митроха пригляделся – одной руки у мужика впрямь не было. Он ушел с завалинки, чтобы послушать перебранку.
– А я и одной рукой вас, робятушки, всех оземь тут положу, ежели захотите.
– Чиво-о?
Двое послужильцев пошли на наглеца: один подхватил брошенный кем-то на земле топор, другой заголил саблю. Мужик немного отступил, перехватил поудобнее палку и осклабился.
– Ну коли не боитесь, робяты…
Но драке не дали начаться. Меж противниками встряли, оттеснили по сторонам.
– Ступай прочь, дядя. Мы убогих не трогаем. Был бы ты о двух руках, тогда и разговор бы был.
– Робятки! – Мужик бросил дубину и пал на колени, перекрестил лоб. – Христом Богом прошу… возьмите с клятыми немчами воевать. Порато надо! Те окаянные нехристи руку мне отняли за так, а приятелев моих, с которыми промышляли рыбу на Каяне-море, голов лишили. А я им глотки грызть стану, только с собой возьмите, робятки! Воеводу покликайте, служивые! Ну крещеные вы аль нет?!.. Совесть-то у вас христьянская есть?
Его вопли не слушали. Втроем взяв мужика под руку и за тулово, выволокли со двора. Следом бросили палку.
Митроха подождал, пока служильцы уйдут от ворот, и выскользнул на улицу. Вытолканный взашей простолюдин сидел в траве у забора, поникнув, подогнув под себя ногу, и беззвучно содрогался. Отрок молча встал перед ним, сунув большие пальцы рук за пояс и размышляя. Мужик поднял голову, махнул единственной рукой, отгоняя его прочь. Из глотки вырвалось короткое глухое рыданье.
– Хочешь воздать тем немцам? – спросил отрок и не дождался ответа. Присел перед мужиком на корточки: – Отдай мне свою месть. Я смогу. Мне они тоже должны.
Но однорукий снова отмахнулся, стыдясь своей слабости перед мальчишкой.
4
Гулкий плеск моря свивался в невидимый лохматый клубок с шумом ветра.
Больше всего здесь было ветра, сосен и дикого валуна. Еще цветных мхов, сидевших на камнях. Остров Соловый оказался вовсе не соловой масти, как думал Митроха. Он был зелен, а бессолнечный свет ночей делал его густо-синим. Даже на безлесом берегу, среди вросших в землю ветхих валунов и криворуких, колченогих от вечного ветра берез остров казался дремучим, спящим от сотворения мира. Пришли люди, согнали самый крепкий сон, но разбудить совсем им стало не под силу. Лежит остров на пучине морской, накрыт небом – переливами цвета одно переходит в другое, будто лазорево-жемчужная утроба покоит этот кус земли, бережет его для чего-то. А души людей, попадающих сюда, нанизываются на суровую нитку вечности.
Митроха испытывал на Соловце унылое беспокойство. Не понимал, зачем воеводы тратят здесь дни, когда нужно спешить, ведь северное лето короче, чем в низовских землях. Временами даже казалось, что остров обволакивает разум забвением и никто кроме него, Митрохи, уже не помнит, куда и для чего направляется рать. Дядька Иван Никитич, спрошенный о том прямо, лишь осведомился, почему он не пошел в монастырь для исповеди и причастия. Но Митроху в отличие от князей-воевод на разговоры с чернецами не тянуло.
Тянуло, наоборот, прочь с острова. Хотя б на те клочки земли, что отпрядышами лежали вокруг Соловца. К Заяцкому острову отправилась большая часть насадов, плывших от Колмогор. Только три воеводских пошли к соловецким пристаням средь мелей, подводных скал, корг по-местному прозванию, и торчащих из воды плешивых каменных островков-луд. И то встать им пришлось в полутора верстах от монастырского причала, иначе б сели на брюхо. Намедни Митроха просился у Палицына отплыть с попутным карбасом на Заяцкий, но дядька не пустил. А нынче объяснил – для чего. От такого объяснения у Митрохи аж дух скрутило, как стираное полотно в руках бабы-портомои. Обида в груди встала нешуточная. Иван Никитич велел ему оставаться на острове, в монастырском жилье, и ждать возвращения рати из Каяни.
– За что так со мной, дядька?! – взвыл отрок. – Ты ж обещался!
– Ноне передумал! – отрубил сотенный голова. – Князь тебя доглядел, отсоветовал брать. Не на гульбу идем – на ратное дело. На дворе служить одно, а в сечу тебе рано соваться.
– Да ты… да он… – У Митрохи дрожали от возмущения губы и затравленно скакал взгляд. – Да я же…
– Остаешься! Будешь ждать меня или…
– Не буду. – Отрок мотал головой, пятился. – Сбегу! Хоть на чем, а за вами поплыву. По-собачьи поплыву!
– С игуменом я договорился, монахи за тобой приглядят. А утащишь у них карбас и один уплывешь – в море погинешь. И не такие умельцы да смельчаки, как ты, в нем смерть находят.
И время-то какое обидное выбрал дядька Иван Никитич для такого разговору – перед самым отплытием, когда уже ветер дул попутный, поветерь на здешний лад, и ратные люди грузились на лодьи, а князь Ушатый о чем-то напоследок переговаривал с кормщиками у пристаней.
Митроха не сдержал гнев, рвавшийся из него. Позабывши себя, стал орать на дядьку. Да и того не мог вспомнить после, про что так яростно кричал, ополоумев. Что-то про дядькину зависть к нему, будто-де не хочет Палицын, чтоб он, Митроха, показал себя воином, и будто позарился уже на его поместье. Что будто бы думает совсем втоптать его род в землю, самого Митроху за холопа в своем доме держит, а теперь еще хочет, чтоб он тоже в монахах сгнил, как черный поп Досифей…
В чувство его привела тяжелая оплеуха. Устоял на ногах. Потер горящую скулу, поднял упавшую шапку, со злобой глядя на Палицына. Тот был немного растерян, однако спокоен. Митроха стал озираться – боялся позора. Но свидетелями его разговора с сотенным головой были только бездушные камни на берегу, волны и крикливые чайки. Палицын будто знал – увел мальчишку подальше от лишних глаз и ушей.
Отрок бросился бежать. Вылетел на тропу, ведущую к монастырю, помчался в другую сторону. Задыхаясь от бега и ненависти, сжимавшей горло, впрыгнул на первую же сходню. За бортом лодьи на пути у него вырос дворовый служилец Палицына Гераська – тулово как бочка, руки что весла. Митроха не стал с ним спорить, скосил глаза на другой насад.
– И туда не пролезешь. Там Климята поставлен.
Про третью лодью и думать не стоило, на ней княжьи люди досматривают. Отрок спустился на берег, чуть не плача от бессилия. Ушел с каменистой полосы в траву, сел, подтянул колени к груди. И все время, пока пристанские монахи-служки не убрали сходни, отчаянно ждал, что все-таки позовут. Но дядька Иван Никитич взошел на лодью, не оглянувшись.
Митроха встал.
– Равк, – тихо сказал он. Повторил громче: – Равк! – Он и хотел услышать ответ, и боялся. Страсть пересиливала страх. – Ну отведи же меня на лодью, чертов Равк!!
Насады один за другим отходили от пристаней, разворачивались, бежали в море. «Обманул!»
Отрок опустился в траву, уткнулся лбом в колени. Не видел, как вдали на первой лодье, миновавшей опасные корги, развернули парус. Но не успели поставить парус на второй, как головной насад обронил белое полотнище и стал поворачивать. Возле него на воде темнело пятнышко – карбас.
Когда Митроха кое-как совладал со своим горем и глянул в море, его ошеломило зрелище приближающихся насадов. Один за другим они подходили, убирали длинные весла, причаливали, выметывали якоря, принимали сходни. С головного первым сошел хмурый воевода Петр Ушатый. За ним, как репа из мешка, посыпались по сходням боярские дети, походная челядь. Заложив руки за спину, князь Петр смотрел, как перепрыгивает через прибрежные волны карбас.
Служильцы вытащили лодку на берег. На руках у них повис полумертвый от усталости вёсельщик. Стал говорить что-то подошедшему князю. Из карбаса вынесли еще одного, положили наземь. Митроха разглядел обломок стрелы, глубоко засевшей в плече.
На берегу стало густо от множества людей. Все говорили разом, но Митроха никак не мог вникнуть в смысл речей и криков. Его занимало совсем другое – он видел перед собой опустевшие лодьи и сходни. Подошел ближе. Никто не обращал на него внимания.
Мальчишка юрко взбежал по шаткой доске, прыгнул через борт. Метнулся к спуску под палубу, нырнул в полутемную дыру. Утроба насада была загружена лишь вполовину. В обычное время здесь складывали купеческий товар, а сейчас только несколько бочек с водой и соленой рыбой да мешки с крупой и сухарями. Отдельной грудой, укрытой промасленным полотнищем, лежал воинский снаряд – доспехи-куяки, кольчуги, щиты, шлемы с наголовниками, оружие. Кучей свалены стеганые доспехи-тегиляи. Митроха подцепил один из них, ужом прополз между бочками и затулился на подтоварье у самого борта, за которым плескала вода.
Сердце бешено бухало. Он устроился удобнее на мягком тегиляе, закрыл глаза, нащупал на груди гривну. Теперь можно плыть.
…Снилось отроку, будто дядька Иван Никитич отвешивает ему одну за другой крепкие затрещины. Митроха вскрикнул от особо увесистой, по лбу, и проснулся. Долго ошеломленно соображал, что с ним и где он. Его мотало из стороны в сторону, больно било по голове, спине, плечам. В ушах стоял страшный грохот и свист. На полу, где он сидел, было мокро – откуда-то натекала вода. Душа сжалась от ледяного ужаса.
Он пробрался на ощупь меж тяжелых катающихся бочек и вскарабкался наверх, на палубу. Сразу обдало промозглым холодным ветром. Спотыкаясь о сидящих и лежащих повсюду людей, то и дело валясь с ног от чудовищной качки, мальчишка добрался до кормы. Там на руле обвисал кормщик – удерживал всем туловом лодейное кормило. Митроха схватился обеими руками за веревку-дрог. Палуба вдруг ушла из-под ног, и он полетел на доски. Над судном выросла, а затем обрушилась огромная черная волна. Рот наполнился горьким морским рассолом.
– Что это?!
– По-мо-ги! – простонал судовой вож, из последних сил напирая на рулевой брус.
Подкормщиков вблизи не было. Митроха навалился на кормило. Острое ребро бруса тут же врезалось ему в грудь, сдавило дыхание, глаза выпучились от боли и страха. «Так вот оно какое – море!»
– Поперек волны нать держать, не то враз опружит, – прокричал кормщик.
Митроха, сжав зубы, держал.
– Потонем?
– На корги не бросит, дак и не потонем. Не бойсь, паря. В море беду-то терпеть не диво.
Сколько же он проспал под палубой? Не слышал даже, когда выходили в море. Но когда б ни вышли, такого – вот этого – не должно было быть! Небо свинцово давило на водяную бездну, которая бесновалась, затягивала насад в свою черную глубь, а потом подбрасывала как щепку, вырастала впереди стеной и разбивалась о палубу в смертоносные клочья. Митроха едва стоял на ногах, дрожавших от напряжения. Когда же все успело так измениться? Будто ад растворил свои врата.
– Охти мне! Море – измена лютая, – словно прочел его мысли кормщик. – Дак и без страха Господня по нему не походишь.
Вдруг стало легче. Рядом с Митрохой на брус легла еще пара рук.
– Ты откуда взялся, ушкуйная голова? – Иван Никитич был гневен, но все же пересердить море и он бы не смог.
– Ветром, дядька, занесло, – без сил пробормотал отрок.
Он отвалился от руля и в изнеможении опустился на залитые водой доски. Обвязал себя в поясе дрогом. Подполз к борту и ухватился за лодейное ребро.
Лютой смертью умирают поморы. Но они сами ее выбирают. А ему-то за что?..
…За ночь, расцвеченную серо-зелеными и лиловыми красками, море устало беситься. За укрывшими лодью островками вовсе было почти тихо. Позади над пустыми клочками земли и в проливе меж ними стояла пепельная мгла. Митроха, едва опомнясь от смертного страха, оборачивался за корму и не верил, что спаслись. Когда насад понесло к островам, кормщик закрепил руль вервием, истово перекрестился, сбегал куда-то и вернулся с белой рубахой в руках. Стал тут же, у кормила, натягивать ее поверх своей, насквозь мокрой. Лицо помора сделалось совершенно спокойным и даже, почудилось Митрохе, торжественным. Тут уж у него и надежд никаких не осталось – судовой вож лишился рассудка, а лодью сейчас разобьет о скалы.
Когда этого почему-то не произошло, кормщик огляделся, с трудом стянул налипшую рубаху и снова припал к рулю…
Митроха отвязался и встал на ноги. Лодья оживала говором, людским движением. Служильцы быстро перекидывали из рук в руки черпаки-плицы, выметывая за борт воду из чрева лодьи. Дядька Иван Никитич тревожно оглядывал окоем за кормой. Митроха поежился от мысли о двух других насадах.
Впереди лодьи темнела полоса – земля.
– На-ко, куды отнесло, – вертя головой и сверяясь со своими приметами, удивился кормщик. – Быват, Шуеречка губа? Правили-то по Кемску, ан вона как. Ну теперя, стало, до Шуеречка села бежать, обратнова ходу нету нонь. Погодить нать.
– Сколько от того села до Кеми? И сколь ждать придется? – удрученно спросил Палицын.
– Дак верст триццать, быват. А кто тебе, господине, скажет, когда-от море затишеет? Анде, может и по три дни, и по пять взводнем пылить. Кто морем живет, тому ждать не по диву, а в свычай.
Митроха подошел к ним ближе, потыкал носком сапога в мокрую белую рубаху, комом лежавшую на досках.
– А это чего?
– К смерти обряжался, – просто ответил кормщик, отвернулся и закричал служильцам-двинянам, знавшим морское дело и помогавшим ему вести лодью: – Мартьян, Силантей! Райну вздыньте, ветром пойдем.
Подкормщики потянули дроги. Поперек лодьи вздулось широкое полотно паруса.
– Рочи дроги! Силантей, вожжи мне!
На плечо засмотревшегося Митрохи легла тяжелая рука. Он вздрогнул. Дядька с силой развернул его к себе.
– Раз уж ты здесь… Я жду.
– Чего, дядька? – насупился отрок.
– Когда повинишься передо мной. Или думаешь, спущу тебе всю ту брехню?
– За что виниться-то? – Митроха упрямо не понимал. Давешний разговор на соловецком берегу остался где-то далеко-далеко, за морским лихом, и не помнился вовсе.
– Не дуркуй, Трошка, – предупредил кормилец. – Ты каких только смертных грехов не положил на меня с полоумья. Я, выходит, злодей каких мало – и тать, и душегуб, и змей подколодный. Отца твоего поклялся сгубить и разве что матерь твою не снасилил. За такое бы тебя в монастырскую темницу, на покаянный хлеб с водой…
Митроха изумленно отворил рот. Палицын долго смотрел ему в глаза, ставшие пустыми, как у дитяти. Наконец вздохнул.
– Пади на колени, михрютка. – Отрок послушно стукнул коленками о доски настила. – Целуй руку. – По губам ему плюхнула дядькина десница. – В Кемь придем, там решу, что с тобой делать.
– Дядька, а почему лодьи тогда вернулись? – угрюмо спросил Митроха. – Кто в том карбасе был?
– Промысловые мужики с дальнего становища. – Палицын стал еще более суров. – Видели, как через Горло прошло три десятка немецких шняк. Свеи либо норвежане к нам пожаловали.
– Мурманы!
Душа у Митрохи всколыхнулась.
* * *Село Шуерецкое жило на реке Шуе, которая с большим шумом падала через пороги в морскую губу. Насад через пороги пройти не мог, его оставили на якорях у Песьей луды. На двух плоскодонках, спущенных с лодьи, переправились к берегу. До селения оттуда было четыре версты, а в половине пути стоял монаший скит, соловецкая отрасль. Монастырь владел на Шуе луговыми пожнями, лесными угодьями и долей в рыбных заборах.
Этот берег моря звался Корельским. Между селами, погостами и промысловыми становищами здесь была только одна дорога – морская. Матерая земля заперлась непроходимым лесом, тайболой по-здешнему, болотами, побережными скалами.
Покуда море непогодило, сотенный голова Палицын свел знакомство с шуерецким старостой. Вместе с ним обошел на реке корабельные станы, где шили карбаса для государевой рати. Корабельщики не подвели – Иван Никитич насчитал дюжину готовых речных суденок. Каждое могло вместить до двух десятков человек с припасом и всем снарядом. Дожидались только пешей рати, отправленной из Колмогор через Онежский берег и до Шуи-реки пока не добравшейся.
На другой день Митроха сидел на высоком камне-голыше у реки и рьяно отмахивался веткой от липкого северного гнуса. Он следил, как три скитских монаха плавают на карбасе вдоль забора из бревен и прутьев, перегородившего реку на версту выше села. Чернецы с помощью воротов на заборе вытягивали из воды верши, укрепленные кольцами на кольях, вбитых в дно. Каждая верша, плетеная из коры и бечевы, была размахом в сажень, и чтобы вытащить улов, монахам приходилось браться за нее втроем. Двое держали, а третий орудовал в верше деревянным горбылем. На дно лодки хлестко вываливалась некрупная семга-межонка, какая бывает только летом.
Рыбы в реке было так много, что Митроха видел шевеление ее массы под водой перед забором. В конце концов и карбас тяжело осел под грузом улова. Чернецы подплыли к берегу, и один выпрыгнул из лодки. Карбас поплыл вниз по течению, а высаженный монашек должен был топать пешком.
– Управимся на пороге, Феодорит! – махнули ему из карбаса.
К забору от села подплывали на веслах еще несколько карбасов с гомонящими женками. Все шуерецкие мужики разъехались на лето по становищам для морского промысла, оставив баб хозяевать на реке.
Чернец не торопился в путь. Он снял с головы скуфью, наклонился к воде и стал плескать в лицо. Погода стояла паркая, хоть солнце и пряталось за облачной пеленой. Митроха решил подойти.
– Ну и сколько тебе лет? – с вызовом спросил он.
– Шестнадцатый. – Монашек оглянулся, встал. – А что?
Митроха пожал плечами, выразив все свое пренебрежение. Он пристально смотрел на юного инока. Ему вспомнился серебряный складень от ростовской женки.
– Так это ты, что ли, Федька?
– До пострига был Федор, – удивился монашек. – А откуда тебе… – Он нацепил скуфью и вдруг изменился в лице. – Ты видел матушку?! Ты из Ростова?! Да? Скажи, тебе матушка про меня говорила? Говорила? Что она сказала? Простила ли меня?.. А отец?..
Сгоряча инок чуть не схватил Митроху за рубаху. Росту они и впрямь оказались почти одного, но чернец был хлипче телом.
– Да чего пристал. Не знаю я твою матку. На Соловецком острову монахи про тебя поминали.
– А. – Феодорит сник.
– Слышь! А ты зачем монах? – снизошел Митроха.
Инок не ответил.
– Ну и дурень. Эй, погоди! – Мальчишка нагнал чернеца, побредшего прочь. – У вас в скиту знают, куда подевались монахи из погоста на Варзуге-реке?
– А тебе на что?
– Те монахи могли знать об одном человеке. Он погиб от мурман. Это давно было.
– От мурман? Это было совсем давно, – подтвердил Феодорит.
– Теперь они снова пришли. Слыхал? Если мы их не отобьем, они могут и сюда приплыть. Пожгут вас и вырежут.
Монашек со странной отрешенностью взглянул на него.
– Может быть, старец Андроник что-нибудь слышал про твоего человека. Тебе надо поговорить с ним. Он пришел на Поморье даже раньше, чем преподобный Савватий, начальник всей Соловецкой обители. И встречал некоторых николо-корельских монахов, тех, что уцелели тогда.
– Да ну, – не поверил Митроха, – так долго не живут.
Он был к тому же разочарован, что не удалось напугать монашка.
– Старцу Андронику сто девять лет. Пойдем…
Три версты до скитского жилья промелькнули почти незаметно, если не считать избитых по камням ног и до крови искусанных комарами лиц. Перед избой-кельей Феодорит попросил Митроху подождать и скоро позвал.
Старец Андроник был не просто ветхим. На отрока он произвел впечатление ветхозаветного. Длинная, ниже веревочного пояса борода была совершенно бела, как сугроб после вьюги. Руки будто выделаны из тончайшего желтого пергамена. На лице не было места, свободного от глубоких складок. Брови мохнатели заиндевевшими кустами. Старик не вставал с низкого деревянного седалища. Казалось – если поднимется, то сейчас же рассыплется.
Но светлые очи из-под нависших век смотрели цепко.
– Я слышал о том человеке, – продребезжал старец. – Однако смутно. Он жил не в Корельском погосте, а в лопском сийте. Лопари живут родами. Один род – один сийт, погост по-нашему. Когда пришли норвецкие люди, он вышел к ним на берег и сражался. Он был воин. С ним был слуга, тоже погиб… Кто он тебе, отрок?
Митроха вытер пот, выступивший капельками от волнения.
– То мой пращур. А что он делал в этом… в лопском погосте?..
– Если этого не знают в твоем роду, то я и более того не ведаю. Наверное, об этом знали лопари. Но их сийты не стоят на месте. Их потомков тебе не найти. Да и для чего тебе их искать? Что ты хочешь найти? Твой пращур положил жизнь за други своя, его дух водворился во благих обителях. Иноки позаботились о христианском погребении тела… Ты молишься о нем?
– Я? – Митроха замялся. С этим стариком, похожим на святого пустынника с иконы, поневоле не хотелось темнить. Напротив, росло желание довериться старцу. Мальчишка оглянулся на Феодорита. Тот стоял столбом у порога и, кажется, даже не прислушивался к разговору – был где-то внутри себя. Митроха расстегнул ворот рубахи и неспешно снял с шеи гривну. Протянул старцу. – Они застали его еще живым. Он отдал им это и просил переслать с надежным человеком его жене, моей прабабке… Цепь тоже из золота.
– Ты прячешь ее на себе, – не спросил, а утвердил старец, рассматривая гривну. – Это лопские знаки. А тут буквицы… Где-то я уже видел такую… или похожую… Как звали твоего предка?
– Григорий Хабар. Он был боярский сын.
Гривна выпала из рук монаха. Митроха быстро подхватил ее с пола. Старец Андроник вперил очи в пространство перед собой.
– Я помню… Так значит, Григорий забрал эту вещь у него. Тот человек был выученик лопских колдунов… и тоже называл себя князем… Московский боярин Иван Палица с сотней служилых людей разорил это разбойное гнездо в вологодском лесу…
– У кого – у него? – Митроха был ошеломлен. – Ты, отче, знал моего прадеда?! И пращура Палицыных?
Старец, будто не слыша его, обратился к Феодориту:
– Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Сей лопский народец трудно будет вырвать из лап диавола. Они опутаны своим колдовством будто сетью.
– О чем ты ему говорил? Отче, расскажи мне! Какое разбойное гнездо?! – взмолился Митрофан, бросившись к ногам старца.
Он знал, что когда-то боярский сын Григорий Хабар был сослан великим князем в Вологду на покаяние. Об этом любила сказывать мать. За неведомые дела Хабар полгода бил поклоны и утруждал постом плоть в Спасо-Прилуцком монастыре. А до того в вологодских лесах с ним приключилось некое таинственное диво, и там же, в дремучем бору, нашлась ему невеста, Митрофанова прабабка́. Был Митроха маленьким – слушал эти материны повести как страшную сказку со счастливым концом: сели они пирком да за свадебку, стали жить и добра наживать. Но продолжение у сказки, которое мать не сразу ему поведала, а лишь когда подрос, оказалось странным: пятнадцать лет спустя Хабар уплыл в полночные земли неведомо для чего и не вернулся. Теперь ее продолжение стало еще и жгучим.