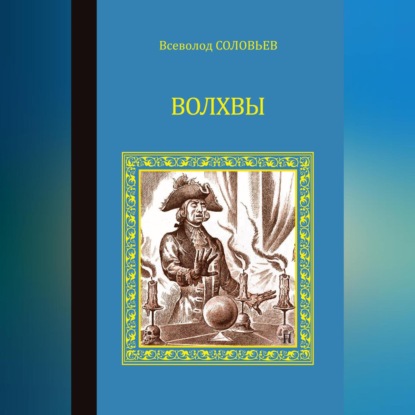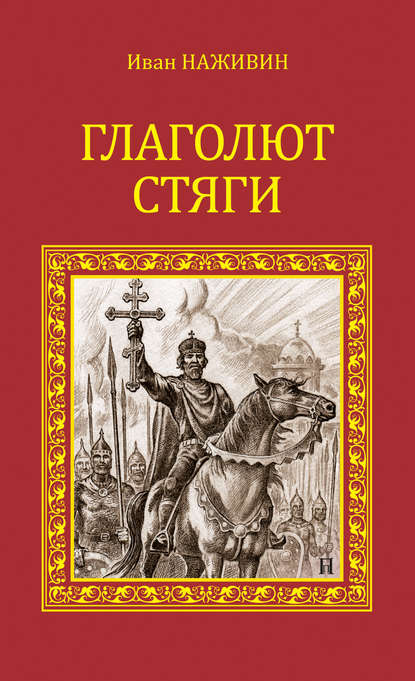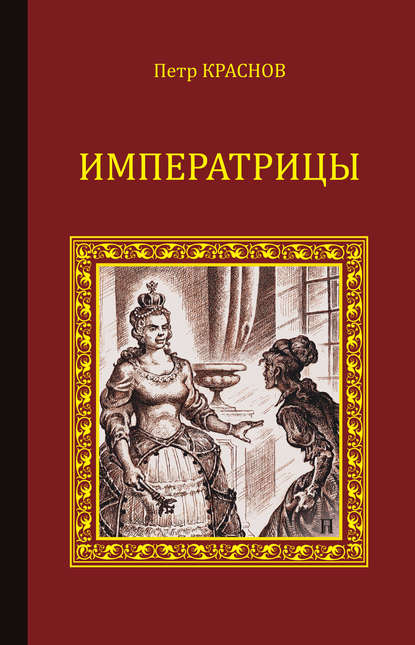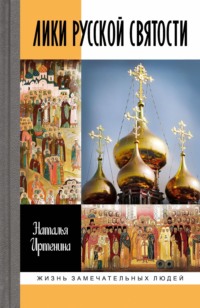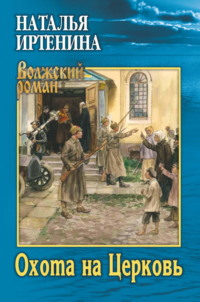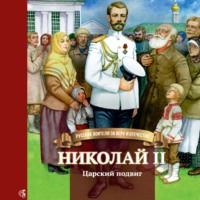Полная версия
Русь на Мурмане

Наталья Иртенина
Русь на Мурмане
© Иртенина Н., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru
Об авторе
Книга «Нестор-летописец» московской писательницы Натальи Иртениной открывает линию исторических произведений, посвященную сложному периоду становления русской государственности в X–XI вв. По словам доктора исторических наук С.В. Алексеева, научного консультанта обоих романов, «автору удалось поистине вжиться в мир Древней Руси – и развернуть панораму этого мира перед читателями… Книга наследует лучшие стороны русского романтизма, обращая читателя к корням его культуры». При этом Иртенина «создает нечто большее, чем просто исторический роман. Ее цель – создание Легенды, в которой сплетены исторические события, темы русского героического эпоса, христианская мистика, противопоставляемая темному языческому наследию…»
Несколько лет назад Наталья Иртенина получила известность именно как автор «литературы чуда», в которой органично сплетаются земная реальность и иная, высшая. Этот литературный формат, развиваемый некоторыми современными писателями, получил удачное название «христианского реализма», сразу подхваченное критиками.
Не любя однообразия, Иртенина пробовала себя в разных жанрах – альтернативной истории (роман «Белый крест»), романа-притчи («Меч Константина»), историко-философского детектива (повесть «Волчий гон»), в биографическом жанре (эссе о Ф.И. Тютчеве в сборнике «Персональная история», книга «Патриарх Тихон»). Участвовала в коллективной научной монографии «Традиция и Русская цивилизация», развивающей концепции философии истории, в частности философии русского традиционализма.
В рамках художественных построений Иртенину интересует то позитивная модель христианского государства, то смысловые стержни русской истории. А, например, в романе «Царь-гора» автора волнует не только прошлое России, убитой после 1917 года, но и ее будущее, ее шанс на воскресение, поэтому линия Гражданской войны тесно переплетена в книге с линией современности. Поиск ответов на сложные вопросы человеческой истории и личных судеб, философская заостренность в яркой художественной форме, доля тонкого юмора – визитная карточка произведений Натальи Иртениной. А в последних своих романах она демонстрирует умение уютно «обжиться» в мире Древней Руси, среди князей Рюриковичей, бояр, монахов, дружинников, торгового люда – ни на йоту, как дотошный исследователь, не отступая от исторической достоверности летописного «эпического века».
Член Союза писателей России, Иртенина время от времени выступает также как публицист и автор статей на культурно-исторические темы в московской журнальной периодике и книжных изданиях. В полемике по литературным вопросам, на семинарах историко-литературного «Карамзинского клуба» она проявляет крайнюю жесткость и принципиальность, за что критик Лев Пирогов однажды в шутку отозвался о ней как о «…княжне Мышкиной на балу лицемеров».
На поприще художественно-исторических реконструкций Наталья Иртенина стала обладателем литературных премий «Меч Бастиона», «Карамзинский крест», премии Лиги консервативной журналистики имени А.С. Хомякова, награждена знаком «За усердие» историко-культурного общества «Московские древности». Роман «Нестор-летописец» в 2011 году номинировался на Патриаршую премию по литературе имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Избранная библиография Натальи Иртениной
«Белый крест» (2006)
«Меч Константина» (2006)
«Царь-гора» (2008)
«Нестор-летописец» (2010)
«Шапка Мономаха» (2012)
«Патриарх Тихон» (2012)
Часть первая. На каянский рубеж
Автор сердечно благодарит за неоценимую помощь в работе над книгой историка Московской Руси профессора Дмитрия Михайловича Володихина
От Сотворения мира 7004 год, от Рождества Христова 1496-й
1
– Скачи, Бархат! Скачи! Спасай, родной!
Вой метели мешался с волчьим подвывом из-за черной стены леса. Но гибкие быстрые тени, клубившиеся по сторонам дороги, неслись вровень с конем в жутком безмолвии.
Животный ужас Бархата передавался Митрохе. Сабельный клинок в руке – вот все, что было у него против стаи волков, январского мороза, ночной тьмы и злой пурги. Слишком много против одного. Или даже двоих. Но Бархат мчал все тяжелее. Зверье, окружившее их, как дворская свита на выезде боярина, чуяло усталость коня и теснилось все ближе.
– Хей-я!
Митроха отмахнул саблей. Сбрил ухо первой наглой твари, нацелившейся в грудь коня. Волчина отлетел кувырком, на его месте тут же оказались двое. Бархат словно споткнулся, его пронзительное ржанье встало в ушах у отрока колокольным трезвоном. Он перелетел через голову жеребца, теряя шапку и остатки бесстрашия, с каким несколько часов назад убеждал себя в пустяковости езды по ночному мерзлому лесу.
Волки завалили Бархата на колени, рвали ему бедра и предплечья, одна тварь впрыгнула коню на круп. Отфыркиваясь от снега и ревя бычком-одногодком, Митроха нащупал рукоять сабли. Шуйцей рванул на груди кафтан.
Он шел на беснующуюся стаю, оттягивал клинком по хребтинам, мордам, лапам. Большой кругляш в пальцах левой руки светился в лунной тьме тусклым огнем. Волки отскакивали от Митрохи, тянули вверх морды – к золотой гривне. В их зрачки словно переливался ее жидкий пламень и зажигал волчьи глаза ответным рыжим огнем.
– Я ваш князь, – сдерживая гнев, прокричал отрок, – а вы – дети мои!
Волки разжимали пасти и, как пиявки, отваливались от коня. Несколько десятков хищных желтых огоньков медленно приближались к Митрохе…
Спящий лягнул босой ногой, по которой вороньим пером водил трехлетний бутуз. Под хихиканье малышни Митроха завозился, нарочно размашисто повернулся, и с тесной постели посыпались, кроме бутуза, еще двое, постарше.
– Ну чего, мелкота? – Недовольно хмурясь, отрок сел на ложе.
Федюнька, Никишка и младший Афонька полезли обратно, расселись на стеганом одеяле, поджав ноги в теплых вязаных чулочках.
– Так долго спят одни великанские волоты, – заявил старший. – Полдня давеча, и ночь, и все нонешнее утро.
– А тятька тебя накажет за конька, – шмыгнул носом средний.
– Сдох? – напрягся Митроха.
Накануне он прискакал полумертвый от усталости, свалился с седла и не помнил, как его унесли в дом.
Никишка свел бровки и болтнул в воздухе ладошкой, что должно было означать: ежели Бархат еще не околел, то вот-вот. Афонька с любопытством копал в носу, сведя глаза к переносице.
Но печальная судьба коня заслонилась в уме Митрохи иной мыслью.
– Где мой торок?!
Он соскочил с ложа, босиком заметался по клети. Увидел приготовленную на лавке одежу, торопливо натянул чулки и рубаху. Малышня дружно показывала пальчиками на кожаный мешок в темном углу. Видимо, торок уже побывал в какой-то игре, но быстро наскучил. Митроха брякнулся на коленки перед мешком, развязал и полез внутрь. Нащупав нечто, успокоился. Встал перед мелкотой и сурово, будто старший брат, молвил:
– Недосуг мне тут с вами. Бегите к мамкам.
Прежде Митроха не раз в мечтаньях отдавал все то немногое, чем владел, только б и впрямь оказаться старшим братом этих несмышленышей, отпрысков некогда боярского рода, сынков служилого человека государева двора Ивана Никитича Палицына. Увы, он был лишь их дальней и захудалой родней. В доме дядьки Ивана его положение было немногим выше места дворского слуги – вольного, конного и оружного, но все же слуги.
Этот сон про волчью стаю отодвинул старые грезы куда-то далеко. Страшный сон, и при том чем-то сладостный…
Афонька встал на постели и ухватился за него.
– Играй в коняшку!
Бутуз принялся цокать языком, понукая воображаемого скакуна. Повис на Митрохе, оттягивая рубаху. Отрок схватил его за руку и резко сбросил на пол.
– Пускай отец на настоящего коня тебя сажает, а не мне на шею. Пора уже.
Самому Митрохе годов было не столь уж много, скоро переваливало за двенадцать. Но телом и силой возрос с пятнадцатилетнего, разве что голос еще не переломился на мужской.
Афонька ушибся носом и немедленно взревел. К нему на помощь кинулся пятилеток Никишка.
– Злой! Злой Трошка!
Федюнька насупился. Спрыгнул с ложа и поволок обоих братцев к клетской двери. Напоследок со всей шестилетней взрослостью посмотрел на обидчика.
– Тебя тоже волки поели, как Бархата. Ты нонеча волколак… А тятька на долгую рать идет. Сотенным головой! Теперь Афоню не скоро на коня посадят.
Воспитанник Палицына, растерявшись было от обличений сопливых глуздырей, укусил себя за губу. «Поход на каянский рубеж! Сотенным головой!» Сапоги, стоявшие у двери, сами прыгнули ему в руки и сами налезли на ноги. На плечи лег зипун из крашенины. Калач на столе, давно остывший, сам выскочил из рушника и запихнулся в рот. Жуя на ходу, Митроха полетел во двор. Первым делом – проведать Бархата.
…С конюшни он вышел пожухлый и скисший. Дядька Иван доверил ему красавца-коня, теперь же Бархата сошлют в деревню, на землю. Загнанный двухдневной скачкой, с прокушенными ногами, жеребец охромел и был обречен доживать свой век в униженьи. Митрохе было горько чувствовать собственную вину. Бархат спас его от волков, вынес из опасности, а он ничего не мог сделать. Ему просто дадут другого коня, и все забудется.
Все ли?..
Отрок огляделся. Залитый зимним слепящим солнцем двор был полон суеты. Дворские слуги грузили возы, холопы дочищали упряжь и оружие, сновали охающие бабы и зареванные, огрустневшие девки. С кузницы летел звон металла. Задиристо брехал пес Угоняйка, мешаясь у всех под ногами. Митроха остановил дворского:
– Где дядька Иван Никитич?
Палицын был в доме, давал наказы старшему над слугами Касьяну. Отрок увидел их на лестнице – поднимались во второй ярус.
– Дядька Иван!
Хозяин дома взглянул и тотчас отвернулся: не до тебя нынче.
– Возы проверил, крепки ли? Смотри, коли в пути хоть один развалится, голову сыму… Крупы нагрузил, сколько я велел?.. Корму коням?.. Вот что еще. Пошли сейчас человека к Кондыревым, пусть скажет Кириле Лексеичу, чтоб заутра пораньше выехал да ждал бы меня у Фроловских ворот для разговору. Вместе на молебен к Успенью отправимся…
– Дядька Иван! – Когда дело было горячо, Митроха становился липуч.
– Ладно, ступай. – Палицын отпустил дворского управителя. – Через час приготовь выезд на троих. Миньку и Гераську кликни. Проведаю князя Петра Федоровича. – Митрохе кивнул: – Идем в горницу.
Не успел Иван Никитич осесть на лавку и упереть руки в колена, как отрок пустился в опереженье, дабы кормилец не вспомнил про Бархата.
– Возьми меня на рать, боярин! Сабля моя тебе послужит против каянских немцев!
– С чего это ты в бояре меня записал? – отбил наскок дядька, не двинув и бровью. Только полукафтанье расстегнул слегка от печного тепла. – Государь великий князь меня таким жалованьем не жаловал. И скажи мне, Митрофан, знаешь ли ты хоть, где обитают оные каянские немцы?.. Да и сабля твоя маловата, подрасти б ей лет несколько. Уж не спрашиваю про то, где ты коня возьмешь для похода.
Как будто и легкие удары, но отрок сжался под ними, свесил голову.
– Знамо дело, где свейские немцы, там недалече и каянские…
– Ты зачем коня загубил, дурья башка? – оборвал его бормотанье Палицын. – Для чего из родительского дому раньше срока сбежал? Сказано тебе было: на Аксинью-полузимницу за тобой приедут.
Митроха осмелел и глядел на кормильца исподлобья.
– На Крещенье через Торжок до Новгорода проходили ратники воеводы князя Ивана Репни. От них прозналось, что великий князь посылает две рати, на свеев и на каян. Что на тех каян войско велено вести князьям Ушатым и тебе, дядька, с ними. Как же мне было терпеть до полузимницы, коли ты без меня бы ушел?
– Вестимо, без тебя бы и рать не сладилась, – усмехнулся дядька.
– Возьми!.. – взмолился отрок.
– Сказано: мал еще, подрасти. Даром что вымахал, а умом не поспел. Обузой будешь… Мать хоть упредил, когда сбегал?
Митроха молчал, мрачно уставясь в пол.
– Ясно. Опять же дурья голова. Отца-то проведал за все время?
– Если ты, дядька, спрашиваешь о черном попе Досифее, то не отец он мне.
Иван Никитич резко поднялся, шагнул к отроку. Тот, набравшись дерзости, прямо и бесстрашно смотрел на кормильца, как будто готового ударить.
– От своего рода отрекаешься?! – Хозяин дома сдержал руку, но гневом плеснул щедро. – Пащенком безродным захотел быть?
– А если я княжьего роду?! – отчаянно и гордо промолвил Митроха.
Палицын на миг остолбенел.
– От матери слышал или от кого иного?
– Ни от кого. Сам чую – непростая во мне кровь.
Отрок потянул руку к груди, будто хотел вынуть крест для клятвы, но лишь приложил ладонь к зипуну.
Кормилец отвернулся. Ушел к двери и прикрыл плотнее.
– Ты сейчас, в глаза мне, сказал, что твоя мать, Устинья Хабарова, потаскуха и прижила тебя неведомо от кого?
Митрофан взглянул растерянно – такого он не говорил. Иван Никитич крепко взял отрока за плечи и толкнул к божнице в углу с крохотным огоньком лампады красного стекла под образами. Придавил к полу, вынудив встать на колени. Сунул ему серебряный крест с кивота.
– Пред Христом и Матерью Божьей клянись, что ты сын своего отца, дворянина Данилы Хабарова, ныне священноинока Досифея! И прощенья проси у Пречистой за срамословие, за поношение матери!
Воспитанник вырвался из рук Палицына, вскочил.
– Не буду я поповским сыном! – выкрикнул зло. – Он сам свой род предал! Пращур Хабар боярским сыном был, в родстве с думными боярами при московском князе! Дед Михайла в дворянах числился да с боярами тесно знался. Когда те мятеж на Москве задумали, великий князь Василий велел ему на лобном месте голову срубить вместе с прочими… А мне… мне в попы?! Зачем он в монахи пошел, зачем? С убогого поместья служил, так и то в казну забрали. Дом в нищете оставил, меня… Сестру едва замуж выдали за посадского тяглеца…
Митроха подавился горечью, умолк, красный как лампада у икон.
– Бог судья твоему родителю. Он теперь живет иной жизнью, по иным законам. Но ты не смеешь врать, будто он не позаботился о тебе. Он привел тебя в мой дом и просил вскормить и взрастить тебя как воина, дворянина… Ну что ж, ты свое слово сказал.
Иван Никитич прошелся по горнице с удрученной думой на лице. Остановился.
– Вон из моего дома!
Негромко произнесенные слова хлестнули отрока точно конской плеткой. Он смотрел на кормильца, удивленно открыв рот. Не верил услышанному.
– Я пять лет воспитывал тебя как родню, но коль сам называешь себя ублюдком… Вот тебе Бог и вот порог. Ступай вон. На Москве нынче, при государе, много княжья стало, как осы на мед летят. Авось найдешь того, кто пожелает с тобой родством и именем поделиться.
Дядька был желчен и язвил отрочью душу глубоко, не щадя. Митроха никогда не видал его таким. Он испугался.
Ноги ослабели и сами уронили его на колени, развернув к образам. Отрок истово перекрестился.
– Господи, соблюди душу мою и жизнь мою от поруганья! Не ищу срама на свою голову и матерь свою не хочу бесславить. Отца моего, попа Досифея, спаси и помилуй, и на меня, грешного, призри милосердно! Внуши дядьке Ивану, чтоб взял меня на рать, чтобы мне выслужить назад отцово поместье!..
Палицын долго не рушил молчание, и Митроха не решался встать с колен, взглянуть на дядьку.
– Собирайся. Завтра до свету выступаем.
Отрок выдохнул и поднялся.
– Поедешь в обозе. Коня лишнего у меня нет для тебя. От Устюга по весне поплывем на лодьях до Студеного моря. Далее через корельские глухие леса да болота пробираться станем… Как знать, – добавил Иван Никитич с сомнением, – может, доведется узнать о твоем прадеде Григорье Хабаре. Для чего он голову сложил на том море, где преисподняя близко. А о поместье вашем… коли даст Господь живым вернуться, потолкую с князем Петром.
– Дядька… – Глаза Митрохи заблестели благодарным восторгом. – Вот ежели б ты был моим отцом… Как бы я слушал тебя! … Из воли твоей ни на волос никогда б не вышел!..
– Довольно об этом! – отрезал кормилец. Однако было заметно, что он уже нисколько не сердит. – Поглядим, впрочем, как будешь слушаться.
Прежде чем броситься укладывать в обоз все потребное для дальнего похода, Митрофан распугал в детской светелке мамок и нянек, усадил себе на загривок зевающего Афоньку и промчал его по всему дому, радостно игогокая. Афонька осоловело ликовал.
2
Устюг, что стоит у слияния трех северных рек, не похож ни на один другой город привольной Руси. Здешние люди будто не на земле живут, а на воздусях. Ни к чему не прикипают, ни к дому, ни к делу, а живут тем, что взбредет в голову. В торговый ли путь снарядятся, в югру или на пермь подадутся за меховым прибытком, пограбить ли кого поплывут. А то просто лежат на печи, жуют калачи. От князя или от Бога дела для себя ждут, думами приваживают. От беса тоже могут дельце прихватить.
Митроха с первых дней разглядел устюжан – народ хитрый, разбойный, алчущий. Верно, в одной бочке когда-то солили новгородских ушкуйников и устюжских охочих людей. Но ушкуйников следы истребились от московской крепкой досады на них, а устюжане – вот они, служат государю князю, дают ему, когда нужно, рать, не спрашивая даже, куда идти – на югру ли, на вятчан, на Каянь… А где та Каянь? Говорят – у Каяно-моря, что лежит между свейскими варягами и корелами. Там, где на семи рыбных реках живет корельский народец, некогда отдавшийся под руку Новгорода и плативший ему дань. А после перекинувшийся к свеям.
Поп Кузьма, шедший с московской ратью для духовного окормления, осерчал на устюжские нравы и обозвал город вторым Содомом. Митроха плохо представлял, чем так досаден был первый Содом, но прозвище понравилось. Да и сам город пришелся ему по душе – своей бесприютностью под седым небом, бездумностью и легкостью, и оттого – вольною волей. Своими кривыми улицами, способными перекривить московские переулки. Даже тем, как грозно набухал синевой апрельский лед на реке Сухоне, обещая однажды пушечным громом и великим треском открыть двинские ворота в полуночный север, на край земли…
Окно большого амбара на когда-то княжьем дворе распахнулось. В серые сумерки высунулась молодецкая голова и заблажила петелом:
– Ку-ка-ре-ку!
Внутри, за окном, ржали молодые мужские глотки. Служильцы играли в кости, ведя подсчеты за несколько бросков на брата. Проигравший становился дураком и должен был дурить загодя придуманным способом: зацеловать в губы старую полуслепую стряпуху, перепачкать рожу углем и пробраться в баню, где нынче парились дворовые девки, перепугать их чертом; залезть на кровлю амбара и обругать во весь голос попа Кузьму.
В амбаре духмяно от скученного житья ратников, развешаны порты, рубахи и ножные обмотки, валяются кафтаны и кожухи, чадят светильники, кисло пахнет бражкой. Подворье еще на исходе зимы занял отряд боярских детей под началом князя Ивана Ляпуна Ушатого. Сотня Ивана Палицына расселилась по окрестным дворам и точно так же сохла от безделья. У «ушатых» всегда было веселее.
Митроха стиснул в кулаке предательские кости, снова выдавшие ему две дырки от бублика. Проиграл. Его черед дурковать. Задачу на сей раз измыслили хитрую: надо было преобразиться в устюжского блаженного Иванушку, помершего два года назад, и проскакать на своих двоих округ подворья с несусветными юродивыми воплями. Поелику тот Иван-дурак не иначе всегда передвигался, как скоком. Устюжские служильцы, придумавшие забаву, уверяли к тому же, будто блаженный спал в печи на тлеющих угольях и исцелил дочку устюжского наместника от беснования.
– Чего сидишь, Мотря, скидывай одежу.
– Зачем? – хмурился отрок.
– Тот наш юрод только срам обмоткой прикрывал, а зимой в одном драном зипуне ходил.
Митроха швырнул на стол кости, встал и перешагнул через лавку.
– Не буду!
– Что ты как девка целковая ломаешься? – поддели устюжские.
– А точно девка, – догадал боярский сын из палицынской сотни Иларька, всего четырьмя годами старший Митрохи, злющий и завистливый, мечтавший оттереть его с места походного постельничего при сотенном голове. – Ни разу не видал его телешом иль в исподнем. Он и в бане со всеми не был. А ну, господа мои други, пощупаем-ка его!
Митроха не успел опомниться, как на него насели впятером, стали тянуть через голову зипун. Оставшись в рубахе и вертясь ужом, он очутился на полу, меж пятью парами ног. Дотянулся до сапога, где был нож.
– Прочь, зверье! – рычал отрок, вслепую нанося удары.
Ему засветили по уху, раскровянили нос, но отобрать засапожник не смогли. Орал Иларька, зажимая рану на предплечье. Один из устюжских удивленно рассматривал свои располосованные порты. Митроха, как мельничным крылом, размахивал рукой с ножом. На драку сбежалось еще десятка полтора ратных.
– Не девка, – просопел второй устюжский детина, тоже задетый.
– А кто ж Иванушкой пойдет блажить? – озабоченно спросил не участвовавший в бою Онька, дружок и подпевала Иларьки.
– Убью-у-у, Мотря! – тонко выл тот, обнимая длань с кровенеющим рукавом. – Удавлю гаденыша!
Утерши нос, Митроха поднялся с пола. Сорвал с пояса плоскую черную калиту, швырнул Оньке.
– Ты пойдешь. Там плата. – Ощерившись, обводил всех злым волчьим взглядом. – Если кто еще назовет меня Мотрей или сопляком… – Он удостоил взором подранка, убрал нож в сапог и отчеканил: – Я – князь! Звать меня – Митрий.
Тем временем Онька изучал содержимое калиты, вывалив на ладонь. Это был серебряный складень тонкой работы с двумя ликами – Христа и Богоматери. Онька развернул кожаную витую тесемку складня и повесил себе на шею.
– Я согласен, – изумленно сказал он.
Митроха подобрал брошенный зипун, нашел свою шапку, с гвоздя в стене снял епанчу, обвалив другие. Не глядя ни на кого, пошагал вон из жилища. Перед ним молча расступались, а вслед ему вертели пальцем у лба.
Распутная весенняя грязь чавкала под ногами, как чревоугодник за обильным столом. По обочинам еще серели просевшие валы снега, давая ввечеру достаточно света, чтобы видеть вокруг. Привычным путем, меж чернеющих покосившихся тынов, Митроха шел к крутояру, под которым вольною северной дорогой стелилась Сухона. Пока еще скованная, но готовая вот-вот сломать свои узы. Пустое сиденье в Устюге, тоже схожее с узилищным заточеньем, отрок сносил со все большим нетерпеньем.
Оно, конечно, у начальных людей войска дел невпроворот. Шутка ли – снарядить судовую рать в два десятка лодий. В Устюге насадов, плававших до моря, до Вологды и на Сольвычегодск, было и больше, не говоря о малых суденках. Но все были торговые, а купцы не горели охотой отдавать их в государеву службу – выговаривали у князя Петра Федоровича корысть, бились за каждого судового вожа, знающего реку. Устюжского войска набиралось шесть сотен человек, да пермичи прислали две с половиной сотни. Устроили им после Пасхи смотр с утверждением сотенных голов из бывалых московских боярских детей. В иные дни даже Митроха редко забегал в дом похлебать горячего – дядька Иван Никитич гонял с поручениями.
Но все то время до сладостного замирания в груди толклось на сердце манящее слово – Колмогоры. Какие там горы, у самого Студеного моря – как на иконах пишут или лучше, веселее? И как выглядит оно – море? И отчего прозывается Дышущим? Впрямь ли дышит?..
Он вдруг подумал о серебряном складне, отданном в откуп Оньке. Ему дала этот складень посадская женка в Ростове. Пришла к сотенному голове Палицыну с просьбой отыскать на Соловецком острове в Студеном море ее сына, но Ивана Никитича не дождалась. Рать наутро отправлялась в путь, и женка кинулась с мольбой к Митрохе. Верно, приглянулся ей чем-то. Либо сына напомнил. Заклинала, чтоб непременно разыскал в монастыре на острове ее Фединьку и передал ему матернее благословение – складень с образами. Сам Фединька, сказывала, ушел из дому три лета назад тайно, поперек родительской воли. Два года женка проплакала, а на третий решила – раз уж быть сыну чернецом на неведомом острову и раз Господь не вернул его обратно, то пускай его там хранит и согревает материно благословение. Только все не знала, с кем передать. Но тут сам Бог послал московскую рать. Наружность Фединьки женка описала подробно.
– А ростом он с тебя, сынка, и годами почти ровня, постарше чуток. Шестнадцатый ему теперь пошел. Три года кровиночку не видела… – Женка расхлюпалась, но утерла слезы. – Так ты смотри, передай, Митрофан! Христом Богом заклинаю. Не потеряй, не прокути, слышишь? А не передашь – проклятье мое понесешь. Материнское проклятье оно знаешь какое? На болотном дне достанет!