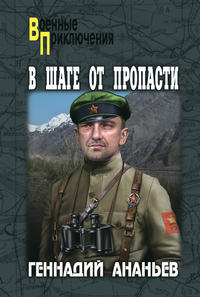Полная версия
Железный ветер
– Повторяю, я вполне осознанно выехал сюда с эскадроном. Я не собираюсь, сложа руки на груди, взирать молчаливо на свершающееся зло. Преднамеренное зло! Я не баран, приготовленный на заклание!
– Похвально, конечно, твоя решимость. Иного я и не предполагал. Только понять ты должен: обвинения сфабрикованы очень серьезные. Не перебивай. Не бычься. Послушай. Мэлов мне предложил письменно отречься от тебя. Иначе, мол… И вот, как на духу: труса спраздновал было. Чем бы все окончилось, не могу сказать, если бы не Лариса. Молодец она. Силу вдохнула. И знаешь, Михаил Семеонович, лаской взяла. Иной теперь стала, – не удержался Оккер, чтобы не поделиться радостью с другом, – совсем иной! Счастлив я теперь вдвойне: тебя не потерял, себя уважать не перестал, ее будто вновь обрел. Сегодня мне практически ничего не грозит, а тебе… – И приостановил речь. Не забывалась настоятельная просьба Москвы не вмешиваться в ход следствия. Ни на миг не забывалась. И о последствиях думал. Какие они могут оказаться? Решился все же на совершенно откровенный разговор: – Все, что я тебе скажу, только для твоего пользования. Нигде, ни при каких обстоятельствах…
– Клянусь честью!
– Верю без клятвы, – прервал Богусловского Оккер. – Сказал в порядке предупреждения. Так вот… Тебя обвиняют в действиях, кои можно квалифицировать как измену. Значит, так: несколько месяцев назад сосед твой задержал перебежчика, который даже со мной не пожелал беседовать. А суть вот в чем: в приграничных городах закордона есть, по словам того перебежчика, большая «партийная организация», подпольная, естественно, и руководит ею Ко Бем Чен…
– Постойте, постойте! Я слышал эту фамилию. До революции еще слышал. Он разработал интересную систему быстрой доставки шпионской информации. Как пример это нам приводили.
– Верно. Имел он в девятьсот пятом подряд на поставку фуража и продовольствия японской дивизии, не помню номера, но главное его занятие – шпионаж. Агентура его под видом торговцев разъезжала в местах дислокации русских войск, собирая нужные японцам сведения. Доставлял их Ко Бем Чен с фантастической быстротой с помощью постов связи, кои имел он через пять-шесть километров, с несколькими скороходами на каждом. Уложится гонец в определенное нормой время – получает десять иен. Доставит на соседний пост донесение раньше – получай за каждую минуту в два раза больше. Но и сам Ко Бем Чен не оставался в накладе, как показало время, от такой щедрости. После войны – он видный промышленник. Дружбы с японцами не порвал, а недавно ездил в Токио. Старик, а не побоялся дальней дороги. Не попусту же? Мы имеем данные, что встречался старик там с полковником Кавамодой – начальником советского сектора генерального штаба ихнего. Не исключено, что имел встречи и с представителями «Черного дракона». Не тебе объяснять значение тех встреч…
– Да, «Черный дракон» – это непосредственно против нас. Шпионаж и диверсия.
– Таков руководитель так называемой «партийной организации». Ищет выходы на нашу территорию. Постоянные, надежные выходы. Просит открыть школу, где бы могли обучаться, как они говорят, «проверенные коммунисты».
– Ого! Наглость высочайшая. Не удосужились даже имени своего резидента сменить.
– Самонадеянность чрезмерная, это уж точно. Состряпали легенду, что бежал, дескать, из японской тюрьмы политический заключенный, профессиональный революционер; предполагают, что клюнем мы, что никто не станет заглядывать в архивы царской контрразведки. Но я все это рассказал не для критики просчета японской разведки, а для того, чтобы ты понял, как чудовищно по своей сути обвинение в твой адрес и как оно вместе с тем весомо. Тебя, короче говоря, обвиняют в расстреле посланцев Ко Бем Чена. Сделал ты это, чтобы осложнить и запутать начавшуюся игру с японской разведкой. И вопрос поставлен так: не причастна ли к этому расстрелу сама японская разведка? Теперь понятно, какие у тебя трудности впереди? Видимо, в самое ближайшее время тебя отстранят от должности…
– Но я же докладывал вам, Владимир Васильевич, о признании раненого. Я буду бороться за правду!
– Только без горячки. Моя просьба, если хочешь – приказ: ни устно, ни письменно следователю об этом не сообщать. Мы продолжаем поиск. Не только у нас – во всем городе нет человека с фамилией Ткач. Скорее всего, это кличка.
– Но, быть может, прежняя фамилия. Мэлов, допустим. Не мог он быть до революции Мэловым?
– Бездонен этот путь. Где и когда менял он свою фамилию? И единожды ли менял?
– Знавал я Ткача. Дружны были наши семьи: Левонтьевы, Богусловские и Ткачи. Самый младший из Ткачей, Владимир Иосифович, штурмовал Зимний. Камеи потом хотел вынести, да попался. Посмотреть бы на Мэлова…
– Идея верная. Я подумаю, как ее осуществить. Ну а раз уж ты сам заговорил о прежней дружбе с Левонтьевыми, открою, что второе, не менее тяжелое, обвинение – твоя женитьба на сестре эмигранта-белогвардейца, ярого антисоветчика.
– Бедная Анна! Что я ей обо всем этом скажу?
– К ней Лариса моя собирается. Вместе с Викой.
«Это прекрасно», – хотел сказать Михаил Богусловский, но сдержал восклицание: к ним подходил командир эскадрона, а ему совершенно ни к чему знать хоть частицу разговора начальника отряда с начальником войск.
Комэска сам не мог решить, что делать с убитыми японцами и маньчжурами. Спросил:
– Может, передадим?
– Заманчиво, – как бы рассуждая сам с собой, заговорил Оккер. – Пусть бы солдаты ихние полюбовались, что ждет их на нашей земле. Очень заманчиво. Они, однако же, перевернуть все с ног на голову могут, обвинят нас бог знает в каких грехах… Лучше похоронить здесь, на острове. – И уже решительно, как приказ: – В одну могилу всех! Да простят нам их матери и жены – не мы вояк этих сюда звали. Не мы!
Глава третья
Еще несколько недель назад Мэлову представлялось, что дела его идут без сучка без задоринки. Все следственные дела, какие он начинал, оканчивались так, как задумывались, и им были довольны. Неудача с Богусловским в Казахстане ему давно уже простилась, хотя последствия той неудачи ощутимы и по сей день. По чьей-то воле (взглянуть бы на того человека, кто спас его, Мэлова, и сделал вечным рабом) выхватили его буквально из костра, на котором он сгорел бы в два счета. Ловко, как казалось Мэлову, подстроил он Богусловскому ловушку. Одно было нехорошо – не мог сам вести следствие, поэтому поручил одному из своих подчиненных, самому, как думалось Мэлову, доверчивому и податливому. Поначалу так и вышло: поверил тот и показаниям казака-перебежчика, который искренне был убежден в том, что, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит, и, когда Мэлов подсунул ему мысль, не по приказу ли Богусловского кормили коней размоченным овсом и сеном, чтобы обезножили они, казак даже обрадовался: «И у меня такая думка свербилась!»
Показания тот казак давал старательно, с душой, по его получалось, что из экспедиции убрали его, потому как боялись, что может помешать злому делу. И по поводу Васина тоже сомнение высказал, будто и тот мог продаться. И выходило, не будь его, казака-перебежчика, не дотянули бы ученые до конца маршрута, умыкнули бы их. Поверил следователь искренности доносчика, начал дело с возмущением: «Ишь ты, в пограничные войска пролезли! Не выйдет! Очистим!» – но, еще когда находился в отряде, стал требовать бывшего урядника Васина, которого Мэлов не смог поколебать, поэтому под предлогом недоверия настоял, чтобы перевели его в другой отряд, в хозяйственное подразделение. Согласиться на вызов Васина Мэлов не мог, но не мог и уговорить следователя отказаться от такой мысли…
Туго затягивался узел. Оставалось одно – убрать следователя, свалив затем всю вину на Богусловского. Но наивный с виду следователь оказался чрезмерно проницательным. Не удалась засада и в дороге, не удалась и возле дома. Усугубило все предписание из Москвы о прекращении следствия. Это был провал. Теперь уже полный. Мэлов уже видел себя в тюремной камере, понимая, сколь суровой будет расплата. Нет, не из-за Богусловского, здесь зло еще не совершено, припомнятся другие дела, которые он вел сам…
А вместо тюрьмы – Москва. Его привезли в приличную гостиницу и поместили в хороший номер, сразу же предупредив, что ждать решения судьбы придется несколько дней, но все образуется при условии, конечно, если он поведет себя благоразумно.
Не поняв, о каком благоразумии сказано, он тем не менее не пытался даже делать какие-либо предположения, философски заключив: «Жизнь подскажет», – и спокойно ожидал более делового разговора.
Вспомнили о нем только через неделю. Приехавший за ним юрист услужливо открыл дверцу эмки, и, пошныряв вначале по узеньким переулкам, покатила легковушка, к удивлению и недоумению Мэлова, за город, а через час, протиснувшись сквозь густой лес по узкому щебеночному отвилку, вырулила на берег озера, где стоял старинной постройки теремок, окруженный глухим тесовым забором.
В том теремке, у ярко пылавшего камина, хотя вечер был теплым, Мэлов узнал, в чем состояло его будущее «благоразумие». Хозяин теремка, назвавшись Трофимом Юрьевичем, предложил поудобней устраиваться в кресле, сразу предупредив:
– Если жарко – потерпите. Камин – моя болезнь.
Подождав, пока Мэлов усядется в просторное и мягкое кресло и станет готовым слушать серьезную речь, заговорил с сухой официальностью:
– Если бы тот человек, кому вы обязаны спасением своим, не знал наверное, что вы получили дореволюционное юридическое образование, он бы не поверил. Все ваши дела уязвимы. Легко уязвимы. Попади они в руки мало-мальски знающего ревизора, и… Остается надеяться, что, пока мы живы, они не увидят света божьего. Впрочем, пыль архивную всегда можно смести мягкой щеткой…
– Я готов выслушать ваши рекомендации, – вполне поняв, что собеседник стращает не ради словца красного, перебил Мэлов. – Мои стремления и мои поступки не безошибочны, но искренность их…
– Не сомневаюсь, – остановил недовольно хозяин. – Не сомневается и проявивший заботу о вас. Оттого вы – здесь. Но вы оговорились: не рекомендации, а условия. Выполнение коих непременно. Первое и главное – полная координация своих действий с интересами общими. У вас во взгляде вопрос? Вы забыли житейскую мудрость: много будешь знать – скоро состаришься. А у старости известный конец.
Не церемонился с гостем хозяин, хлестал наотмашь, вовсе не заботясь о том, больно или нет собеседнику. Но самым обидным оказался финал беседы:
– Знать будете только одного человека. Серьезных поручений никто вам не даст – не рассчитывайте. Этого добиваются делом. А пока самое большое – почтовый ящик. И повторяю, больше никаких глупых следственных дел. Никаких! Запомните! Зарубите себе на носу. Больше я вас не задерживаю…
Снизошел, подав на прощание руку. Но с кресла не поднялся.
Проглотил Мэлов обиду, ибо хотел жить. И уже в гостиничном номере, поразмыслив, пришел к выводу, что новое его положение даже лучше: не одному думать и решать – меньше, стало быть, риска.
Дальше все шло, как и должно было идти при перемещении по должности: беседы в кабинетах кадровиков, у начальства, ознакомление с обстановкой и – путь. Долгий-долгий. Почти через всю Россию, всю Сибирь.
Времени для раздумий хоть отбавляй. И когда Мэлов подъезжал к Хабаровску, то те его московские, гостиничные уверенность и спокойность выветрились, словно миражная призрачность. От всего виденного за многие дни пути у Мэлова осталось такое впечатление, будто вся Россия, а следом за ней и Сибирь, отличавшаяся прежде раздумчивой медлительностью, засуетились, спешат, подхватившись сделать недоделанное веками, перестроить веками мешавшее вот этой вольной суете, теперь не только позволительной, но и всячески поощряемой. Проснулась великая Русь, зарысила орловской размашистой рысью по дороге истории, и какая рука может осадить бег вольный, кто в силе передернуть закушенные удила?! Он, Мэлов, своими комариными укусами? Либо тот, самодовольный, чванливый интеллигентишка, не видящий ничего, кроме каминного костерка?
Нет, не запылать великому очистительному пожару от каминного огня!
Сомнения, однако, остаются сомнениями, откровения – откровениями, а жизнь – жизнью. И коли назвался груздем – полезай в кузовок. С желанием или помимо воли, это уже, как говорится, несущественные мелочи, которые никого не волнуют…
Первое, что Мэлов сделал в Хабаровске, нашел удобный особнячок в тихой окраинной улочке и сообщил, как было договорено, в Москву свой новый адрес.
Каждый вечер ждал, что кто-то придет к нему и, назвав пароль, потребует каких-то действий; но проходили недели, тянулись месяцы, а никто не тревожил его. Мэлов, облюбовав уже нескольких краскомов, мыслящих, ищущих и поэтому уязвимых, готовил на них досье, однако предпринимать что-либо самостоятельно не решался. Порой ему думалось, будто о нем забыли вовсе, и тогда лелеялась надежда на совершенно спокойное житье; но чаще представлялось, что тот «каминный ментор» отмахнулся от него, как от писклявого комара, и это порождало даже обидные мысли. Сгладилось со временем впечатление, оставленное поездкой через страну, смикшировалась острота чувств и противоречий, и Мэлов костерок каминный видел теперь в ином масштабе, значительном, угрожающем. Сколько таких каминов по пригородам в глухих дачах у лесных озер, думал он, которые пока пылают в одиночку, но которые в конце концов сольются, и пойдет пластать, как здесь говорят, верховой пал, от которого нет спасения. Мэлов не хотел сгореть в том огне, ему представлялось лучшим погреть озябшие руки, любуясь лишь заревом и сознавая, что и его, Мэлова, немалая доля в том пожаре…
Противоречивым тем мыслям и надеждам поставил точку утренний визит простодушного толстячка в модной косоворотке. И хотя верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, да и сам ворот был низок и мягок, он, казалось, безжалостно теснил рыхлую шею, создавая неловкость хозяину. Толстячок, однако же, будто вовсе не реагировал на ту неловкость, лицо его было покойно и благодушно, голос мягкий и ровный:
– В самые ближайшие дни прибудут к вам гости. Двое. Казаки. Для вас они – Есаул и Елтыш. Вот этот конвертик – для них. Спрячьте его, спрячьте до ухода на службу. Чтобы никто, кроме вас, не ведал. Когда посетят – дадите знать. Вот на это окошечко – герань. Расстарайтесь обзавестись геранью. Если чайком попотчуете – не откажусь. Только уж без кухарки. Сами не сочтите за труд…
Обещанные «самые ближайшие дни» затянулись на добрые две недели. И каждый вечер – полный тревоги. Издергался Мэлов, даже на работе сослуживцы заметили его неспокойность душевную, то один, то другой участливо осведомлялись, не захворал ли. И как ни пытался Мэлов взять себя в руки, ничего из этого не выходило.
Наконец пожаловали. Оторопь взяла, как вошли. Словно клещами сдавил руку Елтыш, по виду и впрямь похожий на неподступный, в сучковатых наростах комель. Еще внушительней – Есаул. Один взгляд чего стоит. Так и сверлит, так и гвоздит. Когда готовился Мэлов к встрече гостей, репетировал хозяйскую холодность и высокомерие, предполагая вести разговор примерно так, как велся с ним в подмосковной даче у камина. Но вдруг безотчетно вернулась манера робко притрагиваться подушечками пальцев к усам перед тем, как что-то спросить либо что-то посоветовать.
А гости или сразу раскусили состояние хозяина, или знали, что не велика птица, поэтому вели себя беспардонно. Особенно Есаул. Развалился в кресле, словно придавив его своим могуществом, и приказывает:
– Давай, паря, пошустрей, что передать нам велено. Век тут вековать негоже нам. Пошустрей давай…
Посмотрел сомнительно на тощий конверт, который торопливо принес Мэлов, спросил с недоверчивой сердитостью:
– Все, что ли, паря? Не оболясишь?
Встанет сейчас и – хрясть кулаком между глаз для острастки. Съежился Мэлов, ответил торопливо:
– Ничего больше не велено. Как на духу…
– Из-за вот этой филькиной грамотки мандрычили да еланили? – все еще делая вид, что не вполне верит хозяину, сердито вопрошал Есаул сам себя. – Экое пустодельство!
– Важность документа не в его объеме, – попытался возразить, потрогав пальцами усы, Мэлов, но Есаул грубо оборвал его:
– Чево пустое, паря, молоть? По зряшнему делу меня Левонтьев не пошлет…
– Левонтьев?!
– А ты думал, мне, есаулу Кырену, шавка какая велела?
– Прошу, передайте, вернувшись, привет от Ткача.
– Погляди на него – Ткач! – с явной издевкой бросил, как бы призывая в свидетели напарника своего, Есаул. – Чево горболысь такая наткать может? Плодуха без мужика нагуляла, не иначе… Ну не серчай, передам твой поклон. Передам, бог даст, если выйдет годяво все.
– А где вы намерены переходить обратно?
– Эко – шустер! Мы – в пути, ты тут гвалт подымешь!
– Я к тому, чтобы посоветовать, – притрагиваясь к усам, возразил Мэлов. – Я же в курсе, где охрана слабее.
– Советчик, глянь-ко!..
Оплевав смачно и оставив три ружейных патрона, ушли ходоки. Так гадко на душе у Мэлова, швырнуть бы позеленелые гильзы с непонятным зарядом в сортир, а следом и горшок с геранью, но нет, перемогает себя страхом за возможную расплату, несет на подоконник герань, хотя темень на улице и сделать это можно утром; прячет и перепрятывает патроны не единожды и только после этого тушит лампу.
Смежил глаза – и, как наяву, рыжая лопатистая борода, глаза волчьи. Дрожь по телу. Вскочить бы, зажечь лампу, но и этого нельзя делать: поздний свет в окне может вызвать подозрение. Велики у страха глаза. Спит улочка без задних ног, никто не видел ушедших от Мэлова гостей, никому нет дела до того, горит ли у него лампа либо не горит – в каждом доме своя забота, свои житейские проблемы. Но не случайно родилась поговорка: на воре и шапка горит. Совсем не случайно.
Промучившись ночь без сна, пошел на службу. Старался не выходить из своего кабинета, не приглашал подчиненных, сославшись на срочную работу. Прополз с горем пополам день, пора и домой. А желания никакого. Тоска и страх перед наступающей ночью.
Прокоротал ее в тревоге, затем еще одну, да еще и, только когда уверился, что все обошлось, как Есаул сказал, «годяво» – хорошо обошлось, тогда успокоился.
Когда второй раз пожаловали гости, спокойней чувствовал себя Мэлов. К тому же и Есаул, и Елтыш вели себя смирней, уважительней. Подействовало, что Левонтьев послал ответный привет да еще обещание написать личное письмо.
Правда, письмо от Дмитрия Левонтьева получил Мэлов не в следующее посещение казаков, а лишь через год. Передал вначале Есаул несколько «заряженных» шифровками металлических гильз, а затем отдельно одну подал, поясняя:
– Его благородие наказывали, чтобы в собственные руки. Ответ, наказывали, чтобы тут же. Письмом. Словами тоже ладно. Не уйдем, стало быть, паря, мы, не получивши ответа.
– Ждите, раз вам велено. Я прочту прежде.
Не стал при них разряжать патрон, ушел в кабинет, достал неторопливо пинцет, наслаждаясь тем, что те двое хамов-казаков смирно станут сидеть, сколько ему, Мэлову, захочется, аккуратно вынул рулончиком свернутое послание и, начав только читать, присвистнул от изумления. Совершенно неожиданная и на первый взгляд нелепейшая просьба: выяснить, живы ли на заимке возле Усть-Лиманки Ерофей Кузьмин, его дочь Акулина и кого, девочку или мальчика, она родила, жив и здоров ли ребенок.
«Леший бы меня туда понес, в эту Усть-Лиманку. За целый отпуск не обернешься. И чего ради? – И вновь присвистнул невольно, начиная догадываться, с чем связана эта необычная просьба. – Вспомнил на чужбине грехи свои! Ну ничего, помучайся! Воротили нос Левонтьевы, когда породниться хотел. Воротили! Петр Богусловский им милей. Где он теперь?! Теперь о Ткаче вспомнили. Нет уж, выкусить извольте. Буберы в услужении у Левонтьевых не хаживали…»
Более получаса сидел за своим письменным столом Мэлов, то распаляя себя, то успокаивая, но более того тешась тем, что безропотно ждут казаки в горнице и пикнуть не смеют. И только когда самому надоело бесцельное сидение, поднялся со стула.
Независимо вышел, уверенно. Сказал, словно снизойти изволил:
– Передайте Дмитрию, все постараюсь сделать, как он просил. Ради дружбы старинной нашей. Так, слово в слово, и передайте. Запомнили?
– Али алаги в бошках у нас? – недовольно буркнул Елтыш, а Есаул промолчал, лишь смерил Мэлова усмешливым пристальным взглядом. Ничего, дескать, покуражься-покуражься, а там поглядим, как жизнь повернет…
Лелеял то свое малое и минутное превосходство над посланцами Левонтьева Мэлов, дул из него мыльный пузырь до самой новой встречи. Смелость оттого даже обрел, укрепился в мысли, что в Усть-Лиманку ездить не следует.
«Нашел мальчика на побегушках! – осуждал Дмитрия Мэлов. – Не было того, чтобы Ткачи в слугах ходили у Левонтьевых, и не будет!»
Казакам наглым решил, как придут, место свое указать, свой шесток. Припас даже первую фразу, не один раз повторив ее, чтобы подобающе звучала. Этой фразой и встретил гостей:
– Проходите на кухню и ждите… У меня важная встреча. Я вернусь через час. Кухарка подаст чай…
– Глянь-ко, Елтыш, на него, – с презрительной усмешкой бросил Есаул. – Мелкодав мелкодавом, а в азойные метит. Не оболясить ли удумал?
Подошел вплотную все с той же не сердитой, а презрительной усмешкой, положил руки на плечи, мягко, вроде бы собираясь похлопать снисходительно шалуна-шутника, но вдруг напружинились пальцы, сграбастав рубашку и кожу под ней, и приподнял Есаул Мэлова, обезумевшего от боли и особенно от страха, ибо взгляд Есаула стал тоже жестким, прожигающим до пят.
Дальше все шло привычным порядком. Мэлов услужливо притрагивался пальчиками к усам, гости, развалясь в креслах, слушали его с брезгливой снисходительностью. Или повелевали.
Но вот вопрос:
– В Усть-Лиманке побывал ли, паря?
– Побывал, побывал! – скороговоркой выпалил Мэлов. – В порядке разведки…
Угрожающе поднялся Есаул, глаза его вспыхнули гневом, а Мэлов съежился, пугаясь телесной боли, которая была во сто крат ему неприятней душевной, залепетал прытко, что баба прибитая:
– Бес попутал. Истинный крест – бес на грех толкнул. Все сделаю. Все-все…
– Оболясишь еще – жилы вытяну!
Либо беспредельно дорог Есаулу Левонтьев, коль скоро так печется о его просьбе, либо сам придавлен жерновом, в любой момент который может крутнуться, перемолов в пыль и прах. И хотя Мэлов со злорадством предполагал только вторую причину, все равно это не избавляло его от необходимости ехать в бездорожную глухомань.
Но, предвидя трудности пути, не думал он вовсе, что возникнет иное препятствие, преодолеть которое ему удастся лишь с великой силой.
Началось с того, что Мэлова, едва живого от усталости, не впустили в дом. Поначалу дотошно выпытывал Кузьмин, старик бородач, как у подследственного, цель приезда, а когда уже, казалось, все разъяснилось, когда бородачу не о чем было больше спрашивать, он совершенно неожиданно для Мэлова бросил грубо:
– Шлюх не держу! Не грешен!
Дверь захлопнулась, щелкнул засов, прошлепали старческие шаги в сенцах, удаляясь, и стало тихо-тихо. В пору выть от досады. Десять трудных суток, и – пустопорожний итог.
Спустился с крыльца Мэлов и насильно зашагал обратно в Усть-Лиманку, где ему в сельсовете, подозрительно поначалу оглядев, указали путь к заимке Ерофея Кузьмина. Ему не хотелось больше встречаться с председателем сельсовета, таким же, как Елтыш с Есаулом, как Кузьмин, бородатым, с такой же дремучей подозрительностью во взгляде; он с великой радостью нанял бы возницу, с кем попутно приехал из Тюмени, и махнул бы на все рукой, но он был неволен, ибо помнил злое обещание Есаула.
– Али не пустили? – сочувственным вопросом встретил Мэлова председатель и сам же ответил: – Семейцы, что с них возьмешь? – И спросил без обиняков: – Ответь, как на духу, каво у Ермача делать тебе? Кулак он. Супротивник нашей власти. Али и ты из ихней породы?
Пот прошиб Мэлова. Второй раз человека встретил, а в корень уже вгляделся. В атаку придется идти, чтобы не укрепился в своей мысли председатель. Ответил возмущенно:
– Я Зимний штурмовал!
– Раз штурмовал, значит, ладно, – вовсе, казалось, не воспринял значимости сказанного председатель. – Я говорю, к Ермачу-то чего навострился?
– Я – следователь! И не вправе быть с вами откровенным.
– Следователь, говоришь? – все с той же недоверчивостью, в которую, правда, вплелись нотки радости, протянул председатель. – Тогда и впрямь нужда в нем есть. Много кровушки пролито по его вине. Нет, он сам не бандитил, сын его, Никита, вроде бы тоже в сторонке, только так я мыслю: они главные заводилы…
Будто треснул ледовый панцирь и хлынула набухшая вешняя вода, истосковавшаяся по вольному берегу под студеной тяжестью: об оружии, неведомо откуда появившемся, заговорил председатель, о том, как Петра Пришлого, ученика тракториста, чуть не убили, а потом так замордовали парня, что утек куда-то; о том заговорил, что и после, как Колчака турнули, легче не стало, бандитят кулаки, житья не дают и даже ему, председателю сельсовета, кого народ поставил на пост, смертью грозят. Он говорил долго и основательно, предполагая, как сеятель, что в добрую землю бросает семена, и даже не подозревал, какие мысли и какие планы зреют в голове его гостя.