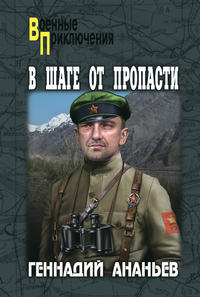Полная версия
Железный ветер
– Стрелки! Быстрей!
Не время объяснять, как важен сейчас прицельный огонь винтовок, пока не подкатят станкачи, пока не вставят ленты. Надеялся, что поймут без разжевывания. Должны понять! Слишком высокая ставка. На кону – жизнь! Не удержать долго ему одному три трапа. Не удержать. Да и лента пулеметная слишком торопится. Вот-вот кончится.
Возликовал душой: «Молодцы!» – услышав слева выстрел, второй, третий… И пошло, пошло – умеют пограничники стрелять часто и метко.
Вот уже и «максим» повел, отплевываясь, тупым рылом, вот второй «максим» заработал. А следом и ручные пулеметы вплели в общий шум свои голоса…
– Молодцы! – кричал Богусловский, достреливая последние сантиметры японской пулеметной ленты. – Конец вам! Конец!
Предопределен захватом катеров исход боя – это верно. До конца, однако, ой как далеко: упорен японский солдат, к тому же самолюбив неимоверно, себя считает если не сверхчеловеком, то уж, во всяком случае, более разумным, более храбрым – так воспитан с пеленок. Не менее упорны и маньчжуры, правда, по-иному упорны – послушностью упорны, которая кажется бездумно-автоматической. Не бросит оружие маньчжур, если ему велено стрелять. Умирая даже, нажмет на спусковой крючок. Бесцельно может выстрелить, в небо, но все же выстрелит.
Преждевременным, если вспомнить об этом, был, выходит, ликующий крик души Богусловского. И верно: дальнейшие события развивались по логике боя, когда противостоят друг другу храбрые и умелые бойцы, каждый из которых считает, что бьется за святое дело. Японцы с маньчжурами отступили без паники и образовали кольцевую оборону. Огонь их стал реже, но прицельней и расчетливей. Самые меткие пули посылались пулеметчикам. Один «дегтярь» смолк, следом за ним и второй, и только «максимы» продолжали свой уверенный говорок.
Никто из стрелков не кинулся к ручным пулеметам, чтобы заменить своих товарищей, и не оттого, что струсили. Нет, если бы японцы кинулись в атаку, каждый бы из пограничников, не боясь смертельной опасности, лег бы за пулемет, но гибнуть бесцельно никто из них не намеревался, поэтому они не покидали бронированных укрытий. Более того, они начали «изучать» японские пулеметы, ослабив тем самым ответный огонь вражеской цепи.
Замолчал «максим» на соседнем с Богусловским катере. Нет, не убит пулеметчик, не ранен – ленту меняет. А вражеская цепь ожила. Пошла в наступление короткими перебежками. Смелее и смелее. Да, для них сейчас самое главное – катера вернуть. Любой ценой.
«Спровоцировать атаку? – подумалось Богусловскому. – Верно, спровоцировать». – И крикнул:
– Пулеметчикам прекратить огонь! Только винтовочный – редкий!
Своевременно прозвучала команда. На среднем катере японский пулемет уже был «понят» (принцип действия всех систем почти одинаков), и уже, поплевав на ладони, взялся пограничник за рукоятки, да и на дальнем катере к тому же дело двигалось. А начни стрелять катерные пулеметы – подумали бы японцы, прежде чем кидаться в атаку.
Исход, конечно, виден: японцам некуда деваться, но спровоцированная атака приблизит конец боя, а значит, меньше погибнет пограничников. Риск, однако же, есть. Полезут сломя голову – ничем вдруг не остановишь. Маловато на катерах пограничников. Маловато. Заманчиво вызвать отделение с берега, но нет, пусть останется резерв.
Молчат пулеметы, редки и винтовочные выстрелы с катеров по приближающейся цепи, но не поднимаются в атаку японцы: то ползут, то стремительно и коротко перебегают. Все ближе и ближе цепь. Не время ли?
«Поднимутся, – убеждал себя Богусловский. – Должны подняться!»
Уже метров двадцать до катеров, а те только огрызаются винтовочными выстрелами. Еще на пять метров сокращено расстояние, и тут гортанный крик взметнул цепь… Нажимая на спуск, Богусловский крикнул истошно:
– Огонь!
Отступили, кто остался жив, к своим, и вновь началась дуэль. Ну чего бы вроде сопротивляться после таких потерь? Так нет, сузили только фронт цепи круговой, и видно было – не возьмешь их без атаки, без рукопашной. Кровопролитно, но и затягивать бой нет никакого смысла, ибо вполне может подойти к японцам подкрепление. На это, похоже, и рассчитывают провокаторы. Хотя и нет на японо-маньчжурском посту катеров, но, возможно, спешит уже с других постов помощь…
Правда, и наших два катера тоже должны подойти вот-вот. Давно уже высланы. Нужно ли, однако, разжигать конфликт, втягивая в него все новые и новые силы? Далеко так может зайти. Да, лучше атаковать.
Прошипела зеленая ракета, и вот уже отделение на четырех лодках – их еще загодя приготовил начальник заставы, прекрасно замаскировав, – пересекает протоку правее и левее катеров и, рассекая ивняк, упирается в берег острова. Выдерживает паузу Богусловский, чтобы подобрались пограничники поближе к вражеской цепи, затем командует:
– Две красного дыма!
Это значит, что по первой ракете – огонь со всех видов оружия. Максимальный огонь! А когда распушит красное облачко вторая ракета – рывок в атаку. При огневой поддержке на какое-то время, пока не опасно для своих, с катеров.
Сошлись две упрямые силы, сшиблись в смертной круговерти. Да не долго пыжились японцы и маньчжуры – покрепче русский солдат, посноровистей, к тому же он свою, советскую, землю обороняет от алчности наглой, оттого и злей, оттого и решительней. Вот и угомонился вскоре бой. Задымили самокрутками и «Севером» всласть, без спешки пограничники, подставили потные лица ветру нежному, речному. Еще не время считать раны, считать потери – каждый своей жизнью наслаждается, не думая ни о чем. Полной мерой ощущает жизнь.
Через несколько минут и бинты в ход пойдут, и появятся слова искренние, полные сочувствия, и фальшиво-успокоительные: «Ничего, обойдется! Походим еще в наряды», – а бережные руки поднимут самых израненных и перенесут в удобное место, поближе к берегу, чтобы поскорее погрузить на катера, как только они причалят. Только через несколько минут живые и здоровые начнут исполнять печальный свой долг, но не перестанут и тогда радоваться жизни, хотя скорбь властно навалится на них.
Труден бой, но не менее трудно после боя. Не каждый себе в этом признается, но каждый пограничник испытал на себе это многократно…
Комэска и взводные подошли к Богусловскому, который устало спустился по трапу на берег, и остановились подле него. Они не поздравляли друг друга с победой, они молчали, осмысливая шаг за шагом весь бой, от начала и до конца, чтобы оценить для себя, для своей совести, все ли сделано так, как надо, и можно ли было выиграть схватку с еще меньшей кровью.
– Спасибо, товарищи, – прервал наконец молчание Богусловский. – Спасибо. Списки отличившихся представить мне сегодня же. – И поднял предостерегающе руку, уловив далекий перестук катерных двигателей. Прислушался. Точно. Сверху идут. Должно быть, свои. А если японцы? Бережливого коня зверь в поле не бьет.
– К бою, товарищи.
Пограничные катера подошли. Начальник войск округа Оккер, два военврача с ним и взвод станковых пулеметов. На полчаса раньше бы этот взвод, тогда в самый раз, а теперь – обуза. Застава – она не резиновая, но всех и накормить нужно, и спать уложить. Вот врачи, они кстати. Очень кстати.
Положенным условным докладом встречает Богусловский начальника войск, но тот прерывает:
– Без доклада вижу: молодцы! Внушительный урок самураям. Весьма, батенька мой, внушительный.
Подошел к раненым, возле которых уже хлопотали врачи, изучающе посмотрел на каждого, словно стараясь запомнить эти отрешенно-терпеливые лица, эти покусанные до крови губы, эти упрямые жгуты на скулах. Молвил, вздохнув:
– Не убереглись, сынки. Не убереглись. Поставят вас врачи в строй непременно, но наперед зарубите себе на носу: под вражескую пулю себя подставить – дело нехитрое, а нужно, победив, живым и невредимым остаться. В этом главный смысл ратного труда.
Перемолвился с ранеными еще десятком фраз, предназначались которые для убеждения раненых, что ради святого дела пролита их кровь, затем, пожелав им быстрого излечения, пригласил Богусловского на катер.
– Тут, Михаил Семеонович, без нас теперь управятся, ты же мне расскажешь, как баталию эту победную провел… Потом о делах твоих потолкуем. По-семейному потолкуем.
Будто иголкой кольнуло в сердце Михаилу Богусловскому это «по-семейному». Их нынешние отношения были далеки от тех, которые сложились в Жаркенте. Там проблемы службы они могли запросто обсуждать дома за чашкой чая, говорить свое мнение совершенно откровенно, не стесняясь того, что мнение это может быть воспринято с обидой; там радость и боль одной семьи становились общими – то была истинная солдатская дружба, красивая простотой своей и искренностью.
Когда по навету, истоков которого и по сей день Богусловский не представлял, его обвинили чуть ли не в измене Родине, Оккер сделал все, чтобы обелить его имя. А когда уезжал на Дальний Восток принимать под команду округ, настоял на том, чтобы его, Богусловского, назначили начальником отряда. Поздравляя с назначением, сказал тогда:
– Не ради дружбы сделал я это, но ради истины. Ты патриот! Ты знающий службу и думающий пограничник. Ты уважаешь подчиненных. Запомни: это не подачка – по чести и совести ты достоин этой должности.
«Запомнил» – не то слово. Это врезалось в сознание, вдохновило, стало поддержкой в трудные минуты, каких в жизни командиров-пограничников ох как немало.
Несколько лет отряд Богусловского числился в передовых, и все чаще окружные офицеры проговаривались, будто невзначай, по-дружески, что предстоит ему повышение. Увы, намеки оставались намеками, повышение по неведомым Богусловскому причинам не выходило, а когда сравнительно успокоилась казахстанская граница, обеднела стычками с белоказаками и басмачами, когда все, кто стремился откочевать за кордон со своими несметными отарами овец, конскими табунами, многочисленными женами и верными нукерами, откочевали либо погибли при переходе границы; когда оставшиеся на своей родной земле взялись обихаживать ее – вот тогда получил Богусловский предписание о переводе на ту же должность на Дальний Восток. Объяснение сему простое: там нужнее его, Богусловского, опыт, знание и завидное оперативно-войсковое мышление.
Анна весьма обрадовалась переводу, предвкушая встречу с подругой своей Ларисой Карловной; доволен был и сам Михаил Богусловский, что вновь окажется под началом человека, которому верил безгранично и, главное, который был вместе с братом до последнего его вздоха; и даже сын, давно забывший бы добрых дядю и тетю, если бы родители не питали его память частыми воспоминаниями, – даже их Владик расшалился на радостях настолько, что пришлось родителям строжиться, хотя это и противно было их душевному состоянию.
Оккеры встретили Богусловских на вокзале и повезли к себе домой. Ни о какой гостинице и слушать не хотели. Увы, в тот первый вечер появился в их прежней искренней дружбе едва заметный раскол. Но если мужчины отошли лишь на небольшую дистанцию, что вытекало из естественного положения дел, ибо Владимир Васильевич в новой своей должности уже стал привыкать к покровительственной манере общения, к фальшиво-панибратскому «батенька мой», к непререкаемости тех истин, которые он глаголил, то между женщинами щель пролегла весьма глубокая, края которой никакими крюками не стянешь. Причина? Самая обыденная, но самая живучая в людской среде. Имя ее – зависть. Сколько из-за нее, проклятущей, людей погублено, сколько судеб покалечено!
На сей раз, правда, дело так далеко не зашло. Лариса Карловна не объявила войну Анне, наоборот, она была приветлива в обращении с ней, она ласкала Владика более нежно, чем свою дочь Вику, но иногда была не в силах сдержать завистливой холодности во взгляде. Владик, который был старше Виктории всего на два года, выглядел по сравнению с ней настоящим богатырем: высок, сбит, фигурист, пухлощек и румян, что тебе девица красная. Вика же казалась в своем дорогом кружевном платьице замарашкой некормленой, загнанной и забитой, и только в глазах ее поблескивали шаловливые бесенята, что говорило о ее здоровье, об естественном ходе развития ее организма. Да, Вика проигрывала по сравнению с Владиком, а для матери любой, самой воспитанной, самой доброй, это – не ложка меда к чаю.
Но главное все же было в том, что Анна Павлантьевна лишь чуточку пополнела, отчего фигура ее стала еще более привлекательной, еще более женственной, лицо ее сохранило свою прежнюю свежесть, будто не калило его нещадно степное щедрое солнце, а Лариса Карловна, напротив, сильно сдала: лицо стало еще более тяжелое, под глазами дряблые морщинки, хотя и тщательно запудренные, но все равно заметные; да и фигурой она проигрывала, ибо слишком пополнела и раздалась в бедрах, отчего и походка стала не столь легкой, как прежде, – такое женщины замечают сразу, и мало кому из них удается подавить зависть. Возможно, даже безотчетную.
Прошли наконец те несколько дней, которые нужны были Богусловскому для знакомства с обстановкой в округе, с офицерами штаба, кончились вечерние чаепития на манер тех, жаркентских, только с натянутой радушностью; позади и беседы о том, как ему, Богусловскому, начинать дела. На вокзал Оккеры поехали проводить Богусловских всей семьей. Лариса Карловна, повторяясь многократно, приглашала Анну Павлантьевну с Владиком чаще приезжать в гости, как к себе домой, а Владимир Васильевич напутствовал:
– Помни, полагаюсь на тебя с большой надеждой. У прежнего все юзом шло, ты же, батенька мой, думаю, не подведешь меня, коли дружбою дорожишь…
Много после тех проводов приходилось встречаться Богусловскому и Оккеру по разным поводам, в различных обстоятельствах, ни разу, однако, не предлагал Оккер по-семейному побеседовать.
«Вот так, ни за что ни про что, не стал бы делать вольт начальник войск… Не стал бы… – размышлял Богусловский, шагая, чуть отстав, за Оккером. И ошпарил душу внезапный вывод: – Худы не только мои дела, но и его. Дружбу прежнюю вменят ему в вину. И то, что Ларису Карловну от напраслины огородил. Что ж, будем искать выход вместе. Или он о себе больше станет печься?»
Совершенно несправедливо думал Богусловский об Оккере. Его тревожные дни и бессонные ночи остались уже позади. Действительно, следователь Мэлов, тот самый, что когда-то вел дело Ларисы Карловны, затем возбудил следствие против Михаила Богусловского, но вынужден был прекратить его и в виде наказания был переведен на Дальний Восток, приглашал начальника войск округа к себе. Беседа шла о Богусловском, и Оккер понял, что следователя интересуют подробности доклада Богусловского о, как тот выразился, «расправе с патриотами». Не было, казалось, резона скрывать от следователя ничего, но Оккер не рассказал о содержании разговора Богусловского с раненым нарушителем. Удержало то, что следователь отчего-то пытался затушевать свою в том заинтересованность. Колесил вокруг да около, а прямо так и не спросил.
Более часа длилась беседа. Подытожил ее Мэлов так:
– Я знаю, что начальник отряда ваш друг, в прошлом сделал услугу вашей жене, тогда еще невесте, а стало быть, и вам. Хочу поэтому предупредить вас: любое действие ваше, направленное на затруднение следствия по делу преступного самоуправства, мы вправе расценивать как соучастие в преступлении. В ближайшие дни я попрошу вас письменно объясниться по поводу вашей сомнительной дружбы с преступником…
Как удержался, чтобы не нагрубить следователю, Оккер, он даже самому себе не мог потом объяснить. Возможно, цинизм сказанного привел его в шоковое состояние, лишил способности на какое-то время и мыслить, и сопротивляться?
Вернувшись в свой кабинет, Оккер тут же позвонил по прямому проводу в Москву. Доложил обо всем без утайки, но был краток, лаконичен (опасность заставила собраться, а надежда на помощь придавала силы) и убедителен.
– Хорошо, будем разбираться, – неопределенно сказали на том конце провода, и связь прервалась. У начальника войск округа даже не спросили, какова оперативная обстановка.
Надежда испарилась, как пустынный мираж, и Оккер, боевой командир, умевший даже в смертельно опасных ситуациях поступать согласно обстоятельствам и осмысленному расчету, командир, который сам не боялся ни пуль, ни клинка и учил подчиненных своих храбрости и лихости в борьбе с врагами, – этот командир под бременем непривычной ему опасности оказался совершенно беспомощным. В подсумках его не оказалось ни одного патрона. Вызвав ординарца, он попросил:
– Машину, пожалуйста. Поскорее. – И добавил глухо: – Домой поеду.
Ни ординарца, ни тем более водителя нисколько не удивило, что командир, обычно возвращавшийся домой очень поздно, уезжал из штаба средь бела дня. Рассуждали, в общем-то, верно: раз едет, стало быть, требуется. И хмурость его объяснили по-своему: ЧП где-нибудь, япошки снова набедокурили. Никто ничего у него не спросил, и Оккер посчитал, что держит себя в руках, не показывает вида подчиненным, что растерян. Рассчитывал, что и дома жена не заметит его душевного смятения. Приготовился соврать, если Лариса спросит, отчего рано, что выдалось свободное время. Лариса, однако, сразу же, как только открыла ему дверь, почувствовала совершенную необычность состояния мужа. Дрогнуло и у нее сердце. Она привычно пропустила его в прихожую, но не задала обычного вопроса: «Как прошел день?» – не осталась стоять в сторонке, ожидая, пока муж повесит мундир, а затем переобуется в мягкие шлепанцы; она подошла к нему, сама сняла фуражку, оттерла ладонью пот со лба и начала расстегивать мундир. Это было так непривычно для Владимира Васильевича, так неожиданно, что он даже отшатнулся, но Лариса мягко положила руки на плечи, притянула его к себе, поцеловала и попросила:
– Не упрямься.
Впервые за все годы их совместной жизни Лариса помогла мужу раздеться и, не понимая того, еще более усугубляла его тревогу, еще более обезоруживала его, делала его еще более беспомощным. Лариса всегда была сдержанна с ним. Она, не понимая того, обкрадывала и его, и еще больше самое себя, но так уж сложилась их жизнь. Поначалу она не делала того, что считала оскорблением ее любви к товарищу Климентьеву, под грузом душевной раны, нанесенной Андреем Левонтьевым, а затем, когда рана уже затянулась и перестала кровоточить, под грузом самоубеждения, что она не вправе хоть чем-либо запятнать свою первую и единственную любовь. Владимира Оккера поначалу это сильно угнетало, но он надеялся, что со временем Лариса изменится, а после привык к сложившимся меж ними отношениям, не представляя даже, что они могут быть у мужа с женой иными – более нежными, более пылкими и более чуткими…
– Пойдем в гостиную. Приляг на диван, а я сварю кофе.
Она положила ему под голову думку и, поцеловав и попросив: «Лежи, я сейчас», – поспешила на кухню, оставив его удивляться столь необычному ее обращению.
На душе кошки скребут. Он уехал из управления, чтобы остаться одному, и вот – он один. Пустота вокруг. Безжизненность. Не для него она, и он с нетерпением ждал, когда Лариса позовет в столовую, и думал, имеет ли он право рассказать о дамокловом мече, так неожиданно нависшем и над Богусловским, и над ним самим, и не находил верного решения.
Вошла Лариса с подносом, и гостиная наполнилась бодрящим ароматом. Оккер хотел было подняться, но Лариса опередила:
– Лежи, я подам.
Он пил кофе, а она перебирала пальцами его волосы, разглаживала морщины на лбу и у глаз, а когда он похвалил кофе, она благодарно поцеловала его.
Владимир Васильевич не спешил допивать кофе, растягивал блаженство. Прежде, бывало, он вот так же цедил сквозь пальцы волосы Ларисы, разглаживал морщинки, и, хотя для нее все это было приятно (он видел это), она, однако же, сдерживала ответные ласки. Сегодня же они поменялись ролями. Ему тоже хотелось обнять жену, прижаться головой к ее пышной груди, но он продолжал пить мелкими глоточками кофе, как привык в Средней Азии вдыхать чай из пиал.
И на следующий день Лариса была чуткой и нежной. И на следующий… И вконец разморенный не испытанными прежде ее ласками, он разоткровенничался. Рассказывал, а сам боялся, что она расстроится, вспомнит о том времени, когда сама была под следствием, вспомнит все и вернется ее прежняя сдержанность; он никак не хотел потерять того, что так неожиданно обрел, но продолжал свой печальный рассказ.
Реакция Ларисы Карловны тоже оказалась неожиданной. Ни грамма печали. Только возмущение.
– А, этот Мэлов, значит? Тогда все понятно! – зло заговорила Лариса. – Почему ты, Володя, прежде мне не сказал о нем? Я бы Сталину письмо написала. Либо его перевели бы отсюда, либо нас. Я сегодня же напишу…
– Не спеши, подождем решения. Я тебя очень прошу.
– Хорошо. Но не попадись ему на крючок. Ни в коем случае никаких письменных свидетельств. Он хочет, чтобы ты отрекся от Богусловского. Он предателем тебя сделать хочет! Эка фрукт! А тебе не кукситься, а бороться нужно. Действовать!
– Нет, чести я не запятнаю. Что бы ни случилось! И отрешусь от непротивления злу. Непременно!
Лариса Карловна была совершенно искренней, так заботясь о Богусловских. Возникшая зависть к Анне и Владику притупилась, но, даже будь она по-прежнему острой, иначе бы Лариса Карловна не поступила, ибо речь шла не о красоте бедер и бюста – речь шла о судьбе. А Лариса Карловна помнила все, что сделали для нее Богусловские. И искренность Ларисы, ее настойчивость для того душевного состояния Владимира Васильевича имели весьма серьезный вес. Даже решающий. На следующий же день Оккер начал активное противодействие Мэлову. Он попросил начальника штаба отряда донести лично ему рапортом о том, кем и когда был разработан план внезапных проверок и согласно ли утвержденному плану выезжал на стыковую заставу начальник отряда. Письменного рапорта, тоже лично ему, потребовал Оккер и от коменданта участка, который первым прибыл к месту боя и все видел своими глазами. Он не сказал о предстоящем следствии, но предупредил, как важна в рапортах скрупулезная точность. Своего начальника штаба он попросил подготовить справку об указаниях штаба округа по проведению внезапных проверок.
Документы, которые Оккер собрал, не оставляли сомнения в том, что Богусловский действовал верно, не афишируя своего выезда. Никакой тайной преднамеренности у того не было, никакого злого умысла. Это немного успокоило, но Оккер понимал прекрасно: все решит ответный звонок из Москвы. И его судьбу, и судьбу Богусловского.
Только после нескольких тревожных дней и бессонных ночей раздался долгожданный звонок. Первые слова ободряющие: «Работайте спокойно…» А дальше – засека, которую не враз осилишь: Мэлову не мешать, но и не содействовать, личного объяснения письменно не давать. Резко отказываться, однако, не стоит. Лучше всего – обещать и оправдываться за невыполнение обещания занятостью чрезмерной. С Богусловским контакт минимальный. Информировать об этом телефонном разговоре его ни в коем случае не следует. И вообще никаких советов, как вести себя со следователем, не давать.
Не стал возражать Оккер против последней рекомендации, хотя был с ней не согласен. А когда рассказал об этом Ларисе и та определила такую позицию улиточной, решил он раскрыть Богусловскому почти все карты. Искал лишь повода для поездки в отряд. И вот – Барковый. Никто не мог теперь упрекнуть его в преднамеренном контакте с Богусловским.
…Они уже подошли к трапу, как вдруг Оккер обернулся, остановившись, и сказал твердо:
– Нет. На катер не пойдем. Рассказывай и показывай. Так будет понятней.
«Не хочет, чтобы кто-либо вдруг услышал случайно разговор… – со все больше укрепляющейся неприязнью к бывшему другу подумал Богусловский. – Эка напуган. Не борец за правду… Не помощник!»
Начал с подчеркнутой официальностью:
– Выезжая сюда, я ослушался следователя. Он позвонил мне тут же, после вашего приказа возглавить операцию…
– Постой, постой… Тебе он велел не покидать отряда?
Для Оккера было неожиданно и оскорбительно услышать о том, что следствие Мэлов начал, не оповестив его, начальника войск округа. Мэлов, правда, не подчинялся ему, но элементарная субординация предполагала информацию. Оттого и не сдержал столь поспешного вопроса Оккер. Богусловский же расценил его по своему разумению. Ответил, едва подавляя раздражение:
– Решение о выезде я принял сам. Возможные обвинения полностью приму на свой счет!..
– Эка, батенька мой… Спасибо за пощечину. Ну да, может, и заслужил. Только вряд ли. – Вздохнув, сказал примирительно: – Ладно, поставим все на свои места, только послушаю я вначале доклад твой о бое.
Скупым военным языком докладывал Богусловский, а Оккер понимал, с каким смелым риском действовал тот и как ловко были захвачены японские катера, что в конечном счете принесло столь внушительную победу: трофеи, пленные, но, главное, хороший урок преподан провокаторам.
– Молодец, Михаил Семеонович! Одно слово – молодец! На орден представлю! Красного Знамени – не меньше! – И, поглядев в сторону Хабаровска, молвил злорадно: – Посмотрим, как Лазаря петь станешь! Посмотрим! – И вновь к Богусловскому: – А случись у тебя осечка – трудновато бы пришлось. Усугубил бы и без того…