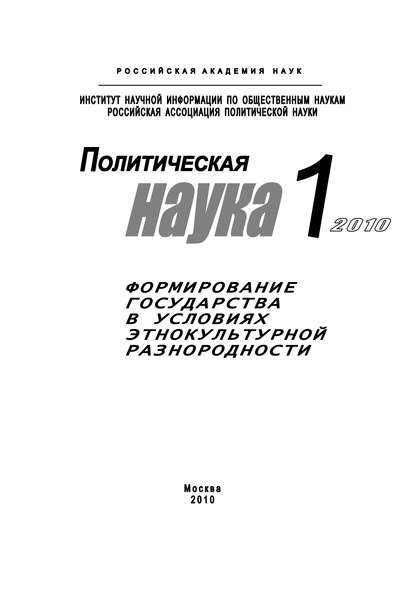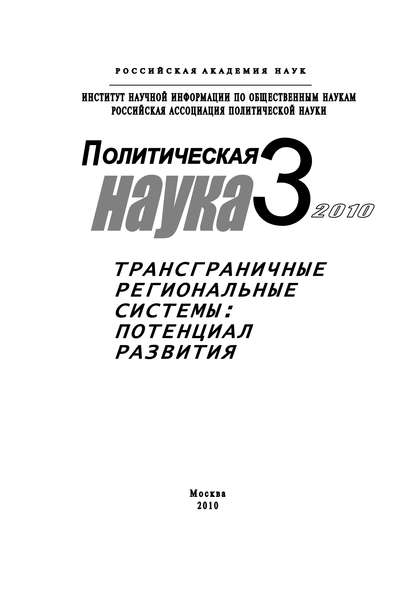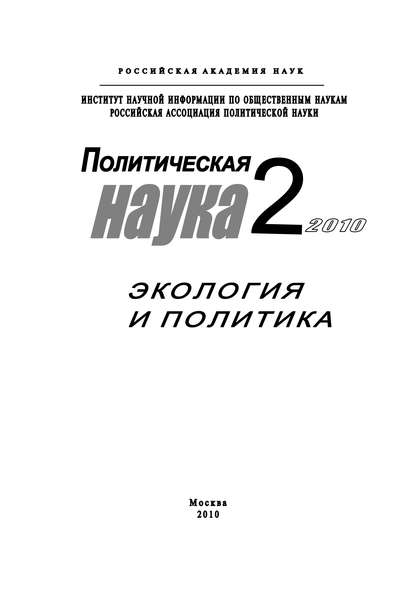Полная версия
Политическая наука. 2017. Спецвыпуск
Социологи отмечают, что значительную часть российского общества уже не устраивает социально-экономическая модель, которая предполагает стабильность без развития, без конвертации экономического роста в улучшение качества жизни большинства граждан [Горшков, 2010, с. 46–47]. Значит, эти вопросы должны закладываться в стратегии развития в качестве важнейших ценностных установок, определять логику формирования государственных программ и критерии оценки достигаемых результатов. Решать эти вопросы будет сложнее сейчас, в условиях экономического кризиса и резкого сокращения доходной части бюджета.
Возникают и новые вызовы развитию. В Повестке ООН остро поставлены вопросы охраны окружающей среды как одного из главных элементов устойчивого развития. В России к этим вопросам привычно относятся как к второстепенным, однако, по мнению экспертов Всемирного банка, через несколько десятилетий общий ущерб от климатических изменений для России может составить 10 млрд долл., Россия может стать самой уязвимой в Восточной Европе и Центральной Азии страной в процессе глобального изменения климата [Бобылев, Соловьева, 2016, с. 36–37].
Для предотвращения негативных последствий изменения климата на международном уровне принимается целый ряд мер, в том числе в рамках реализации Парижского соглашения сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Реализация этого документа, по мнению экспертов, связана с: а) введением цены на углерод либо в качестве платежей за выбросы, либо фактора эффективности экономических проектов, б) риском формирования «проблемных активов» (stranded assets) – запасов углеводородов [Порфирьев, 2016, с. 8].
Для страны с экономикой, существенно зависимой от экспорта углеводородов, такие прогнозы вдвойне неблагоприятны. Соответствующие отрасли уже перестают быть привлекательными для инвесторов: на следующее десятилетие (2016 –2025) наибольшие инвестиционные риски характерны для инвестиций топливно-энергетических компаний, совокупным объемом 2,2 трлн долл., прежде всего США (412 млрд долл.), Китай (179 млрд долл.), Россия (147 млрд долл.), Австралия (103 млрд долл.), Канада (220 млрд долл.) [Порфирьев, 2016, с. 8].
На начало января 2016 г. из-за цен на нефть заморожены инвестиции в 68 крупных нефтегазовых проектов на сумму 380 млрд долл. По углю процесс наиболее интенсивный – более 400 инвестиционных компаний приняли решение отказаться от инвестиций в корпорации, которые за счет добычи угля получают значительную часть своих доходов [Порфирьев, 2016, с. 8].
Падение инвестиционного интереса – серьезный сигнал для пересмотра стратегий развития инфраструктуры, однако пока это не находит отражения в российской политике: в период последнего экономического кризиса в России произошло падение инвестиций в инфраструктуру, за исключением энергетического комплекса [Bringing Global Infrastructure Gap, 2016, p. 10]. Мировая же тенденция – развитие «зеленой экономики» – и соответствующие направления инвестиций, в России практически не поддерживаются, в отличие от партнеров по ЕАЭС и БРИКС.
Так, например, углеродные инструменты используются для стимулирования перехода на новые технологии в Китае, Казахстане, Бразилии и ЮАР [Бобылев, Соловьева, 2016, с. 36–37].
В КНР в 2015 г. обнародован общегосударственный план реформирования экономики, который предусматривает развитие «рыночной системы, позволяющей экономическим субъектам играть более значимую роль в управлении ресурсами окружающей среды», с возможностью продажи прав на использование природных ресурсов, создания рынка водных ресурсов, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов [Порфирьев, 2016, с. 9].
Экспертами особо подчеркивается эффективность «зеленых» инвестиций как инструмента антикризисной политики, включая смягчение безработицы и повышение занятости. Это показал опыт 2008–2009 гг., когда правительства многих ведущих экономик мира в программах действий по выходу из кризиса отвели инвестиционным проектам развития экологически чистых высокотехнологичных производств и инфраструктуры (в частности, ВИЭ и скоростных дорог) важное место. Доля расходов на такие программы в общем объеме антикризисных пакетов составила в США 12%, ФРГ – 13, Франции – 21, Китае – 38, Южной Корее – рекордные 81% [Порфирьев, 2016, с. 7]. Позиция российского профильного министерства по вопросам развития «зеленой энергетики» весьма сдержанная: «У нас страна богата топливными ресурсами, насколько рационально сейчас от них отказываться – очень большой вопрос» [Зеленая энергетика… 2017].
Таким образом, для того чтобы приступить к планированию развития инфраструктуры, нужно в первую очередь определиться даже не с источниками финансирования такой программы, а с базовыми ценностно-целевыми установками, ориентированными на долгосрочную перспективу. Требуется системный взгляд на развитие производства, социальной сферы, пространственное развитие, развитие человеческого капитала в контексте актуальных и грядущих вызовов, в том числе ожиданий населения. Это – серьезная задача формирования государственной политики, которая в настоящее время не решена.
Механизмы смены парадигмы государственной политики весьма сложны. Зачастую определение национальных интересов и приоритеты в распределении ключевых ресурсов находятся в руках правящего режима, который тесно интегрирован с экономическими агентами, заинтересованными в сохранении статус-кво [Соловьев, 2016, с. 101]. В результате мы можем наблюдать не только игнорирование новых тенденций, но и активное сопротивление им: именно таким образом, например, можно интерпретировать выход США из Парижского соглашения по климату [Трамп вывел Европу из себя… 2017]. Если дополнить этот событийный ряд экономической подоплекой нового пакета антироссийских санкций, вызвавших острую реакцию европейских внешнеполитических ведомств [Германия и Австрия выступили против, 2017], то картина стремлений сохранить существующий экономический порядок с выгодой для себя становится полной. Однако это дорога в тупик: в США, на фоне государственной политики, нацеленной на «всемирное лидерство» этой «демократии», сегодня 45 млн граждан страны проживают в бедности, что в 2 раза превышает аналогичные показатели середины 70‐х годов прошлого века [Соловьев, 2016, с. 102]. Вряд ли сейчас уже это привлекательный образ даже для самих американцев, не говоря уже об остальном мире. Китайская инициатива на этом фоне выглядит куда более привлекательной. Справедливости ради надо отметить, что влиятельные сторонники сохранения статус-кво имеются не только в США.
Социально-экономические эффекты от развития инфраструктурыИнтерес к инфраструктурным проектам всегда был связан с их возможностью производить эффект «большого толчка» (big push)10 развитию экономики. Так как в ходе ряда исследований установлена сильная корреляция капитальных вложений в транспортную инфраструктуру не только с ВВП, но и с индексом человеческого развития [Amador-Jimenez, Willis, 2012, p. 201], который также является важным индикатором Повестки ООН, представляется возможным говорить о социально-экономических эффектах от развития инфраструктуры.
Необходимость выявления взаимосвязей влияния инфраструктуры на уровень экономического развития вызвала множество экономических исследований в этой сфере за последние три десятилетия. Споры об эффективности инфраструктурных проектов ведутся на макро- и микроуровнях.
Одними из самых первых и фундаментальных исследований взаимосвязи инвестиций в инфраструктуру макроуровня и производительностью труда были работы Дэвида Ашауэра [Aschauer, 1989a; Aschauer, 1989b ]. Замедление роста производительности труда в 70–80‐е годы ХХ в. в Америке Ашауэр связывал с недостаточностью одних только государственных инвестиций в инфраструктуру экономики. Выдвигался тезис о том, что увеличения производительности труда, прибыльности и экономического роста можно достичь, наращивая вложения в инфраструктуру, в том числе за счет частных инвестиций. Другие американские экономисты, такие как Алишия Мунелл [Munnell, 1990] и Пол Кругман [Krugman, 1991], в будущем лауреат Нобелевской премии, Санчес-Роблес [Sanchez-Robles, 1998], Д. Дональдсон [Donaldson, 2010] развили и укрепили теорию Ашауэра. Однако эмпирические исключения, не укладывающиеся в теорию Ашауэра, порождали ее критику и поиск альтернативных объяснительных моделей. Наиболее заметными оппонентами теории Ашауэра выступили Эйснер [Eisner, 1991], Грамлих [Gramlich, 1994], Эванс и Каррас [Evans, Karras, 1994], Шварц [Schwartz, 1995], Реллер и Уэверман [Röller, Waverman, 2001]. Новые подходы не умаляли влияния инфраструктуры на национальную экономику, но больше внимания уделяли поиску косвенных и отложенных эффектов.
Микротеории, в отличие от макро-, апеллируют к региональному уровню и уровню отдельных проектов. Детальное изучение конкретных кейсов в свою очередь выявляет скорее негативные оценки и убыточность инфраструктурных проектов: истинные затраты практически всегда превышают плановый уровень, а прогнозируемые доходы возвращаются в меньшем объеме и с большим запаздыванием по времени11. Наиболее масштабный анализ мегапроектов осуществил Бент Фливбьорг, который пришел к выводу, что неадекватная оценка вложений и их эффекта возникает настолько часто, что не может быть ошибкой расчета или статистической погрешностью. В своих исследованиях Фливбьорг выдвигает тезис о том, что это скорее специальное стратегическое допущение, облегчающее процедуру принятия проекта к реализации. Иными словами, заниженные издержки, завышенные выгоды, неадекватная оценка влияния на окружающую среду и завышенные ожидания эффектов экономического развития гарантируют быстрое утверждение проекта, а следовательно, открывают доступ к финансированию. В результате действия «стратегического искажения», или так называемой «формулы Макиавелли», накапливается систематический перерасход средств на «некачественные» проекты, неспособные генерировать отдачу в виде количественных и качественных экономических эффектов.
Рассуждая о том, как неудачные инфраструктурные проекты микроуровня согласуются с экономическим ростом на макроуровне, Фливбьорг проводит подробный анализ около сотни китайских проектов в области транспортной инфраструктуры [Ansar, Flyvbjerg, Budzier, Lunn, 2016, p. 360–390]. Касательно оценки «стратегического искажения» для Китая результаты исследования свидетельствуют о том, что в среднем реальные издержки на 31% превышают плановые; что же касается задач развития, то многие проекты оказались неэффективны в силу дискретности – новая инфраструктура не решает проблему неравномерной загруженности. В то же время нельзя не признать, что рост инвестиций в инфраструктуру может быть предвестником экономического бума. Однако все имеет свои «границы полезного действия» как по времени, так и по объему. Чрезмерное инвестирование в инфраструктуру, особенно если для этого привлекаются дорогие заемные средства, как и в законе убывающей отдачи, рано или поздно проявит негативный эффект.
Анализ взаимосвязи уровня инвестиций в инфраструктуру и экономического роста на примере Индии дает более оптимистичные оценки ожидаемого эффекта. В своем исследовании П. Саху (P. Sahoo) и Р.К. Дэщ (R.K. Dash) [Sahoo, Dash, 2009, p. 359–360] изучают влияние объема инфраструктурных инвестиций на национальную экономику, используя модель Кобба-Дугласа. Результаты исследования, полученные путем оценки эластичности замещения факторов производства, демонстрируют значительный позитивный вклад, который вносит развитие инфраструктуры в экономический рост Индии.
Однако здесь стоит сделать две оговорки. Во‐первых, инфраструктура понимается в достаточно узком смысле (в сводный индекс инфраструктуры в данном случае включались показатели потребления энергии, плотности автомобильных и железных дорог, телефонных сетей, объема воздушных перевозок; но в широком смысле сети инфраструктуры могут включать социальную сферу, здравоохранение, образование и пр.).
Во‐вторых, всегда нужно учитывать контекст. Апелляция к выводам исследования в случае других национальных экономик, чей уровень развития инфраструктуры заметно отличается от уровня Индии, не гарантирует столь однозначных результатов. Эти и другие противоречия (в том числе связанные с различными подходами к сбору и анализу эмпирики) отмечаются и в исследовании Т. Денг (T. Deng), сосредоточенном на анализе эластичности производственной функции в отношении инвестиций в транспортную инфраструктуру [Deng, 2013]. Работа T. в очередной раз подтверждает большую разницу в оценках эластичности. Переход с исследовательского уровня на уровень принятия решений означает необходимость скрупулезного анализа каждого инфраструктурного проекта.
Решения об инвестировании, особенно если речь идет о государственных инвестициях, вынуждены приниматься в условиях пространственной и секторальной асимметрии национальных экономик, что генерирует дополнительные риски в процессе реализации того или иного проекта. Поэтому требования к системности и рациональности государственной политики в сфере инвестирования становятся чрезвычайно высоки. Никаких простых и автоматических решений типа «на каждый вложенный в инфраструктуру рубль мы получим один рубль двадцать копеек прироста ВВП» в этой сфере быть не может. Все решения должны основываться на высококачественном прогнозе, на строгих расчетах межотраслевых балансов. Выполнение этого требования, как правило, и становится самым уязвимым месром в рамках реальной государственной политики.
Актуальные вызовы для государственной политикиНациональное государство на данный момент остается основным актором развития инфраструктуры: это традиционно относится к сфере публичной ответственности (в том числе собственности) и публичных финансов. Реализация столь сложных проектов является практически невыполнимой задачей для развивающихся стран: сказывается слабость государственных и общественных институтов [Khwaja, 2008], коррупция, недостатки финансирования. Развитие инфраструктуры в таких странах происходит практически всегда с привлечением международных финансовых институтов и / или иностранных государств, что делает такие государства полностью зависимыми от целевых установок этих акторов.
Указанные выше недостатки взаимосвязаны и наблюдаются даже в быстро растущих странах: высокие издержки на развитие инфраструктуры в Бразилии были тесно связаны с политическим волюнтаризмом и избирательностью применения законодательства, что привело в итоге к уходу частных инвесторов с потенциально достаточно привлекательного бразильского рынка [World Bank… 2016]. В целом можно отметить, что особенности политических систем и режимов развивающихся и переходных стран создают особый контекст для реализации крупных инфраструктурных проектов: при слабости институтов устойчивость проектов зачастую компенсируется различными неформальными механизмами, в которых часто присутствуют элементы неопатримониализма и присущей ему патрон-клиентской системы отношений [Armijo, Rhodes, 2017, p. 240–241]. Создаются разнообразные открытые и латентные сетевые структуры [Бордовских, Соловьев, 2015], включающие представителей политического класса, бюрократии и бизнеса, которые фактически монополизируют процессы принятия решений. Эти тенденции накладываются на естественные стремления к олигополии рынка крупных строительных компаний [Armijo, Rhodes, 2017, p. 242], занимающихся непосредственной реализацией инфраструктурных проектов – в результате получается питательная среда для коррупции. Неслучайно, например, сфера модернизации и эксплуатации объектов ЖКХ в России вызывает большое количество корпоративных конфликтов12 и коррупционных расследований [Бастрыкин, 2011, с. 8]. Распространенным явлением в России является и высокая политическая конкуренция сил, ориентированных на разные сценарии инфраструктурного развития, в том числе в контексте встраивания России в глобальную экономику.
Эти тенденции развиваются на фоне низкой заинтересованности большинства населения в политической активности и слабой степени привлечения неэлитарных слоев к разработке и реализации целей государственной политики [Соловьев, 2016, с. 101]. Наиболее опасным последствием этих политических тенденций является консервация отсталости, препятствие продвижению концептуально новых проектов и инициатив, как национального, так и международного уровня. Развитие инфраструктуры превращается в игру элиты с самой собой, в борьбу отраслевых, ведомственных и корпоративных интересов за распределение бюджетных средств, о ценности развития страны здесь речи уже нет.
Сильные политические институты и традиции, впрочем, не гарантируют успешности инфраструктурных проектов. С одной стороны, инфраструктурные проекты становятся «электоральными разломами» на фоне попыток использовать их в популистских целях13, с другой – ценность инфраструктуры и контроль над ней несоизмеримо возрастают, что дает повод инфраструктурным проектам приобретать статус «мегапроектов», формирующих «новый мировой порядок», т.е. новый взгляд на мир и его развитие [Фливбьорг, Брузелиус, Ротенгаттер, 2014, c. 11]. Мегапроекты приобретают слишком большое значение для политических лидеров, с чьими именами публично связан инфраструктурный проект, что повышает значимость субъективного компонента и приводит к когнитивным ограничениям при принятии решений [Simon 1996]. В итоге инфраструктура опять превращается в политический инструмент, используемый в узкогрупповых целях. Злоупотреблений здесь может быть меньше, но общественный эффект также невысок: экономика западных стран развивается медленными темпами, сталкивается с проблемой деиндустриализации и вытекающими из нее социальными и политическими эффектами, результатом которых стал рост евроскептицизма и избрание Д. Трампа.
Отдельно стоит отметить фактор геополитической конкуренции. Попытки США через политику антироссийских санкций оказать давление на европейские страны с целью сдержать развитие совместных инфраструктурных проектов для продвижения собственных экономических интересов является ярким примером политизации инфраструктурного развития. Ценностное содержание такого рода политики очевидно и не конструктивно.
В итоге складывается ситуация, когда при потенциально высоком социальном запросе на развитие инфраструктуры государство как основной политический актор по разным причинам его игнорирует, реализует взамен иные, более соответствующие интересам доминирующих сегментов, связанных с другими секторами и проектами правящей элиты, или вовсе подменяет практическую реализацию этих проектов некими символическими действиями [Соловьев, 2016, с. 106]. Такая политика оставляет после себя ценностную пустоту, особенно в символическом плане, что в итоге нивелирует ее значение, не решает вопросов консолидации и мобилизации. На этом фоне успех единичных инфраструктурных проектов, обладающих политическим значением (например, строительство моста через Керченский пролив), становится более очевидным, но не меняющим общей тенденции. Но какие могут быть альтернативы?
Ценностные основы инфраструктурных проектовВ условиях конкуренции и геополитического противостояния ценностное содержание проектов приобретает особое значение. Попытки продвижения узкогрупповых, элитарных интересов не могут встретить широкой поддержки ни среди населения, ни среди партнеров, дискредитируют политическую систему и даже сложившийся мировой экономический и политический порядок. На этом фоне проекты, которые предлагают другую парадигму, будут выглядеть намного более привлекательными и реалистичными.
Именно на это, по мнению некоторых экспертов, делает ставку Китай в продвижении своей инициативы «Один пояс, один путь». Срединное государство, благодаря своим серьезным успехам во внутренней и внешней политике, достигнутым за годы реформ, «получило тендер» на переустройство находящейся в глубоком кризисе системы международных отношений, основанной на западных идеологических постулатах и социальных моделях. «Пояс и Путь», как несложно заметить, видится в подобном контексте своеобразной «дорожной картой» реформы сложившегося миропорядка, появление которой, в свою очередь, было предопределено самим ходом истории14.
По замыслу китайских стратегов, большинству людей в развивающихся странах мира требуется именно то, что провозгласил общечеловеческими ценностями Китай, и то, что китайцами обозначается как «общество средней зажиточности»15. Это спокойная, обеспеченная жизнь, уверенность в завтрашнем дне, стабильная политическая система, гарантирующая социальную справедливость. Что интересно, китайцы искренне уверены в том, что достичь всего этого развивающиеся страны могут лишь в рамках «социализма с китайской спецификой». Именно последний, по их убеждению, и должен прийти на смену устаревшей модели глобального капитализма и либеральной демократии, или, если быть более точным, дополнить их в том, где они показали свою недееспособность16. Стараясь не опускаться до навешивания идеологических ярлыков, китайцы для иллюстрации своей правоты предпочитают ссылаться на факты, и тут им сложно что-либо противопоставить. Действительно, именно китайская модель развития впечатляет страны третьего мира не только завидной экономической статистикой, но и эффективными методами достижения политической стабильности, которую в течение долгого времени удается поддерживать властям этой страны и которой многие развивающиеся страны могут лишь позавидовать17.
По мысли китайских идеологов, из этого следует, что тем важным вкладом, который Китай может внести в общую копилку человечества, как раз и являются его теория и практика тотального, опережающего экономического развития, приспособленного к особенностям социально-политического устройства развивающихся стран. Социальная стабильность и благосостояние государства видятся им в качестве необходимого условия любого поступательного развития, а относительный материальный достаток и политическая пассивность граждан представляются им его желательным следствием. Именно в том, чтобы донести до народов планеты свой рецепт справедливого и вместе с тем зажиточного общества, и видят китайцы глобальную историческую миссию КНР на современном этапе. Ее, в свою очередь, призвана реализовать инициатива «Пояса и Пути»18, которая в этом случае действительно видится как продуманная и своевременная внешнеполитическая стратегия, сутью, духом и методом которой при этом является экспорт экономической политики, возведенной в современном Китае практически в сакральный статус.
Таким образом, проект, который формально декларируется как неидеологический, имеет мощную идеологию и ценностную компоненту, которая предлагается в качестве альтернативы элитарной, хаотичной и в целом деструктивной политике ряда стран. Использование ценностного компонента существенно расширяет пространство оценки эффективности реализации проекта – в ход идут уже не только экономические, но в первую очередь социально-экономические категории, которые имеют конкретные политические проекции, с видимыми результатами, конкретными, понятными и достижимыми целями. В результате расширяется база политической и социальной поддержки проекта, повышается его реализуемость. В целом такой подход представляется наиболее соответствующим и Повестке ООН.
* * *Инфраструктура всегда имела большое значение для развития государств: ее существование является предпосылкой и возможностью реализации многих прав и возможностей развития, ее наличие или отсутствие, а также доступ к ней определяет уровень неравенства между странами и внутри них. С ее развитием и усложнением это влияние возрастает еще больше: технологические уклады меняются стремительно, увеличивая разрыв в неравенстве стран и регионов подчас до непреодолимого. Решение о создании и развитии инфраструктуры находится исключительно в политической плоскости, так как имеет отложенный и сложный экономический эффект, не привлекающий бизнес для самостоятельной деятельности. Это делает принятие решений в данной сфере чрезвычайно ценностно нагруженным процессом: то, как происходит принятие решения о ее развитии, в соответствии с какими критериями происходит выбор альтернатив, во многом раскрывает конкретные целевые и ценностные установки политической системы и ее акторов. Развитие может быть быстрым, но неравномерным, справедливым, но неустойчивым, экономически эффективным, но генерирующим геополитические риски и проч.
Кризисные явления в мире заставляют все чаще задумываться о том, что парадигмы развития должны быть пересмотрены. Процесс их изменения – достаточно долгий и болезненный, он затрагивает множество чрезвычайно глубоких и сложных политических, социальных и культурных факторов, поэтому, как и все основательное, он может быть начат с пересмотра отношения к развитию инфраструктуры. Концептуальные альтернативы уже выдвинуты и предлагают решение актуальных проблем: неравенства, бедности, конфликтов. Пришло время подвергнуть их экспертизе в рамках формирования государственной политики. Россия имеет такую возможность, получив от Китая предложение по сопряжению ЭПШП и ЕАЭС, поэтому от нас сейчас зависит, насколько мы готовы двигаться в предложенной партнером парадигме, в том числе делать встречные системные предложения.