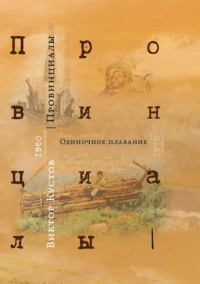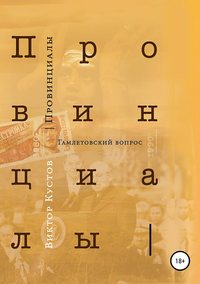Полная версия
Очарование линий

И дай вам бог…
…И вот уже я и не я, а множество в единстве и единство во множестве, и бытие в небытии… А ещё это называется прогулкой по городку, в котором жил-был я и где великаны превратились в карликов… И тесновато мне, и сладостно, и весело, и печально… Я иду, а пыль лениво подымается облачками «до» и «после», нагло напоминая о нашем родстве… Пусть будет так, но… Я был великодушен ТОГДА, пытаясь великодушием заглушить страх от мысли, что ЭТО ВСЁ НЕ ДЛЯ МЕНЯ… Но сейчас я не играю с собой в прятки – я иду мстить. И сделаю это…
В тот день, когда Савелов-младший вернулся из армии, Савелов-старший убил человека.
Точнее, он его не убивал, он шёл на катере, тянул плот, длинную изгибающуюся и подрагивающую ленту, а день был знойный, такой, что песок на косе жёг ступни, и весь городок багровел на этой, сабельного изгиба, раскалённой постели (когда-нибудь такое непременно должно было случиться, но почему именно тогда и именно с Савеловым-старшим, этого никто толком не мог объяснить).
Так вот, в какой-то момент отдыхащий полез с мальчишками на плот, нырнул с него, но то ли был пьян, то ли ничего не разглядел в воде (хотя она была не такая уж мутная, и мы ныряли с открытыми глазами), умудрился попасть под следующую гленю, потыкался (Венька Паньков рассказывал потом, что он даже руку видел, сдирающую кору со связанных брёвен), но, так и не найдя выхода, остался под брёвнами.
Тогда мелюзга посыпала с плота, пошлёпала к берегу, визжа от страха и белея округлившимися глазами, и на косе все замерли в жутком непонимании, а Савелов-старший высунулся из рубки, словно почувствовал что-то (и даже потом, на допросах, всё путался, никак не мог объяснить, почему именно решил пристать к берегу, если ничего не видел), крутанулся обратно, отбросил племянника, белобрысого Саньку, от штурвала и стал чалить плот. Хорошо, что сразу за косой тянулась омутинка и глени не вздыбило на отмели, не поставило на попа. Пришлось бы тогда Савелову-старшему платить из своего кармана за срыв плана идущих следом катеров, за авральную работу бригады разборщиков, и вся сезонная зарплата ушла бы невесть куда, и тётя Зина пилила бы его года два, периодически оповещая улицу о несуразном своём мужике и бабьем горюшке…
Савелов-старший приткнул тогда плот и побежал по нему, проваливаясь между брёвнами, разбив в кровь лицо, и опять же неизвестно почему (как-то нескладно всё получается, сказали на суде, – не видел, не знал, а нашёл сразу), наткнулся на пальцы, вцепившиеся в бревно посреди глени, и, как был в одежде, так и бухнулся в воду. Бабы на берегу завизжали, в испуге позакрывали глаза ладошками, но Са-велов-старший вынырнул с другой стороны. Молча побежал обратно, оскальзываясь и падая на мокрых, вертящихся брёвнах, и, уже недалеко от катера, закричал так, что слышно было на третьей от реки улице: «Верёвку-у-у!» И перепуганный Санька бросил ему какую-то верёвку, но, видно, не ту, потому что Савелов-старший снова закричал страшным голосом: «Убью-ю!», сам взобрался на катер, нашёл нужную ему верёвку и уже по берегу вернулся обратно, на ходу обвязываясь одним концом.
Другой конец он сунул какому-то дядьке, крикнул: «Через минуту тяни!».
И хотя у того не было часов, он вытянул Савелова-старшего вовремя, с закатившимися глазами, цепко обнявшего утопленника. Савелова-старшего положили на песок, и тот мужчина, что тянул за верёвку, стал поднимать и опускать ему руки, а другой, отправив мальчишек за «скорой помощью», стал делать искусственное дыхание утопленнику. Изо рта Савелова-старшего скоро полилась вода, потом он стал кашлять, потом сел и попросил водки.
А утопленник становился всё синее и синее, но его всё качали и качали, пока не приехал врач и не сказал, что это бесполезно.
Тогда Савелов-старший попросил у врача спирта, но у того не оказалось, и он отправил Саньку за самогонкой к бабе Соне:
– Вот и две жизни погибли, – сказал он, выпив принесённый Санькой самогон, и как был, в разодранных брюках и рубахе, в полных воды сапогах, побрёл домой, ещё не зная, что приехал Савелов-младший, отслуживший положенный срок, с двумя лычками на погонах, повзрослевший и радостный.
В тот день, когда всё это случилось, я решил, что жить больше не стоит.
Забравшись в заросли лозы, росшей у самой воды, я обдумывал, как лучше всего, какими словами и когда сказать об этом Гале, чтобы это было красиво, как в книгах, герои которых отличаются благородством и этим завоёвывают женские сердца. Я думал так упорно, что не заметил плот, который протащил мимо Савелов-старший, и поэтому о том, что произошло на косе, узнал гораздо позже, а раньше я увидел Савелова-младшего. Он шёл по берегу от парома с чёрным, в цветных наклейках чемоданчиком в руке, и вся его грудь отсвечивала значками. Они так здорово блестели на солнце, что я подумал: глупо из-за того, что тебя не любят, умирать. Другое дело – стать таким, как Савелов-младший, блестя значками, пройтись под окнами её дома. И она выглянет, не спрячешься от такого блеска. И скажет: «Юрочка, вернулся?» – «Вернулся, – скажу я. – Как ты тут поживаешь, выходи вечерком…» Она смутится и спрячется, но вечером обязательно придёт…
Савелов-младший скрылся за деревьями, не дав мне додумать самое интересное, что должно было произойти там, на лавочке в сирени, которую так любили все парочки. Я поднялся на берег и побежал следом за Савеловым-младшим, вот почему знаю, как он пришёл домой.
Тётя Зина как раз кормила тёмно-зелёной сечкой утят, желтоватых увальней, толкающих в нетерпении друг друга, падающих и смешно перебирающих лапками в воздухе. «Ах вы, проглоты, – приговаривала тетя Зина. – Ах вы, беспутные, ну, куды лезете, давитесь, всем хватит», – и сердито кышкала на заходящих бочком кур.
Савелов-младший открыл калитку, поставил чемоданчик, сбил фуражку на затылок и стал смотреть на тёткину спину, обтянутую застиранным сарафаном в коричневых подтёках, хотя когда-то сарафан был в ярко-красных цветах и тётя Зина ходила в нём в город.
– Басурманы, ну чистые басурманы, – сказала она и повернулась, чтобы отнести корытце, в котором приносила сечку.
Увидела Савелова-младшего, оторопело постояла, не узнавая и не понимая, что надо этому солдату в её подворье, а потом ахнула так, как это делала покойная Савелиха, сморщилась и одной рукой всплеснула, а другой всё так же держала корытце.
– Неужто Павел?
Савелов-младший, распахнув руки, как это делают в кино, обхватил тётю Зину за плечи, пару раз тряхнул:
– Я, тёть Зин, я…
И тут тётя Зина расплакалась, засморкалась, поставив корытце, пошла в хату, а Савелов-младший присел на корточки, стал подманивать утят, но они не шли на его вкрадчивое «ути-ути-ути», и он поймал одного, суматошно дёргающего слабыми зародышами крыльев, и сел на крыльцо, держа его в руке.
Вышла тётя Зина, уже в другом, новом сарафане, с сумкой в руках. Постояла, глядя на Савелова-младшего, окрепшего, раздавшегося в плечах.
– Утёнок-то сдохнет, – сказала она, – ты его уж не чапай, замухрышку.
Савелов-младший выпустил утёнка, торопливо заковылявшего к топчущимся на сечке собратьям, блеснул крупными зубами, проронил:
– А говорят, всё течет, всё меняется…
– Чегой-то?
Тётя Зина остановилась у калитки, оглянулась, пытаясь скрыть досаду от того, что нужно бросать хозяйство, куда-то идти, принимать гостей, тратиться, но вспомнила своего сына, погибшего в автомобильной аварии перед самым восемнадцатилетием (был бы он уже таким, как Павел), прослезилась и, словно смыв слезой недовольство и заботы, пошла по улице улыбаясь, приглашая соседей вечерком на застолье: «Младшенький-то наш вернулся, весь бравый такой, в орденах…»
Савелов-младший расстегнул мундир, положил на перила крыльца фуражку, скинул блестящие сапоги, посидел, шевеля пальцами ног и улыбаясь, потом поднялся, в сенях выпил кваску, крякнул и вошёл в хату.
Савелов-старший шёл по улице и пел о далёких краях, о морозах, о загубленной с детства судьбе, останавливаясь подле соседок, судачащих на лавочках, низко раскланиваясь, так, что белый чуб касался дорожной пыли, и приглашал всех в гости, потому что теперь он, Савелов-старший, своё отжил и место ему в Сибири, потому что… И всхлипывал, не закончив фразы. А Санька плёлся следом и ныл: «Дяденька, дяденька…»
«Отгуляли па-аследни-ий денё-очек…» – тянул Савелов-старший и, не обращая внимания на цепляющегося Саньку, загребая сапогами пыль, медленно брёл к дому, впервые за двадцать с лишком прожитых с тётей Зиной лет не таясь, не скрывая хмель, не чувствуя за собой никакой вины.
Санька отстал, зыркнул сухими глазами, потоптался, забирая вправо, в тень проулочка, уже тихо радуясь освобождению от чужого, непонятного ему горя, и наконец припустил со всех ног, разгоняя кудахтающих кур.
Перед домом Савелов-старший приосанился, стараясь держаться прямо и даже печатать шаг, громко, без стеснения и слёз, затянул, как тянул за застольем:
– Широка страна моя родна-ая, много в ней лесов, полей и ре-ек, я дру-у-угой тако-о-ой страны не знаю…
Тут он ударил сапогом в калитку и петь перестал, построжел лицом и, как подобает хозяину, забыв в эту минуту, что произошло, зычно прокричал:
– Женщина! Жена!
Калитка распахнулась.
Савелов-старший, помедлив, переступил порог и увидел Савелова-младшего, босого, в белоснежной нательной рубахе, в солдатских брюках.
– Брательник! Павлуха!..
Савелов-старший качнулся, упал в крепкие объятия Савелова-младшего и вдруг захлюпал носом, не сдерживая больше скупых слез.
…Чего, собственно, я боюсь, уподобляясь юнцам или глупцам, не постигшим одного-единственного источника страха, – страха не добраться до собственной души, страха всю жизнь быть исполнителем навязанных тебе ролей и не пережить ни одну как следует, забыв, что всё подвластно только душе или тому, что называют воображением, чувствами, мыслью, подсознанием, химерой, мистикой, бредом… и куда мы отправляемся без пособий и справочников и только в одиночестве. Я могу рассказать всё последовательно, разматывая клубок воспоминаний. И где нить порвана, мне ничего не стоит связать её своим узлом, и все будут думать, что тут нет узла.
Савелов-средний считался никчемным мужиком, попавшим под каблук жены и без стыда и совести забывшим свою родню. Но он всё-таки пришёл на этот полурадостный-полугорький вечер – то ли встречу, то ли проводы– и Савелов-старший, чинно, в белой рубахе и синих парадных брюках сидящий за столом, не поддевал его как обычно, доводя до истерики жену Савелова-среднего, крупную, дебелую тётю Мотю, а Савелов-младший, уже отжалевший Савелова-старшего, весь в светлых планах на будущее, тянулся к крепкому брату, восторгаясь его основательностью, спокойствием и ровным течением жизни, думая и свою жизнь строить так же прочно и неспешно. Ещё не сознаваясь себе, он уже презирал всех неудачников, безжалостно относя к их числу и Савелова-старшего.
С Савелова-старшего уже взяли подписку о невыезде. Участковый Прохорюк сидел тут же, за столом, обмахивался поданным ему персональным полотенцем, похрустывал огурцами, причмокивал, багровел шеей с упруго ходящим под пуговицей форменной рубашки кадыком и, повторяя после каждой рюмки: «Ничо, ничо, сосед, всяко быват, бы-ват…», снова хрустел, тянулся к тарелкам, подмигивал тёте Моте, и та фыркала. А Савелов-средний молчал, словно не ловил жену и Прохорюка на задворках своего огорода в непотребном виде… Тётя Зина суетилась, подавая закуски, меняя бутылки с самогоном, шепча тёте Моте в ухо, прикрытое кудряшками: «Ты уж поговори, выручи», и та недовольно кивала, снисходительно поглядывая сразу на всех троих: Савелова-старшего, мужа и Прохорюка. «Век не забуду», – шептала тётя Зина и садилась рядышком с мужем, прижималась к нему, еле сдерживая слёзы, подкладывала на тарелку всё новые и новые закуски, хотела даже покормить Савелова-старшего сама, как кормила с ложечки телят и другую беззащитную животину, но вовремя спохватилась и всё повторяла невпопад: «Кушайте, кушайте, гости дорогие…»
– Ты, это, Миша, не скорби, – сказал Савелов-средний. – Чего ж, не поможем, что ли?.. Поможем. Пару посылок зимой мы тебе с Мотей соберём. Сальца там с кабанчика, картохи…
– А и можно, – поддакнула тётя Мотя. – Родня ж…
– Ну, нашли тему. – Савелов-младший разлил самогон, стукнул своей рюмкой рюмку Савелова-среднего. – Не на похоронах же, братки…
– И то правда, – закивал Прохорюк. – Закон – он справедлив, зазря не накажет… Ну, Павел-вояка, а?.. Слышь-ка, а то иди к нам, я с майором поговорю…
– Подумаю, – заулыбался Савелов-младший. – Отосплюсь недельку, а там видать будет.
Стукнула калитка, чуть слышно, тайно, словно тот, кто входил, не хотел, чтобы его видели. И никто не услышал её стука, кроме меня, потому что я остался на улице с той стороны, а Галя вошла во двор, поднялась на крыльцо, сказала: «Здрасьте», – и за столом оживились, задвигали табуреты. – «Пап, мамка тебя искала, ты чегой-то рассиделся».
– О, дочка моя, – сказал Прохорюк. – Скажи, приду. Вот по-суседски встречу вояку и приду.
Она ещё спускалась по крылечку, осторожно примеряясь к ступенькам, ночь со света казалась непроглядной, когда вслед донёсся вопрос Савелова-младшего и громкий голос Прохорюка:
– Эт точно, красавица… Вот тебе и невеста, а? По-суседски…
И опять тихий голос Савелова-младшего и громкий – Прохорюка.
– Есть один, да женилка у него не выросла.
Савелов-младший засмеялся, зашлась толстая тётя Мотя и Савелов-средний сдержанно захихикал. Галя уже открывала калитку, она всё слышала, потому что и я всё слышал, ожидая её. Она уже была рядом, но я рванулся от неё, побежал по улице, сжимая кулаки и ненавидя всех на свете…
Кажется, она звала меня. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы она кричала, бежала следом, как поступает любящий и понимающий твою боль человек, но я даже не приостановился, слёзы обиды, бессилия душили меня. Я уже не смог бы смотреть на неё так, как смотрел прежде. А она бы уже не просила: «Посмотри на меня ещё… У тебя удивительные глаза…»
Всё кончилось.
Блаженство ночных иллюзий, трепет встреч, вспышки молчаливой ревности, когда на школьных переменках она улыбалась Веньке Панькову или длинному Володьке Селезню… Моя любовь должна была теперь только тенью витать возле неё, ожидая волшебных слов, способных забвением покрыть происшедшее.
Я ещё не знал, что кое к чему в жизни нет возврата.
Я ещё многого не знал в тот тихий летний вечер, когда бежал по тёмным улицам к реке, а потом, на ходу сбросив рубашку, штаны, сбивая ноги о скользкие валуны, с размаху влетел в парную воду. Ненавидя и презирая себя, поплыл к другому невидимому берегу, но так и не доплыв, лёг на спину, и долго несла меня река, что-то нашёптывая и остужая. И, не особенно вдаваясь в этот шёпот, я незаметно пропитывался им, смутно догадываясь о великой силе движения, любого движения, будь то струи ленивой речки или мгновения суматошно летящего времени…
И всё-таки, это не было концом моей первой и, как водится, неразделённой любви.
Галя нашла меня на следующий день. Она была печально-красива. Она словно повзрослела за эту ночь и утро, пока мы не виделись, и я чувствовал ещё большую робость, когда смотрел на её волнистые, собранные в узел волосы, обгоревшее на солнце лицо, на смуглые плечи под тонкими тесёмками сарафана.
Я стоял, насупясь и ковыряя носком сандалии подвернувшийся камень, и она попросила:
– Пойдём, пройдёмся…
Мы пошли к берегу. Пошли так, как ходят влюблённые и как мы никогда ещё не ходили: я – засунув руки глубоко в карманы и пытаясь насвистывать нечто модное, услышанное мной от взрослых парней, она – размахивая веточкой, сломанной с куста сирени, росшей перед нашим домом. Сирень эту я посадил, когда пошёл в первый класс. Я и отец. Мы вместе опускали тогда в ямку маленький прутик, и мне совсем не верилось, что пройдёт время, и этот прутик станет пышным кустом, унизанным гроздьями белых, оглушительно-душистых цветов. «Будет, – сказал тогда отец. – Как и ты когда-то будешь совсем большим, а я старым… Ничто, сынок, не стоит на месте». И вот теперь Галя держала в своей руке веточку с выросшего куста…
– Знаешь, Юрка, мы, наверное, уйдём от отца, – произнесла она усталым голосом, каким порой говорила по утрам мать с отцом, если он накануне приходил домой пьяным.
Мучительно придумывая, что сказать, я промямлил нечто невнятное. Она вскинула глаза, сиреневая веточка на мгновение замерла в воздухе, всего на мгновение, и вновь опустилась на ладошку.
– Знаешь, как мама с ним уста-а-ла, – протянула Галя и вдруг спросила: – Почему ты вчера убежал?
Почему?
Словно она не понимала почему!
Нестерпимый жар обжёг моё лицо, я боялся, что Галя увидит это, и почти побежал вперёд…
Мы сели на скамеечку недалеко от дома Паньковых. Вернее, села она, а я стоял рядом, разглядывая огоньки бакенов и фонарь на пароме, с которого доносился гомон человеческих голосов. Сквозь этот гомон прорывался хрипловатый и хмельной, что было заметно даже на расстоянии, голос паромщика Кирюши.
– Па-а-стар-нись! – кричал, смешно прыгая на своём деревянном костыле, Кирюша. – Куды, куды едешь, лопух твою зеленя, глаза разуй… А ну, давай, давай!..
Потом паром отчаливал, Кирюша, приставив мужиков тянуть трос деревянными, со специальными прорезями, колотушками, нырял в деревянную будку, пристроенную на корме, отпивал глоток из бутылки дешёвого плодово-ягодного вина, сворачивал самокрутку, и над рекой вновь летел его зычный голос:
– Па-а-стар-нись, тетеря, едят тя мухи!..
– Ты бы сел, Юр?.. А то как-то неприлично, я сижу, ты – стоишь…
Я сел на другой краешек скамейки, и Галя, вздохнув, спросила:
– Может, тебе домой надо?
– Отчего же, – охрипшим голосом произнёс я.
– Ну как, может, родители волнуются, поздно уже.
– Мои?.. Это твои всегда волнуются…
– Да…
Галя придвинулась ко мне, теперь я чувствовал тепло её тела.
– Глупенький ты какой, Юрка. Глупенький и… хороший…
Она положила ладонь на мою руку, вцепившуюся в край скамейки, и я почувствовал, как сердце забилось в груди, как оно оторвалось и уплыло в эту ночь, в этот наполненный счастьем воздух, как вобрало оно в себя Галю и теперь светилось счастьем.
…Всё прекрасное бывает в нашем мире кратким, всегда только мигом, но память о нём длится годами, порой всю жизнь, и надо уметь продлевать эти мгновения, растягивать их, может быть, в ущерб плотности, в ущерб силе. Именно от этого желания обмануться по доброй воле я стал любить более мир собственных фантазий, чем собственно мир. И, всё более увлекаясь этой игрой, не заметил, как она стала сутью моего существования. Такое постижение счастья казалось столь лёгким, что вскоре появилась сначала робкая, а потом всё более назойливая мысль, – я должен поделиться обретённым. И в этом понимании тоже было короткое счастье. Короткое, потому что оказалось: МОЁ – это не обязательно каждого. И это МОЁ должно было вобрать всех, кто встречался на моём пути, а это было трудно, мучительно… Как мучительна эта прогулка по улице моего детства, куда уже давно нет мне возврата и куда я тащу груз прожитых лет, хотя убеждаю себя, что возвращаюсь тем, прежним…
Не помогли ни тётя Мотя, ни Прохорюк, ни слёзные мольбы тёти Зины на суде. Все считали, что осудили Савелова-старшего неправильно, хотя ему дали всего два года – за то, что, проходя по реке через город, не отправил никого на плот отгонять мальчишек и взрослых, не принял необходимых мер и тем самым стал «косвенным соучастником случившегося». Из тесного и тёмного здания суда его, стриженного под нулёвку, отчего его большие красные уши казались приклеенными, увели два строгих милиционера. Тётя Зина плакала, прижимая к глазам концы косынки, хлопотала рядом тётя Мотя, и Прохорюк, в гражданском строгом костюме, успокаивал:
– Два года – это тьфу, эт ты и не заметишь… А он ничо, закон – это закон, ежели ко всем одним боком, то ко всем…
Тётя Мотя гладила тётю Зину по плечу, недовольно покрикивала на подходивших соседок, и Савелов-средний переминался тут же, не было только Савелова-младшего. А Савелов-старший о нём помнил, и, когда ему дали последнее слово, оглядел зал, поклонился:
– Прощевайте, люди добрые… Не поминайте лихом. А Павка пусть дом доглядает, родительский…
И сел.
– Ох, горюшко ты горькое! Ой, куды ж мово касатика увозю-ють! – в голос завыла тётя Зина, и строгий судья попросил её помолчать, а так как молчать она не могла, тётя Мотя вывела её из зала, и, когда зачитывали приговор, её причитания доносились сквозь закрытую дверь.
…Савелов-младший появился, когда машина увозила Савелова-старшего. Он огорчённо покачал головой, снял фуражку, потом опять надел и пристроился к Савелову-среднему, стал расспрашивать, какие заработки в леспромхозе и можно ли там лесом разжиться, чтоб дом построить. И Савелов-средний пообещал поговорить с начальством, добавив, что к нему, бригадиру Савелову, начальство очень даже прислушивается, и быть его брательнику на самом лучшем месте, какое не всякому-то и приснится.
– Вот це добре, братуха, – сказал Савелов-младший. – По-нашему, по-родственному.
И, отстав от толпы, провожающей скулящую, словно на похоронах, тётю Зину, свернул в проулок, поднимая сапогами пыль и разгоняя кур, пошёл так, как ходят по плацу – легко и красиво впечатывая шаг.
Если б я знал тогда, куда он идёт…
Такого вечера больше не было в моей жизни никогда. Поэтому нет ему равных, нет на него похожих, а оттого остался он в памяти навсегда…
Это был вечер-прощание.
И даже если бы я знал, что Савелов-младший шёл на свидание с Галей и что с того августовского дня начнётся отсчёт моей неразделённой любви, я ничего бы не сделал. Не смог бы. Не решился. Я ещё не был мужчиной и должен был пройти через муки своей ненужности тому человеку, который тебе необходим более всего.
Я уезжал в эту осень в чужой и далёкий город, где меня ждали новые друзья, новые развлечения, новая студенческая жизнь, ждал техникум и раннее взросление. Я ещё грезил о своём победном возвращении, но даже в грёзах не мог представить, каким я стану через три года, когда приеду в этот городишко в новом костюме с привинченным техникумовском значком, с подарками, среди которых будет и подарок для Галины: томик стихов печального и понятного мне поэта из романтической Испании – Федерико Гарсиа Лорки…
Я узнал о том, что Галя встречается с Савеловым-младшим, в последний вечер, когда чемодан стоял уже наготове возле моей кровати. Мать, устало присев за стол, вдруг достала альбом с фотографиями, стала разглядывать мутноватые любительские снимки, на которых отразилось всё, что было вокруг: и жующие коровы, и худые ребячьи спины, и двор со снующими цыплятами, и чинно сидящие на скамейке у дома бабушка, отец и мама, вместе и порознь, со мной, и я, и праздничное застолье, в котором лица были совсем размыты, но мать почему-то не выбрасывала эту фотографию. Она разглядывала альбом, ждала отца, изредка поглядывая на часы и вздыхая, а я выскочил из дома, полетел по улице, хотя знал, что бегать мне было уже несолидно, зажимая в кулаке рубль, изъятый из запасов, которые мне дали на дорогу и на первые дни новой жизни.
У входа в городской сад, откуда уже гремела музыка, меня ждали Венька Паньков и Санька Савелов, сын Савелова-среднего. Я разжал кулак, Венька сграбастал рубль и медяки (как раз на бутылку «мурцовки»), сорвался и исчез в тёмной аллее, в конце которой стоял ларёк. Из него равнодушно, словно сова, взирала на подвыпивших пацанов толстая тётка. Потом мы пили кислое, противное вино, и Венька заплетающимся языком сказал, что видел Галку с хахалем, что надо бы его побить, несмотря на то, что он Санькин родственник. Санька захлюпал носом, сказал, что родню бить он не станет, но защищать тоже, и мы пошли к танцплощадке: впереди Венька, за ним я и, поотстав, Санька.
Мы шли, наваливаясь друг на друга, по-мужицки сплёвывая и ругаясь так, как ругался паромщик Кирюша, занозисто и с выражением, наконец остановились у ограды танцплощадки, и Венька стал показывать пальцем на Савелова-младшего, выделявшегося своей армейской формой, а я смотрел на Галю и никого больше не видел. Она улыбалась, положив руки на плечи Савелова-младшего, а тот кружил её, и она была счастлива. Я не хотел в это верить. Но она смеялась, сплетая кольцо рук на его шее и не видя меня… «Не надо», – сказал я Веньке и, пошатываясь, побежал через кусты в спасительную черноту ночи, слыша позади презрительное «трус». Потом всё – и Венькин голос, и музыка, и шорох листьев – всё пропало, остался только Галин смех, от которого я становился иным, взрослым…
…Мне кажется, всё было игрой… Хотя играл ли я?.. Может быть, познавал трагическое, что в юности так притягательно, когда смерть так далека и кажется нереальной, и её тайна манит нас, по глупости мы запросто можем шутить с нею… Мне сейчас трудно разобраться, почему так происходит, но что было, то было, я постигал вкус жизни через её бренность… Это было так похоже на открытие, и я радовался, пока не понял, что это открытие сделано во времена Адама. Всё-таки, это была не жизнь, в ней слишком коротки и неощутимы мгновения счастья… А есть ли оно?.. Узнаю ли…