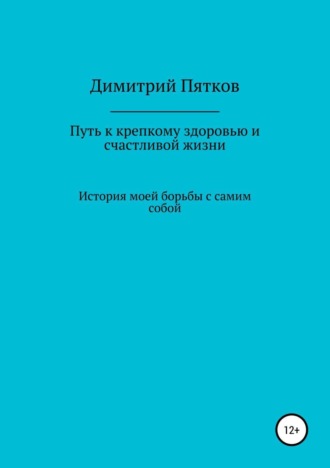 полная версия
полная версияПуть к крепкому здоровью и счастливой жизни
В тринадцать лет Виктору впервые пришлось пережить жгучую боль потери. Во время одной из вылазок ребята напоролись на охрану. Немцы открыли по подросткам стрельбу. Сережа и Коляня погибли. Витя спасся чудом. Он лежал в луже крови рядом со своими друзьями. Фашисты, посчитав и его убитым, не стали добивать, а местным жителям приказали– убрать трупы.
Пробравшись в отряд и доложив о случившемся командиру, подросток ушел к себе в землянку и почти неделю просидел один в темном жилище. Никакие утешения взрослых на него не действовали. Только после разговора с командиром он вышел из добровольного заключения.
С того дня Виктор Черных воевал за троих, он свято верил, что убить его невозможно, троих сразу не убивают. Вскоре наши войска освободили Елец. Радостные, веселые, счастливые, вбежали братья Черных в родной дом, бросились кмаме и Шуре с объятиями и поцелуями. Прошли минуты радости от возвращения в родной дом, и братья поняли – в се– мье несчастье. На вопрос Петра, что случилось, мать показала сыновьям серый листок бумаги. Это была похоронка.
– Надя умерла в госпитале от ран, – сказала и разрыдалась.
На другой день Петр ушел в военкомат. Ему не было и семнадцати лет.
Петр ушел на фронт добровольцем. Чуть более полугода спустя он погиб смертью храбрых.
Вскоре Виктора зачислили в тридцать пятый отдельный минометный полк двести сорок пятой гвардейской дивизии. Он был корректировщиком в полку наших знаменитых
«катюш». Место службы – тыл врага. Виктор надевал на себя тряпье, пробирался через линию фронта и бродил в расположении вражеских войск с холщовой сумкой через плечо, выпрашивая у немцев подаяние. Иногда ему что-либо перепадало от солдат, но чаще всего слышал отказы, порой получал подзатыльники и пинки – всякие немцы попадались. Ради получения нужной информации мальчишка готов был стерпеть все. Выполнив задание, Виктор возвращался в часть, где его с нетерпением ждали.
Постепенно Виктор свыкся со своим положением профессионального попрошайки и мог проникать даже в секретные расположения. Правда, там постовые не церемонились. Чуть зазевался – получай прикладом по спине или пинок под зад. Задания Черных выполнял отменно. За год службы получил медали «За боевые заслуги», «За отвагу» и орден Красной Звезды. «Звездочкой» подростка наградили за операцию, проведенную под городом Мценском. На этом участке фронта установилось затишье. Однако любые передвижения в расположении наших частей подвергались массированному, целенаправленному обстрелу. Командованию дивизии стало ясно – где-то неподалеку обосновался корректировщик. Необходимо его выявить и обезвредить, иначе потери в живой силе и технике будут расти.
Минометный дивизион, в котором служил Черных, неделю назад обзавелся козой, ее нарекли Зинкой. Добывать корм животному поручили сыну полка Виктору. Коза сразу привязалась к своему покровителю.
Получив приказ уничтожить корректировщика, командир дивизиона вызвал к себе Черных.
– Витя, где-то на нейтральной полосе окопался корректировщик, а может, и не один. Иначе немец не лупил бы так прицельно по всем нашим передвижениям. Твоя задача – выявить этот клоповник, наша – уничтожить его. Одевайся в свое тряпье, бери Зинулю и поброди денек-другой по нейтралке.
Стояли солнечные августовские дни. Вторые сутки юный разведчик вместе с Зинкой бродил по лесу. Однажды из густого куста боярышника перед разведчиком вынырнула крупная фигура немецкого солдата, за ним другая, третья. Последний вскинул автомат. Расстояние между ними было метров 12. Витька оторопел от неожиданности. Никого он не боялся, а здесь испугался до дрожи в коленях. На него почти в упор глазел черный зрачок ствола. Гнездо корректировщиков – сразу определил подросток. И тут коза, словно почувствовав, что над ее хозяином нависла смертельная опасность, бросилась на людей, которые появились на их пути, и приняла удар на себя. Немец, вскинувший автомат, растерялся и с испугу выпустил очередь в бежавшее на него животное. Виктор молниеносно юркнул в кусты и пулей полетел в сторону от опасности. По нему палили из трех автоматов, но подросток все бежал и бежал. Одна пуля настигла его, правда, все обошлось удачно. Пуля попала во фляжку с водой и только задела тело. Боли Виктор почти не чувствовал, но кровотечение оказалось обильным. О перевязке раны разведчик и не помышлял. Надо было как можно быстрее прибыть в расположение части и сообщить о месте нахождения вражеских корректировщиков.
До своих окопов подросток не дотянул метров 300 – от потери крови он потерял сознание. К счастью, разведчик упал в ложбинку и оказался недосягаемым даже для снайперов. Виктора узнали, и командир полка отдал приказ открыть по позициям врага массированный огонь, а мальчика доставить в часть. Черных спасли. Он показал на карте квадраты, где окопались немецкие корректировщики, и сразу же был отправлен в лазарет. После излечения Виктору был вручен орден Красной Звезды.
Вторым орденом Черных был награжден за участие в боях на Украине.
Он был отправлен на выполнение очередного задания. Пробравшись в тыл врага, и
разведав расположение немецких частей, Виктор сообщил по рации обо всем своим, но уйти из опасной зоны не успел и попал под огонь «катюш».
… Все вокруг гудело, звенело, горело, сотрясалось. Черные столбы земли заслоняли небо и солнце. Зрелище было жуткое. Казалось, вот-вот шар земной сдвинется со своей оси и все живое улетит в бездну.
Как все произошло, Виктор не помнит. Сильно контуженный, он двое суток пролежал без сознания, заваленный землей. Его нашли случайно. Группа солдат присела отдохнуть у бугорка, спасаясь от ветра, а разведчик в это время силился выбраться из-под завала. Кто-то из бойцов обратил внимание на колебания бугорка. Разгребли – засыпанным оказался мальчишка в ветхой одежонке. Не мешкая, его отправили в госпиталь. Контузия оказалась очень тяжелой. Виктор потерял слух, зрение, речь. Месяц он пребывал в немоте, темноте и тишине. Работало лишь сознание, да память воскрешала к жизни события прошлых лет.
А в полку решили, что он погиб под огнем своих батарей. Такая судьба – не редкость среди корректировщиков. И потому месяц спустя юного разведчика представили к очередной награде – ордену Отечественной войны 11 степени (посмертно) и на родину отправили похоронку. Мать, получив извещение о гибели Виктора, на мгновение лишилась сознания. Она уже не плакала, не рыдала.
Через полтора месяца к Виктору вернулось зрение, а день спустя – слух. Это была радость, не поддающаяся описанию, радость второго рождения. Счастье переполняло душу, он даже лишился сна, неделю не мог заснуть. Плохо было только с речью. Подросток очень сильно заикался, почти не мог говорить. Тогда врач, наблюдавший его, посоветовал:
– А ты, сынок, пой, старайся больше петь, и речь обязательно восстановится.
Виктор так и поступил – пел по любому поводу. Выздоравливающие его прозвали артистом.
– А ну, Витюша, расскажи поподробней о своем состоянии здоровья,– шутили однопалатники.
– Здо-ро-вье о-тли-чное,– пел разведчик. И речь восстановилась.
После долгого лечения о возвращении в полк нечего было и думать.
Когда через три месяца после похоронки мать получила письмо, написанное рукой сына, она вновь на мгновение лишилась чувств, но теперь уже от счастья. А месяц спустя Виктор возвратился домой.
Вскоре в Ельце начали формировать суворовское училище из числа ребят, побывавших на фронте и оставшихся сиротами. Черных вызвали в военкомат и выдали направление на учебу. Вскоре суворовское училище из Ельца было переведено в Свердловск. Так Черных оказался на Урале.
Контузия долго мучила Виктора. Головные боли доводили его до сумасшествия. Однажды он хотел выброситься из окна четвертого этажа. Его удержали товарищи. Не зная, как избавиться от страшных болей, юноша решил заняться спортом, да еще каким видом – боксом.
В те времена без справки врача в спортивные секции не принимали.
Виктор вынужден был прийти в медсанчасть училища за справкой о состоянии здоровья.
– В секцию бокса? Ты с ума сошел, Виктор. С твоей контузией да на ринг. Нет, нет и еще раз нет,– воскликнул доктор. – Смертный приговор я тебе выносить не буду.
– Справку можете не выдавать, но боксом я все равно заниматься буду,– буркнул юноша и, хлопнув дверью, вышел из медкабинета.
Виктор пришел в секцию бокса раз, другой, третий, четвертый. Команду боксеров Спортивного клуба Армии в 1947 году тренировал К. Айвазов. Ему надоело выпроваживать
из зала упрямого парня, и Константин Агафьевич сдался.
– Становись в строй.
Виктор занимался самозабвенно, и Айвазов понял, что ринг – его стихия. Парень был ловок, подвижен, вынослив и обладал взрывными – мышцами, что для боксера – главнейшее качество. Черных особенно удавался удар прямой правой в подбородок. Бил он хлестко, мощно, неожиданно. Около двухсот боев провел на ринге Виктор, свыше ста пятидесяти выиграл.
САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ – БОКС ПОМОГ ВИКТОРУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНТУЗИИ. ЧЕРЕЗ ГОД ЗАНЯТИЙ НА РИНГЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ КАК РУКОЙ СНЯЛО. ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ В ЗАПАС ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ РАБОТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, СТАРШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. СЕЙЧАС ВЕТЕРАН ВОЙНЫ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ.
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ
ГЕННАДИЯ ПОПОВА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗНАЛ ВЕСЬ СВЕРДЛОВСК.
ОТ УРАЛЬСКИХ ГОР ДО САМОГО ТИХОГО ОКЕАНА НИКТО НЕ МОГ СОСТАВИТЬ ЕМУ ДОСТОЙНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ПЛАВАНИИ. НА ПЕРВОЙ УРАЛОКУЗБАССКОЙ СПАРТАКИАДЕ (БЫЛ ТАКОЙ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ ПОПУЛЯРНЫЙ У МОЛОДЕЖИ ТУРНИР), СОСТОЯВШЕЙСЯ В СВЕРДЛОВСКЕ ЛЕТОМ 1932 ГОДА, ПОПОВ ВЫИГРАЛ ЗАПЛЫВЫ НА 50, 100, 200 И 400 МЕТРОВ. ВЕСЬ ГОРОД ХОДИЛ ТОГДА НА ПОПОВА. БЛАГО, МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ БЫЛ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ ЦЕНТРЕ СВЕРДЛОВСКА ПРУД. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ВИДЕЛИ ЕГО СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ФИНИШНЫЙ СПУРТ, КОГДА ГЕННАДИЙ ВДРУГ ПРИБАВЛЯЛ НЕОЖИДАННО ДЛЯ СОПЕРНИКОВ СКОРОСТЬ И, СТРЕМИТЕЛЬНО УХОДЯ ВПЕРЕД, К НЕОПИСУЕМОЙ РАДОСТИ БОЛЕЛЬШИКОВ, ПЕРВЫМ КАСАЛСЯ БОРТИКА.
ПОПОВ ПОБЕЖДАЛ ВО ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПЛОВЦОВ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ НА УРАЛЕ. ДОЛГИЕ ГОДЫ БЫЛ РЕКОРДСМЕНОМ УРАЛО-КУЗБАССКОГО РЕГИОНА. А ВЫСШЕЕ ЕГО ДОСТИЖЕНИЕ – «СЕРЕБРЯНЫЙ" ЗНАЧОК ЧЕМПИОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА «ДИНАМО", ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ РУК ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ – МАРШАЛА С. М. БУДЕННОГО.
ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОПОВА БЕЗ ВСЯКИХ НАТЯЖЕК МОЖНО НАЗВАТЬ ЩАДЯЩИМ. 30-35 КИЛОМЕТРОВ ЗА СЕЗОН – ЭТО БЫЛА НАГРУЗКА ЛУЧШИХ ПЛОВЦОВ УРАЛА. СЕГОДНЯ ЭТО ДВУХДНЕВНАЯ НОРМА РЯДОВОГО МАСТЕРА. А ЗНАМЕНИТЫЙ ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СВОЕЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ ПРОПЛЫВАЕТ ЭТО РАССТОЯНИЕ ЕЖЕДНЕВНО. ОДНАКО НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ТОГДА НЕ БЫЛО КРЫТЫХ БАССЕЙНОВ, А ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В СУРОВОМ УРАЛЬСКОМ КРАЮ ДЛИЛСЯ ВСЕГО ТРИЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА.
ПОПОВ СЕРЬЕЗНО УВЛЕКАЛСЯ МНОГИМИ ВИДАМИ СПОРТА: БОРЬБОЙ, БОКСОМ, ГРЕБЛЕЙ, ФУТБОЛОМ, ЛЫЖАМИ, ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ, ХОККЕЕМ С МЯЧОМ, СТРЕЛЬБОЙ. ТЕЛО ЕГО, ПРИВЫКШЕЕ К НАГРУЗКАМ, НЕ ЗНАЛО УСТАЛОСТИ, ТРЕНИРОВАННЫЕ МЫШЦЫ СПОСОБНЫ БЫЛИ НА ЛЮБОЕ СВЕРХНАПРЯЖЕНИЕ. ПОТОМУ ОН И ПОБЕЖДАЛ ВО ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПЛОВЦОВ. ПОПОВ УЖЕ ПРИБЛИЖАЛСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕСОЮЗНОГО РЕКОРДА И ДОСТИГ БЫ ЕГО, ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА …
Начав рядовым, к марту 1945 года Геннадий был в звании капитана, имел орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды и Отечественной войны 11 степени. Дойти ему живым и невредимым до Дня Победы оставалось совсем немного, каких-то два месяца, да случилась беда.
Их первый батальон семидесятой ордена Боевого Красного Знамени Петсамской бригады должен был форсированным маршем подойти к польско-немецкой границе.
Заместитель командира батальона капитан Попов с группой солдат на танкетке, далеко оторвавшись от основных сил, спешил в город Моравска-Острава. Стояло ясное утро. Лишь высоко по голубому своду неба плыли нежно-белые островки облаков. За танкеткой в дьявольской пляске клубилась грязно-серая пыль. Справа тянулся кустистый берег мутной речушки без названия. До границы оставалось всего лишь несколько километров, когда раздался оглушительный взрыв. Бронированная машина факелом вспыхнула от прямого попадания снаряда. Мощной взрывной волной бойцов разбросало в разные стороны.
Через неделю в Свердловск на имя Марии Васильевны Поповой пришел конверт с печальным известием: " … пал смертью героя близ города Моравска-Острава за свободу и независимость нашей Родины».
Но Геннадий не погиб. Отброшенный метров на тридцать взрывной волной, он упал на мерзлую землю и даже, как ему показалось, не ушибся. Осмотрелся. Позвал товарищей, но никто не отозвался, и он понял, что остался один. Хотел было встать, как вдруг почувствовал острую боль в правой ноге и тотчас потерял сознание. Очнувшись, увидел, что ступни нет.
– Я тогда еще не осознал, что калека,– рассказывал Геннадий Вячеславович. – Была какая-то деловая озабоченность, как и что делать в первую очередь: остановить кровотечение, сделать перевязку, подать о себе какой-то сигнал, вызвать помощь, осмотреть место происшествия, быть может, еще кто-нибудь ранен … Я сделал жгут, перетянул ногу и опять потерял сознание.
Он очнулся от острого чувства жажды и холода. Вспомнил, что метрах в трехстах есть речушка. Но как добраться до нее, если сил нет, а каждое движение вызывает нестерпимую боль во всем теле. А сил действительно не было: ни терпеть, ни двигаться, ни страдать. Но была воля, была ярость, было желание жить. И он, сцепив зубы, чтобы не кричать от боли, пополз кручью. Через несколько часов капитан, наконец, прикоснулся сухими, потрескавшимися губами к живительной влаге. Бесконечно долго лежал он на холодной земле. Терял сознание, приходил в себя, снова погружался в небытие. Лишь вода тихой мутной речушки поддерживала в его теле жизнь.
Наши войска уже сражались на территории Германии. Надежд, что его обнаружат вдали от наезженных трасс, становилось все меньше. По чистой случайности Попова нашли два догонявших свою часть солдата. Они свернули к речушке за водой, Увидев капитана, не подававшего признаков жизни, решили по русскому обычаю схоронить. Пока обсуждали, как лучше это сделать, Попов пришел в себя и закричал:
– Да живой я, ребятки!
Но ему только казалось, что он кричит. На самом деле лишь беззвучно шевелил губами.
Солдаты, не слыша его голоса, принялись за дело.
Собрав последние силы, Попов застонал, чтобы дать им понять, что, жив. Застонал и потерял сознание. Это были восьмые сутки после ранения.
Отлежав в госпиталях Варшавы, Праги, Дрездена, Омска, Геннадий Вячеславович Попов с ампутированной выше колена ногой вернулся в Свердловск. Можно представить, с каким чувством ходил он, постукивая костылями, по городу, где еще совсем недавно аплодисментами шумела его спортивная слава. А теперь? У городского пруда ему было особенно трудно, казалось, жизнь кончена. Одинок, несчастен, к тому же инвалид. Что делать? И Попов обмяк, сдался, стал все чаще наведываться в винный ларек. Так бы и закончил, наверное, фронтовик свое существование, не услышь он однажды оскорбительные слова, брошенные случайным прохожим. Прямо в глаза. Они-то и вернули его к жизни, заставили очнуться, посмотреть на себя со стороны. Он – никчемный человек? Ну нет!
И вот однажды теплым июльским вечером 1946 года в зал тяжелой атлетики спортивного павильона свердловского "Динамо» зашел на костылях невысокий, широкогрудый человек с сумкой за плечами. Штангисты приняли его за фанатичного поклонника железной игры, заглянувшего к ним любопытства ради. Но вот одноногий инвалид неспешно облачился в спортивную форму и обратился к одному из атлетов:
– Поставь-ка, пожалуйста, для жима лежа килограммов шестьдесят. Его тотчас обступили неслабые парни. Кто-то спросил удивленно:
– Неужели будешь тренироваться?
– Хочу вернуться в плавание,– предупреждая остальные вопросы, ответил Попов.
С того летнего дня Геннадий начал регулярные тренировки. Четырежды раненый, с одной ногой, чудом оставшийся живым, несколько месяцев не встававший с больничной койки, он твердо решил вновь вернуться в спорт. Попов сделал акцент на развитии мышц рук и плечевого пояса, чтобы научиться плавать за счет силы рук. В программу входили занятия штангой, атлетическая гимнастика, подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях, лазанье по канату, упражнения с резиновыми жгутами … Он вел жесточайшую и беспощадную борьбу с самим собой, с недугом, с сомнениями и отчаянием, с жалостью к себе и кажущейся бесполезностью всех усилий.
Из друзей, узнавших о том, что Попов решил вернуться на водную дорожку, почти никто его не поддержал. Посчитали затею бесплодной. Это его потрясло, но назад он не свернул.
День 17 сентября 1946 года остался у него в памяти во всех подробностях. Стояло золотистое «бабье лето», какое изредка выпадает на Урале. Геннадий подъехал на ручной инвалидной коляске к пруду в сумерках. Ему не хотелось, чтобы кто-либо видел его. Разделся и подошел к берегу. Отложил костыли в сторону и присел на прохладный песок – надо успокоиться, собраться. Но как он ни старался, волнение подавить не мог. Вспоминалась Урало-Кузбасская спартакиада. Самый первый крупный турнир в его жизни. Рядом на тумбочках, готовые к старту, стояли мускулистые загорелые парни. Из Челябинска, Уфы, Перми, Омска, Новосибирска, Владивостока. 50 метров – его любимая дистанция. По берегу вокруг пруда – сотни людей, разноцветье рубашек, блуз, маек. На лицах восторг. Все приветствовали земляка.
И он не подвел свердловчан .... Давно ли это было? Для поколения, пережившего войну, все, что было до нее, – было давно.
Попов потрогал руками водичку, решительно оттолкнулся от берега – и ощутил блаженство. Блаженство от того, что держится на поверхности воды и не тонет. Значит, можно плавать, можно бороться, можно жить. На душе стало легко …
Самым памятным послевоенным стартом у Попова оказался первый массовый трехкилометровый заплыв на Верх-Исетском пруду. Были такие у свердловских пловцов соревнования в пятидесятые годы. Товарищи решительно советовали Геннадию Вячеславовичу не участвовать в заплыве. Шутка ли, отмахать три километра, в воде может случиться всякое. Но он настоял на своем.
В воду его соперники занесли на руках. Из толпы болельщиков раздавалось подбадривающее: «Держись, парень, покажи, на что способны ветераны!» Зрители советовали ему не торопиться, просто плыть – это уже много. А он с первых метров сразу же захватил лидерство. Одноногий пловец на марафонской дистанции. Не снижая взятого на старте темпа, Попов все дальше и дальше уходил от основной массы плывущих. Более чем на 100 метров опередил он второго призера, доказав, что человек может все.
Так Попов вновь начал плавать. И не просто плавать – а побеждать, бить свои собственные рекорды, установленные в предвоенные годы, в расцвете сил и молодости. Рекорды израненного фронтовика продержались еще немало лет, пока в Свердловской области не появились крытые бассейны, и пловцы не перешли на круглогодичные циклы тренировок.
Шли годы. Силы понемногу стали покидать спортсмена, давали о себе знать ранения. Геннадий Вячеславович перешел на тренерскую работу в спортивное общество «Динамо». Работал он неистово, как и воевал, как тренировался. Все, что умел, он передавал своим ученикам. Да и сама его жизнь была для пацанов примером. Некоторые из его учеников – В. Фроленко, В. Трофимов, ю. Сорокин, В. Кожин – достигли высоких результатов на всесоюзных турнирах. Иные, правда, в других видах спорта. А многие – их тысячи – были просто приобщены Геннадием Вячеславовичем к плаванию, к движению.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТЬ ТУРНИР ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ПРИЗ ГЕННАДИЯ ПОПОВА, МНОГОКРАТНОГО РЕКОРДСМЕНА ПО ПЛАВАНИЮ, ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШИВШЕГО СПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ.
По трассе сильных
УВЛЕКШИСЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ, ДИМА ВЫБРАЛ ЕДВА ЛИ НЕ САМЫЙ ТРУДНЫЙ ВИД – БЕГ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ. УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА ЮНОША СМОГ ВЫНОСИТЬ НАГРУЗКИ, КОТОРЫЕ ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ СПОРТСМЕНАМ: ПРОБЕГАЛ ЗА ТРЕНИРОВКУ В ЛУЧШИЕ ДНИ ДО 25-30 КИЛОМЕТРОВ. ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА ЗАНЯТИЙ ВЫПОЛНИЛ НОРМУ ПЕРВОГО РАЗРЯДА, А ПЕРЕД УХОДОМ В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДВАЖДЫ СТАНОВИЛСЯ ПРИЗЕРОМ ОБЛАСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЛУЖБЫ ПОСТУПИЛ В МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ. ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ОН И САМ НЕ ЗНАЕТ. ПОЧТИ ВСЕ ДМИТРИЮ В ЖИЗНИ ДАВАЛОСЬ ЛЕГКО; ПРЕПЯТСТВИЯ, КОТОРЫЕ СЛУЧАЛИСЬ В ПУТИ, ОН ПРЕОДОЛЕВАЛ ИГРАЮЧИ.
ТАКАЯ "ОБРЕЧЕННОСТЬ» ЧЕЛОВЕКА НА ПОСТОЯННУЮ УДАЧЛИВОСТЬ ТАИТ В СЕБЕ ОПАСНОСТЬ – СНИЖАЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К НЕВЗГОДАМ, "РАЗМЫВАЕТ» ХАРАКТЕР. СЕРГИН ПРИВЫК К УДАЧАМ, И ЕМУ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ТАК БУДЕТ ВСЕГДА. И ВДРУГ УДАР. УДАР СИЛЫ ОГРОМНОЙ, ОШЕЛОМЛЯЮЩЕЙ. ДМИТРИЙ ПОПАДАЕТ В КАТАСТРОФУ, И, ЧТОБЫ СПАСТИ ЖИЗНЬ, ЕМУ АМПУТИРУЮТ НОГУ. ИНВАЛИД! ИНВАЛИД В ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА!
Еще утром жизнерадостный, веселый, энергичный, в полдень уже прикованный к больничной койке, балансирующий на тонком жгуте между жизнью и смертью. Организм молодого человека все-таки выстоял в труднейшей схватке со смертью. И здесь едва ли не решающим стало увлечение легкой атлетикой. Те многокилометровые кроссы, которые закалили тело, спасли ему жизнь. Поэтому Сергин с полным правом вслед за основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном может воскликнуть: "О спорт! Ты – жизнь».
Больничная койка заставила Диму глубоко задуматься о своем будущем. Диапазон выбора был до безумия узок. Прикованный к больничной койке, Сергин постоянно просчитывал варианты.
Постепенно Дмитрий утвердился в мысли, что инвалидность – это не самое худшее в жизни, самое худшее – стоять на коленях перед ситуацией, перед судьбой и гнусавить – дай, дай, дай … Борьба – вот выход на достойную жизненную позицию. Здесь у Дмитрия оказался очень серьезный соперник – он сам. Хорошо известно, что в схватке с самим собой необходимо постоянно быть к себе безжалостно жестоким, непримиримым. Чуть-чуть упустишь хотя бы в малом, и сразу в характере появится изъян, трещина, а дальше – пропасть, падение, безысходность. Сергин блестяще закончил институт, и получил направление в областную детскую больницу, а вскоре перешел в городскую онкологическую.
Сейчас в мире широко развит инвалидный спорт. Проводятся чемпионаты стран, Европы, мира, паралимпийских игр. За рубежом для спортсменов-инвалидов изготавливаются специальный инвентарь, снаряжение, тренажеры, оборудование, форма,
чтобы все было удобно, красиво, надежно. К сожалению, в России и унас, на Урале, развитие спорта среди инвалидов, мягко говоря, не адекватно мировому уровню. Но то, что оно началось,– уже шаг вперед.
Однажды Дмитрию довелось увидеть на Центральном стадионе соревнования среди инвалидов. Сердце заколотилось: захотелось выскочить на тартановую дорожку и пробежаться вокруг футбольного поля, как прежде, километров пять-десять. Взглянув на костыли, он лишь горько усмехнулся. Но желание вновь заняться спортом вернулось. Только вот каким? В Екатеринбурге уже несколько лет существует горнолыжный клуб инвалидов
«Урал-импульс», который возглавляет Л. Копылова. Базируется он в живописном местечке Флюс, где проложены слаломные трассы, есть и санная. Дмитрию посоветовали заняться санями. Однако некоторое время спустя молодой врач сменил свое увлечение.
На исходе 1993 года в Екатеринбург прибыла группа американских спортсменов– инвалидов. Они приехали в гости к уральским инвалидам, чтобы поддержать их морально, подбодрить, оказать посильную помощь. И просто познакомиться с людьми, с краем, о котором были много наслышаны. Среди них были горнолыжники. Дмитрий подружился с Дейвом Ферриесом. У Дейва нога ампутирована выше колена. Но, несмотря на это, он блестяще владеет техникой слалома.
Американец «поставил» Дмитрию технику прохождения слаломной трассы на одной ноге, а покидая Урал, подарил россиянину свое спортивное снаряжение для горных лыж.
Сергин тренировался не то чтобы старательно – самозабвенно. Сколько было падений на тренировках – не счесть. Сколько было синяков и шишек … Но занятий Дмитрий не прекращал. К концу 1995 года он уже весьма успешно выступал на Всероссийских соревнованиях и добился права в составе сборной страны выступить на чемпионате Европы среди инвалидов. Соревнования проходили в предместье швейцарского города-курорта Целерена.
Если где и торжествует девиз Олимпиад – главное не победа, а участие, то именно на соревнованиях спортсменов-инвалидов. Потому что для них уже само участие в турнире – победа, победа над собой.
Однако Дмитрию не хотелось быть просто участником. Туристические поездки на спортивные состязания – это не в его характере, не его стиль жизни.
… Сергин опасался за слалом. Он чувствовал себя не совсем уверенно при прохождении виражей и потому не мог развить максимальную скорость. Другое дело – гигантский слалом – стихия смелых и рисковых ребят. Здесь Дмитрий чувствовал себя как рыба в воде, уверенно.

