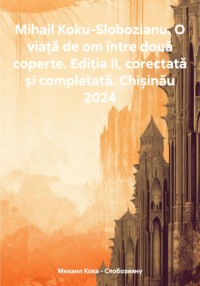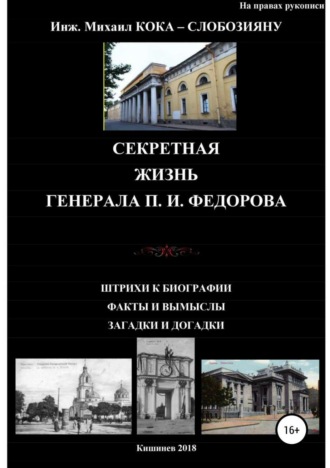 полная версия
полная версияСекретная жизнь генерала П.И.Федорова. Штрихи к биографии. Факты и вымыслы. Загадки и догадки
Значительное количество земельных угодий Кишинёва находилось на левом берегу реки Бык. Там проходило и несколько трактов, ведущих на север области. Для постоянного сообщения с противоположным берегом на реке выстроили 12 мостов, из них: 6 деревянных и 6 каменных. Мосты, возведённые в период руководства Павла Ивановича, были прочными, изящными и не уступали лучшим гидравлическим сооружениям.
В 1842 году в Кишинёве была построена почтовая станция. На окраине города начал строиться тюремный замок. В 1843 году попечением губернатора на левом берегу реки Бык был очищен и приведён в надлежащий вид целебный серный источник. Врачебная управа исследовала воду и нашла в ней: 40 гранов поваренной соли, 30 гранов глинистой земли, 20 гранов кремнезёма и несколько граном сероводорода. Вода обладала полезными свойствами, но запах сероводорода способствовал удушливым испарениям. Кроме этого в городе находилось три фонтана (два публичных и один частный) и до 215 колодцев.
Большое внимание уделял П. И.Фёдоров образованию. По его ходатайству перед министром народного просвещения был учреждён Благородный пансион при 1-й мужской гимназии. Его открытие состоялось 30 ноября 1835 года. В этом пансионе обучались дети бедных дворян и чиновников Бессарабской области, которые со временем могли исполнять гражданскую службу в области. Павел Иванович был частым посетителем 1-й мужской гимназии, лично знал преподавателей, интересовался постановкой учебного процесса. Директор гимназии при неоднократном обращении к губернатору всегда встречал с его стороны самое горячее сочувствие. С 1843 года в гимназии начали преподавать законоведение. Этот предмет был рекомендован Павлом Ивановичем. Профессор Неволин составил план и программу преподавания. Первый год обучения этого предмета в гимназии показал себя с самой благоприятной стороны и со следующего года все гимназии ввели у себя курс «Законоведения». В 1851 году П. И.Фёдоров приобрёл для 1-й гимназии хронометр стоимостью 300 рублей.
В 1839 году Павел Иванович представил высшему начальству проект сиротского приюта на 50 человек. В октябре 1843 года министр внутренних дел удовлетворил просьбу и дал окончательное распоряжение, касающееся приюта. Его проект был представлен на обсуждение Бессарабской региональной комиссии. В 1849 году все проекты, планы и смету расходов утвердил лично император Николай I. Строительство сиротского дома завершилось в начале 1857 года. Автор проекта – архитектор Лука Заушкевич. Сиротский приют состоял из пяти каменных корпусов и огромного двора, в котором размещались дровяные склады и колодец. Дети-сироты: изучали религию, русский язык, чистописание и математику.
По ходатайству П. И.Фёдорова в Кишинёве в 1840 году был создан образцовый девичий пансион А. Д. Ризо. В этом пансионе девочки получали хорошее образование и воспитывались с христианским благочестием. Вслед за А. Д.Ризо пансионы для девочек открыли вдова Фори (1841 г.) и девица Жано (1843 г.) Для мальчиков в 1839 году начало действовать еврейское училище, а в 1842 году – пансион пастора Гельвиха.
В 1841 году в городе начинает действовать литография Попова. Она была снабжена лучшими каменными досками, синего и белого цветов. Печатание в ней производилось непрерывно. Литография для присутственных мест и частных лиц печатала виды, чертежи, графические карты и прочую продукцию. В ней работали 6 печатников при четырех печатных станках. Художественными работами занимался сам хозяин – Попов. При литографии в 1843 году была открыта типография. Шрифты для набора были выписаны из Санкт-Петербурга, а печатание производилось на молдавском, русском, французском и армянском языках. Первая книга «Дворянские выборы», вышедшая из типографии, была переведена с русского на болгарский язык. Типография выполняла заказы для присутственных мест. Сам Попов заслужил уважение местных жителей. Он взял на собственное содержание двух мальчиков-сирот и обучал их литографическому искусству и работе типографщика.
Строительство католического костёла
В начале XIX века Кишинев становится административным, а со временем политическим и коммерческим центром Бессарабии. Развитие производства и торговли повлекли за собой увеличение роста населения. В Бессарабию переселялись люди разных национальностей и вероисповеданий. Это были поляки, немцы, итальянцы французы, австрийцы и армяне. В 1820 году по распоряжению наместника Бессарабии генерал-лейтенанта И. Н.Инзова в центре Кишинева для католиков была выстроена часовня из обожжённого кирпича. Внешне она была очень простой, но интерьер ее был декорирован лепкой и украшен иконами. В 1830-е годы количество католиков возросло, в том числе и за счет военнослужащих. Существующая часовня не вмещала всех прихожан, и строительство католического храма в Кишиневе стало первоочередной задачей. Подготовительный период растянулся с 1834 по 1839 годы, так как необходимо было решить вопрос финансирования, разработать и утвердить проект, собрать все документы и получить разрешение на строительство. Владыка Димитрий дал согласие на постройку римско-католической церкви с условием, что она не будет находиться вблизи православных храмов. Бессарабский военный губернатор П. И.Фёдоров запросил у кишинёвского полицмейстера сведения о количестве прихожан-католиков. Таковых оказалось более тысячи человек, не считая военных, которые находились в Кишинёве временно. Бюрократическая машина работала медленно, пока ее представители досконально изучали ситуацию. Павел Иванович прилагал максимум усилий для начала строительства, так как участок, выделенный католическому приходу, находился в центральной части Кишинева, где должны были возводиться самые красивые здания. В письме П. И.Фёдорова к графу М. С.Воронцову говорилось: «…католической церкви в Кишиневе вовсе не имеется, и богослужения проводятся в одном тесном и ветхом обнесённым плетнёвым забором доме, не токмо не имеющим данного храму Божьему приличия, но и даже безобразящем лучшую часть города».. Фёдоров также способствовал выделению католическому приходу необходимых средств: 10 тысяч рублей в качестве ссуды и 10 тысяч рублей без возврата за счет погашения долгов по налогам за прошлые годы. Выделение таких средств, Павел Иванович объяснял так: «…приход хоть и велик, но прихожане не очень богаты и собственными силами храм построить не смогут». За проявленную заботу о верующих Его Преосвященство Б.Мацкевич в своем послании поблагодарил П. И.Фёдорова. Проект будущего храма в 1838 году разработал архитектор И.Шарлемань из Санкт-Петербурга. В 1839 году кишинёвский городской архитектор Лука Заушкевич доработал проект в соответствии с новыми правилами. В мае 1840 года прихожане обратились к губернатору П. И.Фёдорову с просьбой разрешить сбор пожертвований по подписке по всей Бессарабии, который длился на протяжении всего строительства. В часовне также была установлена кружка для добровольных пожертвований. 15 мая 1840 года состоялась закладка краеугольного камня. Летом 1841 года храм был построен вчерне, а 6 мая 1843 года его освятили. Празднество проходило под звуки военного оркестра егерского полка, так как органа у костёла еще не было. Орган доставили в 1844 году из Купинского монастыря Подольской губернии. В Дворянском клубе был дан праздничный обед по случаю освящения храма. Его обслуживал личный повар губернатора П. И.Фёдорова. К праздничному столу Павел Иванович подарил из собственных погребов вин различных марок и по 16 бутылок шампанского и мадеры. Угощение для остальных прихожан организовали на следующий день во дворе церкви.
Отмечая этническое и культурное многообразие Кишинёва, польский историк и писатель Иосиф Крашевский вспоминал: «В гостинице, где мы остановились, я встретил польскую надпись, торговец был еврей, нанятый извозчик оказался родом из Вильно, а хозяин дома носил итальянскую фамилию. Надписи на уличных вывесках были на молдавском, французском, польском, русском, немецком и армянском языках». И. Крашевскому в Кишиневе многое не нравилось и было в диковинку. Не вызывала восторга архитектура римско-католической церкви. Все новые постройки в городе он описывал с большой иронией.
В Кишиневе для православных жителей были возведены 15 церквей, из них православных: 2 соборные, 7 приходских, 1 кладбищенская, 2 домовые церкви, 1 полковая походная и старообрядческая деревянная часовня; по другим вероисповеданиям: кафедральный собор армяно-григорианского архиепископа, римско-католический костёл, лютеранская кирха.
Деятельность П. И.Фёдорова на благо Бессарабии
Водные пути сообщения к Чёрному морю вверх от Кишинёва производились по реке Днестр. В 1835 году по распоряжению Бессарабского генерал-губернатора Фёдорова для удобства доставки грузов к Чёрному морю и вверх от Кишинёва, на всём протяжении берега Днестра был устроен бечёвник. (Берег, вдоль которого бурлаки тянули грузы, обычно носил название бечева, бечевник. Часто путь бурлаков проходил по каменистым тропам, кустарникам, пескам или по воде). Плоты, груженные дровами и углём, небольшие плоскодонные суда с хлебом, по бечёвнику доставлялись к месту назначения. Конечно, этого было недостаточно и в будущем хотелось бы видеть Днестр хорошей судоходной рекой. Но данный бечёвник оказался хорошим решением, особенно во время разливов Днестра и Реута.
29 ноября 1835 года Павлу Ивановичу приписывалось по совместительству исполнять должность градоначальника города Измаила. Сюда входили: контроль над деятельностью карантинных и таможенных учреждений; надзор за состоянием портовых и крепостных сооружений; содействие благоустройству города и селений; наблюдение за исправностью почтового сообщения, мостов и переправ; утверждение расходов и доходов денежных сумм; контроль распределения и поступления государственных и городских налогов и сборов; охрана санитарного состояния городов и сел; контроль за службой комендантов крепостей Измаила и Килии, а также контроль за Дунайской флотилией в отношении кордонной службы и карантинной стражи. А для развития экономической жизни у градоначальника были такие функции: покровительство торговле и торгующим, привлечение на постоянное жительство иностранцев, способствующих развитию торговли, промышленности и ремесла. В 1836 году должность Измаильского градоначальника была ликвидирована, а управление градоначальством было передано Бессарабскому гражданскому губернатору.
Функции Бессарабского военного губернатора П. И.Фёдорова по управлению Измаильским градоначальством были аналогичны функциям измаильского градоначальника. Военный губернатор находился в Кишиневе, а в Измаиле была канцелярия, через которую велось управление местностью. Для решения важных дел П. И.Фёдоров приезжал в Измаил. За время его правления в Измаиле было 12 церквей, 33 завода, 70 лавок, 78 магазинов, 3 трактира, 3 харчевни, 152 винных погреба. Заводы специализировались на производстве черепицы, кирпича, мыла и пива. Число жителей с 12.227 чел. (в 1835 году) возросло до 39.609 чел. (в 1843 году). К 1853 году в Измаильском градоначальстве насчитывалось 50 заводов, в числе которых появились рыбный и табачный заводы. Общее число жителей увеличилось до 46.638 человек.
Вступив в эту должность, П. И.Фёдоров столкнулся с проблемой сокращения размеров импорта. В 1837 году импорт составил 37.966 рублей серебром, а экспорт – 1.164.885 рублей серебром. За 11 лет Фёдорову удалось улучшить положение: импорт составлял 124.962 рубля серебром, а экспорт увеличился до 1.395.777 рублей серебром.
В благоустройстве Измаила Павел Иванович принимал участие еще в 1822 году, когда началось возведение Покровского собора на главной площади города. Собор сооружался на средства прихожан, пожертвования купцов и Бессарабской казённой палатой. Свою лепту в сумме 10 тысяч рублей внёс и Павел Иванович. Жители Измаила, современники Павла Ивановича отмечали: «В должности градоначальника Измаила Фёдоров был порядочным человеком, добросовестно исполнял свои обязанности и обладал отличными способностями».
В 1836 году министр внутренних дел, статс-секретарь Д.Блудов, в своем отношении от 9 апреля к Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору графу Воронцову писал: «Я имел честь получить отношение Вашего Сиятельства от 21 марта о состоянии, в каком найдена Вами при обозрении Бессарабская Область. С особенным удовольствием я усмотрел из сего отзыва, что важнейшия части управления Области, относительно сбора недоимок, производства уголовных дел и общественного спокойствия, показали самые удовлетворительные успехи местных распоряжений. Относя сии успехи к особенной заботливости и стараниям, с которыми чиновники того края исполняли все благоразумные меры тамошнего начальства, я поставляю себе приятным долгом иметь в виду столь похвальные их действия на пользу службы». Исполнительность чиновников объяснялась тем, что Фёдоров летом каждого года исправно объезжал область, о чем заранее рассылал учреждениям печатные предупреждения «О приведении дел в должный порядок». Кроме этого, Фёдоров взял на себя контроль и переписку с присутственными местами в ведении дел без бюрократизма и проволочек.
В 1837 году в октябре месяце для всех губернаторов вышел циркуляр министра внутренних дел Д. Блудова. По этому циркуляру предписывалось сообщать сведения о сооружениях и замечательных событиях, остатков древних дорог и других памятниках (развалинах), представлявших исторический интерес. Военный губернатор П. И.Фёдоров предписал полицейским местам «без замедления доставить точныя и полныя сведения о древних зданиях, с означением настоящаго их положения, и если возможно, то доставить рисунки таковых древностей и изложить вкратце историю существования оных, или предания, кои на их счёт сохранились». За один год Павлу Ивановичу удалось собрать удивительные сведения о Бессарабии, которые заняли 107 листов описания. В них были рисунки исчезающих сооружений, планы крепостей, названия и предания курганов и населенных пунктов, происхождение молдавских Воевод, описания и легенды древних церквей, монастырей и скитов.
Неутомимая воля, деловая хватка и живость ума Павла Ивановича обратили на себя внимание графа Михаила Семёновича Воронцова. Граф М.Воронцов взял под свое покровительство Фёдорова. Они вдвоём выехали в посад Вилков – незначительное казённое селение Аккерманского уезда. В Вилкове было не более 25–30 камышовых домиков. Деревянный остов дома переплетался камышом и верёвками, обмазывался дунайским илом и накрывался камышом. Печку в таком доме клали из сырца, огонь для печи добывали кресалом, а дома освещались рыбьим жиром. В таких домиках жили вилковские богачи, а бедняки ютились в куренях. Среди убогих лачужек заметно выделялся высокий белый домик местного старосты Эвеля Ярославского. Гостей пригласили в дом и предложили высоким гостям янтарную осетровую уху и бессарабское вино. Но у старосты не оказалось приличных и равномерных стаканов, все они были разного размера: больше, меньше и шкалик. На вопрос графа: «Почему такие разные стаканы», находчивый староста ответил: «Потому что большому пану – наибольший стакан, меньшему пану – меньший, в еще меньшему – какой есть». В городе проживал и старый знакомый Фёдорова Семён Таран. К нему в гости и зашёл Павел Иванович. Несмотря на то, что с последней их встречи прошло четверть века, они сразу узнали друг друга. На вопрос Фёдорова: «Что у вас хорошего?», услышал в ответ, что благочинный запретил звонить в колокола и навесил на старообрядческую колокольню печать. Фёдоров, приговаривая: «Печать колокола – дело полиции, а не поповское», костылём сбил печать.
Со многими жителями Вилково Павел Иванович был лично знаком, знал их имена и фамилии. А жители, подчиняясь нравственной силе и веря в его справедливость, любили Фёдорова, «как дети любят родного отца». А когда Фёдоров временно исполнял должность Новороссийского губернатора и жил в Одессе, вилковцы в затруднительных случаях обращались прямо к нему, зная, что найдут защиту. Так, например, вилковский извозчик Василий Таптыга привёз в Одессу рыбу и хотел продать её по условленной цене. Но одесские торговцы заплатили ему меньшую сумму. Обиженный Таптыга тут же выпряг лошадь и помчался с жалобой к генерал-губернатору по Ришельевской улице. Лакей Фёдорова Ванюшка, узнав в чём дело, поехал на рыбный базар и убедил торговцев выплатить условленную цену, в противном случае пригрозил, что доложит об обиде Павлу Ивановичу. Деньги Таптыге были выплачены в полном объеме.
В 1840 году в Вилкове была открыта новая ратуша, в которой мещане посада могли записаться в гильдейские купцы. Бессарабский военный губернатор пожертвовал для ратуши присутственный стол, красное сукно, зеркало, портрет государя императора Николая I и икону «Св. Николая» на дереве. Секретари в ратушу назначались и увольнялись Бессарабским военным губернатором, но вилковской ратуше постоянно не везло «…словно носился над ней какой-то злой гений, не допуская сюда ни единого путного секретаря…». В 1843 году Павел Иванович отмечал: «В последнюю бытность мою в посаде Вилкове я удостоверился, что ратуша для увеличения ее доходов с согласия общества обложила каждый дом годичным взносом в 2 рубля. Это несправедливо: должно брать во внимание не число домов, а состояние хозяина». Жители Вилкова занимались рыбным промыслом – основным источником дохода. Они постоянно жаловались, что у них нет мест для рыбной ловли. В марте 1847 года Новороссийский и Бессарабский военный генерал-губернатор прислал ратуше план, с обозначением границы вод, принадлежащих Вилкову в количестве 2109 десятин 300 сажень и разрешение жителям посада пользоваться рыбной ловлей по берегам Дуная. В 1848 году по поручению П. И.Фёдорова архитектор Домбровский распланировал Вилков и составил планы будущих построек по участкам.
В Бессарабии в 1834 году был принят закон об обязательном заключении «добровольных» контрактов между бессарабскими землевладельцами и царанами, жившими на их землях. Этот закон вызвал большое недовольство в среде сельского населения. Сотни царан, желая избежать необходимости вступать в письменные договоры с помещиками, стали подавать заявления в Казённую палату о причислении их в мещане. В 1835 году царанам было разрешено переселяться в города. В 1838 году в Бессарабии был введён нормальный контракт между помещиками и царанами, который устанавливал обязательные пункты соглашений, если царане и помещики сами не могли о них договориться.
Новороссийский генерал-губернатор граф М. С.Воронцов для поправки своего здоровья часто выезжал за границу, а вместо себя всегда оставлял П. И.Фёдорова. Первый отъезд графа Воронцова продлился с сентября 1838 года по октябрь 1839 года. За это время Павел Иванович исполнял свои прямые обязанности и дополнительно справлялся с обязанностями графа Воронцова: строительством зданий, разрешением споров, снабжением провиантом и товарами. Так как по долгу службы П. И.Фёдоров находясь в Одессе, не имел возможности быстро знакомиться с документами и подписывать их, а ждать пока документы перешлют в Одессу, а затем отошлют обратно, пройдёт много времени, он предпринял следующие меры. Он обратился с письмом к коллежскому советнику Никитенко, в котором писал: «Ко отвращению таковых неудобств я счёл необходимым поручить Вашему Высокоблагородию следующее: 1) Наблюдать за экзекутором Правления, дабы отписка побудительных бумаг производилась с требующей точностью, всегда своевременно и без малейшей медлительности. 2) Побуждать подчиненных мест и лиц, состоящих в кругу Области, направлять к Вам за Вашей подписью по известной Вам форме. 3) О тех местах и лицах Бессарабской Области, кои после трех побудительных бумаг не имеют исполнительных донесений, заготовлять предписания уже от моего лица со строгим замечанием и присылать их ко мне на подпись.
По известному мне усердию Вашему к службе, аккуратности и деятельности, я в полной мере уверен, что поручение это будет исполнено со всей точностью».
Вот какое донесение получил император Николай I о деятельности П. И.Фёдорова, замещавшего в должности М. С.Воронцова: «Генерал–лейтенанту Фёдорову приписывают многие хорошие качества и некоторые способности; но вместе с тем упрекают его в излишней строптивости характера и неумении обращаться с подчинёнными. Принимаемые им строптивые меры заставляют сожалеть о частых отлучках графа Воронцова; а сделанное в последнее время распоряжение о непременном взыскании недонятых податей, невзирая на повсеместные в предыдущих годах засухи, неурожаи и падёж скота, возбудили против него явный ропот жителей. Рассказывают, что командированные по распоряжению местного начальства чиновники для взыскания недоимок употребляют с помещиками неслыханные до того меры насилия, что неминуемо должно ослабить в жителях уважение к распоряжениям начальства». Но граф Воронцов оценил деятельность Фёдорова и составил положительный отзыв Николаю I. По Высочайшему повелению, П. И.Фёдорову был выдан весь оклад графа Воронцова за время его отсутствия (21055 руб. 71 коп. ассигнациями и 3111 руб. 49 коп. серебром). От своего оклада военного губернатора Павел Иванович отказался, считая, что и одного оклада достаточно. Деятельность военного губернатора была оценена должным образом и в этом же 1839 году его наградили орденом Святого Владимира 2-й степени. 21 июля 1840 года граф Воронцов вновь выехал за границу из-за пошатнувшегося здоровья, а Павел Иванович его замещал. По предписанию графа Воронцова, все его адъютанты состояли при Фёдорове, у которого к этому времени проявилась еще одна черта характера: «…все указания он выполнял с военной педантичностью, без компромиссов и послаблений». Конечно, местные жители сетовали на то, что граф М. С.Воронцов часто отлучался, но Фёдоров, несмотря на некоторую жёсткость в управлении, много сделал для края.
В 1838 году Павел Иванович купил у бессарабского помещика Егора Бальша местечко Формоза (10340 десятин земли) на имя своей жены Екатерины Федотовны. Егору Бальшу это местечко досталось в наследство после смерти его родного дяди камергера Ивана Бальша. У этого населённого пункта очень богатая история. Первое упоминание о нём мы находим в господарской грамоте Штефана чел Маре в 1502 году под названием Шкея. В XVIII веке на карте Дмитрия Кантемира на этом месте значится селение Формоза. Затем его переименовывают по названию речки Фрумоаса, разделяющей поселение на две неравные части. В 1835 году указом императора Николая I населённый пункт получил статус уездного города. Несколько лет спустя город посетил русский историк Н. И.Надеждин, который так отозвался о нем: «Новый город решительно не обзавёлся еще ничем, сообразно своему рангу. Он та же молдавская деревня, как было прежде, только населён уже не крестьянами, а чиновниками». Действительно на тот момент город представлял собой крупное поместье. Павел Иванович обратился к императору Николаю I с просьбой о переименовании города Фрумоаса в Кагул, в честь победы русской армии над турками в 1770 году на реке Кагул. Фёдоров лично составил цветной план будущего города с широкими улицами, площадями и рынками. Этот оригинальный план до сих пор хранится в музее города. Под руководством Бессарабского военного губернатора в Кагуле были возведены: гражданские учреждения, казармы, тюремный замок; открыты церковно-приходское и ланкастерские училища, на реке Фрумоаса работали пять водяных мельниц. В 1850 году благодаря личному вкладу Екатерины Федотовны, в центре города вместо деревянной церкви, сооружённой в 1785 году, построили каменный Архангело-Михайловский собор. Автор проекта – архитектор Тонн. После Крымской войны 1856 года южная часть Бессарабии, куда вошёл и Кагул, была уступлена Молдавскому княжеству, находившемуся под турецким правлением. Екатерина Федотовна продала свои владения греку Д. И.Каравасили.
В 1839 году учреждается Бессарабская палата государственных имуществ. В этом же году населённый пункт Теленешты получил статус города и в нем организовали почтовый тракт по дороге Кишинев-Бельцы. В 1841 году впервые появляется почтовая рассыльная корреспонденции по уездам. Для этой цели в Аккермане были сформированы посады: Турлакский, Шабский и Папушойский, разработаны контракты между владельцами городов и местечек, а также их жителями. В этом же 1841 году в Бессарабии в связи с массовым истреблением леса создали постоянную лесную стражу, которая курсировала по лесным кварталам и предотвращала незаконные вырубки, облагая огромными штрафами нарушителей. За относительно короткий период времени незаконные вырубки практически прекратились.
Правительство высоко оценило заслуги военного губернатора, сыгравшего значимую роль в истории Бессарабии и России. В 1841 году за исполнение ряда мер содействовавших устройству плавания коммерческих судов по Дунаю, Павел Иванович был награждён орденом Железной Короны 1-й степени от Австрийского Императора. Император Николай I дозволил носить эту награду. В 1841 году Фёдорова произвели в генерал-лейтенанты. А в декабре 1842 года ему добавили к получаемому жалованию по две тысячи рублей серебром в год.