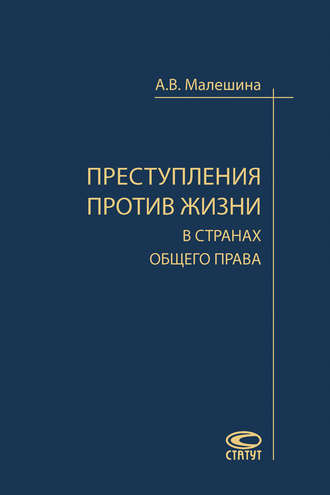
Полная версия
Преступления против жизни в странах общего права
В качестве основного нравственного обоснования наказания все чаще предлагается идея «восстановления» нарушенного преступлением права или общественных отношений (reconstructivism). Так, например, Дж. Клайнфелд приходит к выводу, что уголовное право представляет собой свод этических норм, которым закон придает силу путем запрета под угрозой наказания[99]. И этим объясняется особая роль отрасли, поскольку именно на уголовное право наложена обязанность восстанавливать «нравственное основание социального порядка»[100], нарушенное или уничтоженное преступлением. При этом отвечая на два ключевых вопроса уголовного права – какое поведение следует считать преступным и какими принципами следует руководствоваться, накладывая наказание, реконструктивизм говорит о том, что в основе всякой криминализации должно лежать нарушение нравственной нормы, которую понимают максимально широко – это и моральные императивы, права и свободы, принятые социальные практики, концепции добра и зла, социальные институты и т. д. – при ответе на второй вопрос следует опираться на принцип справедливого воздаяния за содеянное. Преступление и наказание представляют собой своего рода «обмен намерениями»[101], это своеобразный способ коммуникации, когда преступник, с одной стороны, а государство – с другой, пытаются выразить миру определенное послание. Поэтому прежде, чем ответить на вопрос, что представляет собой наказание и какова его сущность, необходимо ответить на вопросы, что такое преступление, и какие цели реализует государство, криминализуя те или иные деяния. В основе криминализации должен лежать не только причиняемый обществу вред, но и нарушение норм «общественного сознания», основ социальной организации, его идеалов. Если говорить о потерпевших от конкретного преступления, то страдает их чувство собственного достоинства, их самоуважения, «квазимистическая основа той добродетели, которая делает человека человеком», а также иногда их социальный статус, своего рода социальное достоинство[102].
Наказание, в свою очередь, является отрицанием посыла преступника и «образовательным посланием» всему обществу (educative message), нравственным по своей природе, посланием, из содержания которого должно явственно следовать, что является добром, а что злом[103]. Таким образом, уголовное право выполняет две функции – функцию осуждения (condemnation function) и функцию контроля (control function). Первая реализуется в первую очередь посредством установления уголовно-правового запрета и является исключительной особенностью отрасли. Вторая позволяет не только стигматизировать осуждаемое обществом поведение, но и оградить общество от тех лиц, которые такое поведение демонстрируют. И эту функцию уголовное право делит не только с другими отраслями права, но и с другими социальными регуляторами поведения.
В российской литературе много внимания уделяют состоянию современного американского уголовного права, причинам и итогам той реформы, которая началась во второй половине прошлого столетия[104]. На наш взгляд, не вызывают сомнения следующие моменты.
Во-первых, необходимо подчеркнуть, что сама реформа была вызвана глубоким кризисом всей системы уголовного правосудия и неспособностью выполнять возложенные на нее функции. Публикация Модельного уголовного кодекса всколыхнула огромный интерес к уголовно-правовой теории. Строгие теоретические построения и кодификация в масштабах всей страны воспринимались как панацея от неэффективности действующих норм. И когда движение «всеобщей кодификации» постепенно стало сходить на нет, американские юристы стали возвращаться к традиции общего права.
Во-вторых, со временем интерес сосредоточился на реформировании федерального законодательства и проблемах ответственности за отдельные виды преступлений, поскольку, несмотря на принятие новых кодексов штатов, составы некоторых деяний, в частности убийства, остаются архаичными[105].
* * *При исследовании канадского уголовного права первый факт, который обращает на себя внимание, – это своеобразная уникальность не только уголовно-правовой модели Канады, но и ее правовой системы в целом.
Своеобразие этой правовой системы состоит в том, что она долгое время находилась под влиянием как общего, так и континентального права. Это двойное влияние было обусловлено историческим развитием Канады, территория которой была колонией сначала Франции, а потом Великобритании. Отсюда не только повышенный интерес прецедентного по своей сути права Канады к кодификации, но и особенности судебной деятельности[106].
Все это не могло не отразиться на уголовном праве, которое, с одной стороны, сохранило юридические конструкции английского общего права, а с другой – в ходе длительного реформирования выработало институты, во-многом схожие с институтами романо-германского права.
В отличие от США Канада имеет уголовно-правовую систему, унифицированную в пределах всей страны. Ни провинции, ни парламент Великобритании не могут создать новые уголовно-правовые нормы, а равно изменять или отменять уже существующие и закрепленные в федеральном уголовном кодексе.
В силу этого основным источником уголовного права Канады выступает законодательство, основной массив которого содержится в Уголовном кодексе 1892 г., действующем в редакции 1985 г. с последующими изменениями и дополнениями.
Отдельные уголовно-правовые нормы сосредоточены в специальном законодательстве, которое, как правило, устанавливает уголовную ответственность за отдельные виды преступлений, в частности, в Законе о контролируемых наркотических средствах 1996 г. (Controlled Drugs and Substances Act)[107], Законе об огнестрельном оружии 1995 г. (Firearms Act)[108], Законе о преступлениях против человечности и военных преступлениях (Crimes against Humanity and War Crimes Act)[109], Законе о преступных доходах (отмывании денег) и финансировании терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)[110] и других актах.
Уголовный кодекс Канады, разработанный, как было сказано выше, на основе проекта Дж. Стифена[111], является, по сути, результатом кардинальной переработки прежнего законодательства с учетом опыта его применения судами, а также сравнительного анализа кодексов других государств, в том числе американских штатов.
Кодекс состоит из 28 разделов, которые, в свою очередь, делятся на главы и статьи. Собственно уголовному праву посвящены первые двенадцать. Наряду с нормами материального права Кодекс включает нормы уголовного процесса, в том числе относящиеся к определению юрисдикции судов. Открывает УК раздел, содержащий толкование терминов (Interpretation), что нельзя не признать удачным решением: взяв на себя обязанность объяснить, что следует понимать под тем или иным термином, законодатель ограничил различия в толковании со стороны правоприменителя.
Первый раздел фактически можно отнести к Общей части, в которой содержатся основные принципы уголовной ответственности, признаки субъекта преступления, понятие источников уголовного права, основания освобождения от уголовной ответственности и другие нормы. Остальные разделы представляют собой Особенную часть. Составы сгруппированы по признаку родового объекта преступления (преступления против личности и репутации, преступления против общественного порядка, преступления против правосудия). По сравнению с построением Титула 18 Свода законов США данная конструкция является более удачной. Однако расположение разделов не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления. Так, преступления против личности располагаются после преступлений, связанных с незаконной организацией азартных игр и пари. Связано это отчасти с тем, что в основу кодекса был положен проект, разработанный в стране, не имеющей опыта кодификации, а отчасти с формальным подходом к определению преступления, не учитывающим общественную опасность деяния.
Канадское уголовное право претерпело серьезные изменения после принятия Канадской Хартии прав и свобод 1982 г. Этот документ, закрепивший существенные права граждан в области уголовного права и процесса – презумпцию невиновности, запрет подвергаться жестоким и необычным наказаниям, право на охрану от необоснованных обысков и арестов, право на законное судебное разбирательство – привел к пересмотру действовавшего на тот момент уголовного законодательства. Особую роль в этом процессе играл Верховный суд Канады, постановления которого заняли свое место в системе источников уголовного права страны.
Принятие названного конституционного акта привело ко многим положительным изменениям в области уголовного права. В частности, особое внимание стало уделяться такой фигуре уголовного процесса, как потерпевший, который длительное время был пассивным участником процесса и воспринимался как обычный свидетель. В качестве примера таких позитивных изменений можно назвать нормы ст. 722 Уголовного кодекса Канады, в соответствии с которой при определении вида и размера наказания суд должен учитывать характер и степень причиненного потерпевшему вреда, причем вывод о качественной и количественной характеристике такого вреда можно сделать, исходя как из заявления самого потерпевшего, так и из других доказательств, собранных по делу[112].
Определенные процессуальные гарантии защиты прав потерпевших закреплены в ст. 486.2 (2) УК Канады, где предусмотрена возможность давать показания вне зала судебного заседания, за ширмой, либо с использованием каких-либо устройств, позволяющих избежать непосредственного визуального контакта с обвиняемым, если это не повредит отправлению правосудия[113].
Как реализацию концепции «восстановительного правосудия»[114], согласно которой приоритетное внимание должно уделяться вреду, причиненному потерпевшему, и ответственности виновного за его причинение, следует рассматривать такие меры уголовно-правового воздействия, как налог в пользу потерпевшего (victims surcharge)[115] и реституцию[116], которые позволяют в материальном эквиваленте выразить опасные последствия от преступления и способствуют в этой части восстановлению справедливости.
Кроме того, в провинциях действуют законодательные акты, закрепляющие важные права потерпевших от преступления (Victims’Bill of Rights, Victim of Crime Act) и предусматривающие гарантии их реализации. К такого рода правам, в первую очередь, относится право на компенсацию причиненного преступлением вреда, для чего в некоторых провинциях создаются специальные фонды[117], а также право на получение информации о ходе следствия и судебного разбирательства и право на «обходительное отношение и уважение» со стороны представителей власти.
Например, в соответствии с положениями ст. 2 Билля о правах потерпевших провинции Онтарио потерпевший имеет право на обходительное отношение и сострадание; право на информацию о том, какая помощь может быть ему предоставлена, информацию о ходе предварительного расследования, в случае прекращения производства по делу – о причинах данного решения, информацию о судебном разбирательстве по делу[118].
Билль о правах потерпевших провинции Манитоба закрепляет право на подробную информацию о проводимом расследовании и последующем судебном разбирательстве (ст. 3, 7, 12)[119].
Дискуссии о необходимости принятия подобного нормативного акта на федеральном уровне, который позволил бы унифицировать «восстановительные» процедуры в масштабах страны и предусмотрел бы гарантии их применения, велись несколько лет. Например, в аналитической записке Секции уголовного судопроизводства Ассоциации юристов Канады указано, что федеральный билль о правах потерпевших позволил бы подчеркнуть «значительность» проблемы, способствовал бы «просвещению» граждан посредством разъяснения их прав как потерпевших на каждой из стадии судопроизводства. Важным положительным эффектом от подобного закона стало бы закрепление на федеральном уровне ответственности представителей власти за несоблюдение установленных норм, а также практические меры, направленные на реализацию закрепленных прав, в частности создание специальных служб, оказывающих услуги юридического характера, медицинской помощи и психологической поддержки, фондов по выплате компенсаций в период нетрудоспособности[120].
В 2015 г. был принят Канадский билль о правах потерпевшего (Canadian Victims Bill of Rights), который в Преамбуле закрепил приоритет охраны прав потерпевших, их достоинства для системы уголовного судопроизводства. Билль предусматривает общие права потерпевших – право на информацию о системе правосудия, право на участие в программах по реабилитации, право на составление и подачу жалобы в случае нарушений (ст. 6), а также специальные права на отдельных стадиях уголовного судопроизводства, включая право на защиту, безопасность и охрану персональных данных (ст. 9–11), право на участие (ст. 14–15), право на реституцию (ст. 16–17)[121].
Признание необходимости дифференцированно подходить к назначению наказания в зависимости от личности виновного, его возраста, легло в основу Закона о несовершеннолетних правонарушителях (Young Offenders Act) 1984 г.
В 2002 г. был принят новый Закон о ювенальной уголовной юстиции (Youth Criminal Justice Act)[122]. Основываясь на предотвращении преступлений как основном средстве длительной защиты общества, законодатель исходит из того не вызывающего возражения факта, что подростки ни в коем случае не должны быть приравнены к взрослым в том, что касается степени ответственности и последствий их поступков. Так, в соответствии с закрепленным в Акте принципом несовершеннолетние обладают меньшей степенью моральной виновности за совершаемые преступления (ст. 3 (b)), поэтому если несовершеннолетние правонарушители, к которым относятся подростки в возрасте от 12 до 18 лет (ст. 2), привлекаются к ответственности, то необходимо рассмотреть возможность замены наказания альтернативными мерами уголовно-правового воздействия[123].
Основными целями данных мер являются: защита общества посредством применения к несовершеннолетнему преступнику таких мер, которые, с одной стороны, отражают степень тяжести совершенного преступления, а с другой – соответствуют его возрасту; исправление несовершеннолетнего и его ресоциализация; предотвращение совершения несовершеннолетним новых преступлений посредством исправления тех неблагоприятных социальных факторов, которые в прошлом повлияли на его преступное поведение[124].
К специальным мерам внесудебного воздействия Закон относит предупреждение (устное или письменное), привлечение несовершеннолетних к участию в специальных общественных программах, направленных на реабилитацию (ст. 6). К данным мерам возможно прибегнуть как до судебного заседания, по инициативе представителя полиции либо прокурора в случае совершения впервые нетяжкого преступления, так и в ходе судебного заседания.
Определяясь с целями уголовного правосудия, Апелляционный суд провинции Онтарио в 1953 г. пришел к заключению, что в деле борьбы с преступностью законодателю необходимо устанавливать такие наказания, которые служили бы удержанию от совершения преступления, исправлению преступника и воздаянию[125].
Впоследствии эти цели нашли отражение в Уголовном кодексе. В частности, в 1996 г. в кодекс была внесена ст. 718, посвященная целям наказания. «Главной целью наказания, наряду с предотвращением преступления, является установление справедливого, мирного и безопасного общества. Налагая на осужденного справедливое наказание, суд решает одну или несколько из приведенных ниже задач: 1) объявление какого-либо поведения незаконным; 2) удержание преступника и других лиц от совершения преступлений; 3) изоляция преступника от общества, когда это необходимо; 4) оказание помощи в реабилитации осужденного; 5) обеспечение возмещения вреда потерпевшим и обществу в целом; 6) способствование появлению у преступников чувства ответственности и осознания того вреда, который они причинили своим поведением потерпевшему и обществу»[126].
При этом фундаментальный принцип, которым должен руководствоваться суд при вынесении приговора, заключается в том, что «наказание должно быть пропорционально тяжести совершенного преступления и степени ответственности преступника»[127].
Если говорить о реформировании уголовного законодательства в целом, то можно констатировать, что в Канаде оно отличается более гибким характером и легче подвергается изменениям[128]. С одной стороны, подобное отношение к нововведениям объясняется отсутствием устоявшейся правовой традиции, имеющей долгую историю и определяющей стиль правового мышления. С другой – общим подходом канадских юристов, которые уверены в том, что закон эффективен только тогда, когда он идет в ногу со временем. «Для уголовного законодательства важна не приверженность традиции, а способность служить интересам и целям современного канадского общества»[129].
* * *Подводя итоги сказанному выше, хотелось бы остановиться на следующих ключевых моментах.
Прежде всего, интерес, который вызывает у исследователей уголовно-правовая система общего права, связан не только с наличием специфических, присущих только ей институтов и культурологических особенностей, но и с тем, что на протяжении полувека она претерпевает существенные изменения. Пока трудно судить о том, когда реформы будут окончены, или о том, каков будет их результат. С определенностью можно сказать лишь об их направленности: мощное кодификационное движение и изменение роли прецедента на второстепенную по сравнению с основным источником права статутом еще больше сблизит англосаксонскую уголовно-правовую систему с континентальной. Это сближение уголовно-правовых систем, так давно прогнозируемое[130], с одной стороны, подчеркнет единую природу проблем, которые регулирует уголовное право, а с другой, – позволит подойти к решению оных более конструктивно.
Сами реформы носят поступательный характер с явной прослеживаемой тенденцией сохранения устоявшихся, проверенных временем доктрин и правовых концепций. На примере преступных деяний против жизни этот тезис достаточно иллюстративен. Например, возможность привлечения к уголовной ответственности за причинение смерти юридических лиц изначально общим правом отрицалась. Потом стали появляться первые прецеденты, а соответственно, и новые доктринальные обоснования корпоративного убийства. В итоге сложившиеся в прецедентном праве концепции легли в основу принятого в 2007 г. в Англии Закона о корпоративном простом убийстве и корпоративном убийстве.
Или, например, если обратить внимание на реформу оснований защиты, которые влекут переквалификацию деяния с тяжкого на простое убийство, то неизбежно приходишь к выводу, что изменения, внесенные Законом о коронерах и правосудии 2009 г., являются не столь радикальными, как это планировалось и неоднократно предлагалось в ходе законопроектной деятельностью, и касаются они, главным образом, тех институтов, которые в течение длительного времени зарекомендовали себя как неработоспособные и проблемные.
Давать оценку таким изменениям всегда трудно, особенно юристам, принадлежащим к другим правовым системам. Единственно возможный, на наш взгляд, подход заключается в рассмотрении уголовно-правовой нормы с точки зрения ее эффективности. А с этих позиций реформирование уголовного права Англии, США и Канады является более чем оправданным и своевременным. Институты, созданные в другие исторические эпохи, под влиянием господствовавших тогда взглядов на уголовную политику в целом не соответствуют современным уголовным принципам, новым действующим нормам и вряд ли могут быть эффективными.
При этом предпринимаемые для реформы шаги в полной мере отражают сущность данной уголовно-правовой системы, ее этос (ethos), идею, в центре которой лежит человек. «Идея эта многогранна, определяет содержательное наполнение уголовного права и практику его применения, отражается в сформировавшемся веками правосознании судей, юристов и обывателей». Она находит свое отражение и в том, что уголовное право понимается как «щит против неоправданного произвола по отношению к человеку со стороны государственной власти», и в «минимальной» криминализации, которая немало этому способствует, и в тесной связи правовой и нравственной нормы, и в «позитивистской направленности науки уголовного права»[131].
И при проведении реформ в уголовно-правовой сфере, в частности при изменении системы преступных деяний против жизни, эта идея остается отправной, прослеживаемой как в криминализации деяний, так и в содержательном наполнении их наказуемости, о чем пойдет речь в последующих параграфах.
§ 2. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны в Англии, США и Канаде
Для глубокого анализа и понимания природы любого преступления, степени его общественной опасности необходимо изучить его объект – совокупность охраняемых законом социально значимых ценностей, интересов и благ, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и которым причиняется или может быть причинен существенный вред.
Непосредственным объектом деяний, входящих в систему преступлений против жизни, является жизнь человека[132].
Жизнь в качестве объекта преступления имеет ряд аспектов. С одной стороны, она представляет собой «обеспеченную законом возможность существования личности в обществе»[133], пользования предоставленными ей правами, взаимодействия с другими индивидами, а с другой – естественный физиологический процесс. Поэтому понятие «преступление против жизни» неразрывно связано с выявлением начала жизни человека и ее окончания, а также признаков, которые характеризуют данное явление, – это и есть фактические и юридические предпосылки для признания деяния преступлением против жизни и отграничения его от смежных преступлений, в частности от незаконного прерывания беременности. Однако необходимо признать, что на практике указанные вопросы нередко вызывают определенные трудности при квалификации и зачастую не урегулированы в законодательстве.
Изначально английское общее право исходило из того, что лишить жизни можно только «разумное существо, имеющее самостоятельное физическое существование» (reasonable creature in rerum natura)[134]. Это понятие, взятое из дефиниции тяжкого убийства Э. Коука, которая считается классической, в наше время трансформировалось в понятие «живого человеческого существа» (living human being).
Джеймс Ф. Стифен также называл началом жизни момент, когда «плод полностью отделился от тела матери, и его жизнь не зависит от жизни матери»[135].
Таким образом, момент, когда плод становится человеком в уголовно-правовом смысле, связывается с полным отделением его от тела матери. Доказательством живорожденности выступает самостоятельное легочное дыхание, сердцебиение и произвольное движение мускулатуры[136].
Надо сказать, что данный подход основан на концепции отсутствия у плода каких-либо прав до момента появления на свет. В решении по делу Paton v. British Pregnancy Advisory Services плоду было отказано в каких-либо гражданских правах вплоть до появления его на свет – «в Англии и Уэльсе плод не обладает правом на предъявление иска, никаким правом вообще, до момента рождения»[137]. Непризнание наличия у плода гражданских прав, вытекающее из его тесной связи с материнским организмом, было закреплено в ряде других английских решений, в частности C. v. S. и Re F (in utero)[138].
В решении по делу R v. Tait Апелляционный суд постановил, что угрозу «я убью твоего ребенка», адресованную беременной женщине в отношении находящегося в утробе младенца, нельзя рассматривать как угрозу убить «другого человека» («a third person») в смысле ст. 16 Акта о преступлениях против личности 1861 г., поскольку плод in utero не является в обычном смысле этого слова «другим человеком», независимым от своей матери[139].
Умерщвление плода, находящегося в утробе матери, а равно в начале физиологических родов не может быть квалифицировано как убийство. Названные деяния являются самостоятельными преступлениями, ответственность за которые предусмотрена в ст. 58 Закона о преступлениях против личности 1861 г. (Offences against the Person Act) и ст. 1 Закона о сохранении жизни новорожденных 1929 г. (Infant Life (Preservation) Act)[140].
Правильность подобного определения момента начала жизни вызывает сомнения: получается, что в начале физиологических родов мы имеем дело с плодом, а в конце уже с человеком.
Неоднозначной представляется и оценка преступного поведения лица, которое намеренно причиняет беременной женщине вред, в результате которого изначально жизнеспособный плод погибает до, во время или сразу после родов (намерение направлено именно на причинение вреда здоровью женщины, а не плоду, как в описанных выше случаях). Апелляционный суд в 1996 г. признал, что, поскольку плод является частью тела матери, «подобно руке или ноге», намеренное причинение вреда матери следует признать эквивалентным намеренному причинению вреда ее еще не родившемуся ребенку. Соответственно, такое намеренное поведение можно квалифицировать как тяжкое убийство[141].

