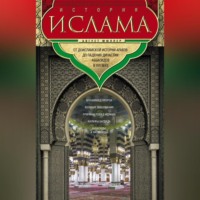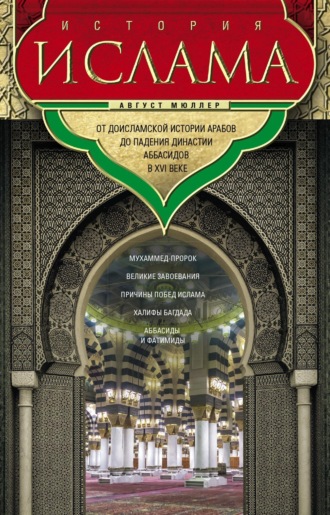
Полная версия
История ислама. Т. 1, 2. От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов в XVI веке
Малозначительность успеха не помешала Мухаммеду ревностно продолжать свою проповедь. То в отдельной беседе искал он случая согреть веру того либо другого, то громко возвещал откровения, ему преподанные, более широкому кругу своих слушателей. Большинство этих вдохновенных речей, если не все, дошли до нас; они образуют единственные, действительно подлинные свидетельства первых начал ислама. Все, что случалось с ним в течение дня, составляло естественное содержание ночных его размышлений. Ревностно выстаивая на молитве и усердно бодрствуя, он быстро переходил от полной истомы и упадка сил к наивысшей степени возбуждения, воспринимая попутно одно за другим все впечатления пережитого и борьбы. То чудятся ему небесные звуки, несущие ему утешение в претерпенных им неудачах и поражениях, вознаграждавшие его сторицей за те насмешки и ругательства, коими осыпали его постоянно курейшиты, то начинает он цитировать, разнообразя все новыми и новыми оборотами, короткие периоды, составляющие содержание истинного учения, то грозит своим противникам гибелью мира и Страшным судом, а рядом умоляет верующих выдержать стойко, чтобы со временем обрести высокую награду за свою верность, то снова настойчиво советует им благодарить за те дары, которыми ежедневно оделяется человечество свыше. Себя самого как пророка он нисколько не щадит, лишь только заметит, что заслужил порицание или чего-либо не предусмотрел: в короткой суре 80 строго порицает он себя за то, что однажды грубо отстранил одного бедняка-слепца, который помешал, имея потребность в духовной беседе, его разговору с богатым и гордым Валидом ибн Мугирой, главой знатной семьи Махзум, – еще одно доказательство, как честно относился Мухаммед тогда к истине, ради ее не щадя даже самого себя.
Соответственно содержимому в первом откровении назвали его «чтением», по-арабски куран, что, кроме того, понимается как громкое чтение пред общиной, так же точно передача, декламация. Слово это перенесено потом, как известно, и на весь сборник, содержащий все чтения в совокупности, и под словом «аль-куран», «чтение» (отсюда алькоран), принимается теперь безусловно последнее значение. В том виде, в каком сохранились и по сие время, собраны они были по приказанию третьего халифа Османа.
Догматическое содержание древнейших частей Корана весьма несложное. Существует одно Божество, Аллах, Господь[33]. Он сотворил мир и его поддерживает. Ему одному подобает поклоняться, следует отречься от всякого идолопочитания. Мухаммед – его пророк[34], ему поручено предостеречь людей и возвестить им, что наступит восстание из мертвых и Страшный суд, на котором каждому воздается по заслугам. Кроме исповедания истинной веры, главнейшие обязанности человека: молитвы в определенные сроки, честное отношение к ближнему и милостыня бедным. Ужасный обычай арабов – закапывать живыми новорожденных дочерей – горячо также осуждается. Очевидно, что эти основные законы, не принимая в расчет божественного посланничества Мухаммеда, признаются как иудеями, так и христианами. Поэтому он не заявляет никакой претензии, что вносит нечто новое; он только напоминатель, дабы обратились снова к старой, забытой истине, и в те времена не чувствует еще себя ни в чем отделенным от остальных, исповедовавших монотеизм. Лишь позднее, когда успел познакомиться ближе с христианским, а в особенности иудейским учением, он приметил, что у них не встречается решительно никакого намека на божественность его посланничества. Тогда только он вступил в открытую с ними борьбу.
Пока же ему приходилось иметь дело только с неверующими жителями Мекки. В первых рядах его противников стояли: аль-Валид ибн Мугира и Абуль-Хакам Амр ибн Хишам, обыкновенно называемый придуманным Мухаммедом насмешливым прозвищем Абу Джахль – «отец[35] глупостей». Оба они принадлежали к известному роду Махзумитов. Таковым же был Абу Суфьян из рода Омейи; позже выступает он главным врагом пророка. Кроме всевозможного вреда, какой только можно было нанести членам маленькой общины, не ставя ребром вопроса о внешней их безопасности, старались мекканские аристократы всячески дискредитировать самого пророка. Все кричали, что учение его – не то бред пустой фантазии, малоискусного поэта, не то, пожалуй, и лжеца. Другие притязанию на божественность его посланничества противопоставляли утверждение, что все им излагаемое не новость – чего он, впрочем, никогда и не оспаривал. Все это в совокупности ставило его в безвыходное положение. От него требовали чудес как доказательств его божественной миссии. В беспрестанной борьбе с врагами речь его становится все горячее, он заносится. Описывает в ярких красках ужасы Страшного суда, рисует муки ада, которые ждут ненавистников Бога, и живописует утехи «сада»[36], ждущие верующих. Картины его становятся все подробнее, и, понятно, чем далее – все чувственно грубее[37]. А когда противники насмешливо допрашивают его: когда же наконец наступит так часто возвещаемый ужасный «час» Страшного суда – Мухаммед в первое время предполагал скорое его наступление. Он поневоле отсылал их к Богу, которому одному известна сия тайна. На требования чудес и на сомнения, высказываемые некоторыми о возможности телесного восстания, предлагал он доказательства величия Божия почерпать в чудном строении природы, в особенности же таинственного возникновения человека. Понятно, все это делу его немного помогало. Утеснения продолжались своим чередом. А то обстоятельство, что Мухаммед собирал своих приближенных в доме Аркама, одного из первых им обращенных, где сходились они в определенное время на общую молитву[38], а еще более его страстная охота затевать религиозные прения со всяким встречным, им же чаще всего завлеченным, выводило из терпения неверующих и подавало повод ко многим бесчинствам. Поэтому медленное возрастание маленькой общины мало-помалу совсем прекратилось. Некоторые не вполне твердые в вере отпали снова от Мухаммеда, убоявшись насмешек земляков или не желая раздражать недовольство сильных. Новое учение действительно не могло иметь последователями полуубежденных или же равнодушных. С самого начала ясно обозначились в откровениях Мухаммеда требования, чтобы человек безусловно, телом и душой, предался и следовал заветам Бога. Отбросив в сторону всякую заботу о своих собственных интересах или самостоятельной воле, должен правоверный отдаться исполнению велений Всевышнего. Точное определение понятия, с которым араб связывает значение слова «ислам», есть преданность, безусловная покорность. По всей справедливости поэтому ислам носит название веры, которая требует, более чем всякая другая, беззаветной преданности человека Богу. Такой верующий, исповедующий подобную преданность, получает почетное название Муслима[39], «предавшегося». В несколько более глубоком смысле те же воззрения и у христиан, отличием будет только недостаточность внутренних, субъективных убеждений араба. Воля Божия возвещается ему не по собственному побуждению, а исключительно согласно предписаниям пророка, подобно тому как солдат исполняет волю своего военачальника чрез посредство командных слов ближайшего командира своего. В этом отношении выказывается некоторого рода родство ислама с известными течениями католицизма.
Подобное воззрение стояло на самом деле вразрез с природою араба; издавна привык он не обращать никакого внимания ни на чью волю, кроме своей. Опасность для маленькой кучки верующих тем более становилась грозной, что начиналось уже распадение общины. Следует обратить внимание, что в первой стадии развития ислама особенно заметно христианское влияние, и Мухаммед явно искал поддержку и у них. Выше мы уже видели, как назад тому около ста лет старались христиане-эфиопы утвердить в Южной Аравии свою политику и религию. Был момент, когда предполагалось, что и Мекка не избежит последствий этой борьбы. Но с тех пор прошло 45 лет, давно уже возобновились снова дружеские сношения между Абиссинией и арабским главным торговым городом. Отсюда можно было в несколько дней чрез Шуеибу (невдалеке от позднейшей Джедды) чрез Красное море достигнуть страны, Надшаши[40], управляемой эфиопским царем. Так как Мухаммед держался еще того понятия, что откровения его по содержанию совершенно сходны с теми, которые Бог преподал людям чрез посредство Моисея и Христа, а ныне для распространения их среди арабов призван он, поэтому он смотрел собственно на абиссинцев как на своих единоверцев. Вот почему полагал он возможным отправить туда тех из своих приверженцев, которых желательно было избавить от притеснений аристократов Мекки. И вот, по общеупотребляемой хронологии, в 615 г. было предпринято первое переселение правоверных в Эфиопию. Вначале, вероятно, для того, чтобы лучше разузнать порядки чуждой страны, отправилась маленькая группа из одиннадцати человек.
Одновременно, однако, глубоко страдавшему пророку, и в этом тяжелом положении находящемуся в сильном возбужденном состоянии, пришло в голову, нельзя ли попытаться прийти к какому-либо соглашению с земляками, прежде чем окончательно решиться на такое рискованное ослабление общины, как выселение большими толпами правоверных. Ему показалось возможным признать туземных богов по отношению к Аллаху, господину Каабы, за ангелов – за некоторый род промежуточной инстанции между Творцом и людьми. По его позднейшим соображениям, мысль эту вдохнул ему сатана, сильно встревоженный, понятно, его проповедью и давно высматривавший случай подготовить посланнику Божию западню. Ему удалось действительно обмануть пророка: нашептывания злого духа он принял было за подлинные слова Божии. Господь допустил, вероятно, в наказание за его маловерие, благодаря которому пророк с некоторого времени стал думать о примирении с неверующими. Случилось это так. Однажды Мухаммед перед Кабой, находившейся невдалеке от дома Аркама, возвестил, в связи с одним из его коранов: «Хорошо ли вы поразмыслили о Лате и Уззе и третьей между ними Манате? Да, они подобны благородным лебедям[41], и действительно на их заступничество можно надеяться!» Присутствующие при этом курейшиты, искавшие, по своему обыкновению, всякого случая высмеять и опорочить пророка, услышав подобный оборот, были изумлены, понятно, и вместе с тем обрадованы. Когда оратор заключил дальнейшую свою проповедь словами: «Падите же ниц перед Аллахом и служите ему!», все собрание, как один человек, повиновалось приказанию. Но едва успел Мухаммед вернуться домой, как появился пред ним ангел Гавриил и преподал резкий выговор за его легкомыслие, благодаря которому он впал в сети, расставленные сатаной. Глубоко потрясенный пророк, не откладывая, созвал на следующий же день новое собрание. Снова прочел он на нем тот же самый коран, но уже в истинном изложении: «Правильно ли вы размышляете о Лате, Уззе и Манате, третьей между ними? Неужели же когда у вас дети мужеского пола, у него – женского?[42] Ведь это же невозможное распределение». Услыша это, мекканцы, естественно, разозлились еще пуще и отвернулись окончательно от него. Преследование правоверных началось снова, но еще более жестокое, чем прежде.
Мухаммед мог спокойно сознаваться в заблуждениях, в которые иногда впадал, ибо в продолжение всей своей жизни он никогда не заявлял притязания на непогрешимость, равно как и на безошибочность, за исключением случаев, когда говорил сознательно о делах веры. Меж тем мусульманские теологи силятся навязать ему более или менее оба эти свойства, поэтому замалчивают большинство историй, для них почему-либо щекотливых. Но рассказанное нами добыто из старинного и хорошего источника и, несомненно, опирается, в сущности, на правду. Но и здесь мы встречаемся с намеренным затемнением факта. Объясняя по-своему «отклонение пророка в язычество», предание насильно втискивает целое длинное развитие в отдельный маленький факт. А между тем мы можем представить сколько угодно доказательств из дальнейших дошедших до нас известий, что выселившиеся, по первому слуху о происшедшем примирении, собрались назад на родину после двухмесячной побывки своей в Абиссинии и вскоре прибыли в Мекку. Если первоначальное признание Мухаммеда было бы им взято назад так скоро, как это изображается в рассказе, то известие об этом должно же было дойти до ушей возвращавшихся, ну хоть где-нибудь в дороге, и понудило бы их остановиться. Скорее всего можно предположить, что мимолетное признание древних богов произошло в виде некоторого рода попытки войти в соглашение с аристократами Мекки. Этой уступкой, рассчитывал он, влияние его сильно возрастет. И тогда при помощи постоянного и твердого напоминания об Аллахе, надеялся он, постепенно уйдет на задний план греховное почитание идолов. С другой стороны, противникам его хотелось остановить дерзкие нападки на освященные традицией предания общественной жизни. Взамен, быть может, готовы были они, вместе с разными другими отдельными божествами, оказывать и Аллаху платоническое богопочитание, в известных случаях. По их понятиям, они немного уступали, соглашаясь принять новую веру пророка, лишь бы он всенародно возвестил свою готовность вернуться к вере отцов в какой угодно форме. Никоим образом не приходило им в голову, что потребуется отказаться от равнодушия ко всякой живой вере, а тем более не рассчитывали они подчиняться требованиям, от которых не мог отказаться посланник Божий, по отношению к истинным последователям Аллаха. Ясное представление полной невозможности соглашения должно было в самое короткое время проявиться. Мухаммед вынужден был сознаться, что обманчивую, а по его воззрениям, самим сатаной внушенную надежду следовало оставить. Открытое сознание в сделанной им ошибке приносит ему, конечно, много чести, но положение его все-таки, понятно, значительно ухудшилось. Стало ясным как день, что его притязания на роль провозвестника Божеской истины были неосновательны. Неприятели неустанно изобличали его в противоречиях, которые удавалось им находить в его страстных речах. Озлобленные неудачей соглашения и продолжавшимся непреклонным упрямством того, которого почитали уличенным обманщиком, принялись они с удвоенной энергией гнать последователей ислама. Только что вернувшиеся из Абиссинии должны были снова потянуться в обратный путь. За ними последовали мало-помалу маленькими группами и многие другие, особенно когда узнали, что Надшаши оказывает благорасположение к арабским почитателям Аллаха. В общем бежал туда сто один человек, между ними мужчин восемьдесят три. В числе их был и Осман, уехавший с дочерью пророка, Рукайей, и один из братьев Али. Меньшинство вернулось сравнительно в короткое время обратно в Мекку. Какая была причина? Трудно сказать. Или они были обмануты тем, что ждало их на чужбине, или же их мучила совесть, что они покинули своих товарищей одних в неравной борьбе. Даже слабохарактерный Осман, которому помимо того, как члену семьи Омейя, менее других следовало опасаться, скоро вернулся к своему тестю. А он нуждался сильно в помощи. Все упорнее напирали аристократы на его маленькую общину. Одно мгновение казалось, что и Абу Талиб, единственный личный защитник его в минуту опасности, готов был отступиться от Мухаммеда. Курейшиты неотступно наседали на благородного человека. Угрозы и внушения наконец подействовали. Не веровавший в учение своего племянника, защищавший Мухаммеда ради семейных только принципов, завещанных Абд аль-Мутталибом, Абу Талиб позвал его к себе, предложил искать примирения со своим народом и не обременять его далее слишком тяжелым для него долгом. Мухаммед сразу почувствовал, что бывший его защитник хочет от него отделаться. Племянник ответил горячо: «Если б вы дали мне в правую руку солнце, а в левую – месяц под тем условием, чтоб я оставил начатое мною дело, прежде чем Господу угодно будет довести его до конца, если бы даже должен был при этом погибнуть, знайте же – все-таки не оставлю его». При этом слезы полились из его глаз, и он быстро повернулся к выходу. Но великодушный дядя вернул его назад и произнес: «Ступай с миром, сын моего брата, и продолжай говорить, что тебе угодно будет. Ни в каком случае я тебя не выдам».
Тем не менее положение становилось все более и более грозным. Но преследователи зашли слишком далеко, и дело начинало принимать оборот далеко не в их пользу. Раз сидел Мухаммед невдалеке от Каабы. Подошел Абу Джахль и стал осыпать его самыми отборными проклятиями. Пророк не отвечал ни слова. Тут же стоявшая невдалеке рабыня, присматривавшаяся к сцене, поторопилась передать кругом стоявшим все слышанные ею оскорбительные выражения. Как раз в это время подошел Хамза, брат Абдуллы, отца Мухаммеда. Он возвращался с охоты, с луком на плече, и слышал ругательства. Закипела в нем горячая арабская кровь. Как мог кто-то осмелиться столь жестоко оскорбить сына его брата?
Быстрее стрелы кинулся он к Каабе, подбегает к сидящему Абу Джахлю, ударяет его в присутствии всех луком по лицу. Брызнула кровь, а обидчик злой приговаривает: «Как смел ты его поносить, я его единоверец и признаю то, что он признает. Отплати мне тем же, если посмеешь!» Хамза был мужчина громадного роста, сильный. Того, другого, тоже взяло раскаяние. Поэтому он сам стал защищать Хамзу от сбежавшихся к нему на помощь. «Оставьте в покое Абу Омару[43], – заговорил обиженный, – ибо, ей же ей, я обругал неприлично сына его брата». Но Хамза и не думал отрекаться от раз им сказанных слов. С этих пор примкнул он к исламу. Впоследствии из первых пал он, защищая дело правоверных.
Еще знаменательнее, чем это неожиданное обращение такого близкого и почитаемого всеми родственника, было принятие ислама другой личностью, относящееся приблизительно к тому же времени (около 615 или 616 г.). Омар, сын Хаттаба, из дома Адий, до сей поры был одним из самых злейших преследователей новой веры. Серьезный по натуре, он не мог обойтись без того, чтобы не подвергнуть исследованию оспариваемого. Мало-помалу дошел он до убеждения, что справедливость была на стороне Мухаммеда. Открытое обращение было непосредственным следствием приобретенного им сознания. Ближайшие подробности этого события передаются преданием в форме неопределенной и часто противоречивой. Во всяком случае, признание новой религии подобной личностью имело весьма важные последствия. Многие, конечно, идут слишком далеко в данном случае, желая видеть в нем настоящего основателя ислама – было бы это, без сомнения, равносильно произвольному искажению фактов, тем не менее заслуги Омара слишком велики. Он известен как могучий и интеллигентный организатор, впоследствии, совокупности всего мухаммеданского мира; не будь его, по всем вероятиям, халифат, возникший из ничего и достигший мирового значения, быстро снова бы распался; это был человек решительных действий. С того самого момента, как уверовал, становится он настоящим побуждающим элементом в среде окружающих пророка. Если спокойная твердость Абу Бекра придавала нравственную выдержку более глубокому, но непостоянному и ограниченному, в особенности в делах внешней жизни, уму Мухаммеда, то Омар умел увлекать за собой пророка, побуждая его к решительным, бесповоротным действиям. А без них в данных обстоятельствах, как это впоследствии выяснилось отчетливо, нельзя было и думать о дальнейшем распространении вероучения. Омару было не более 26 лет, когда он примкнул к правоверным. По наружному виду гигант, на голову возвышавшийся над толпой современников, он отличался редкими качествами духа: смелость и решительность действий сопровождались у Омара в необычайной степени прозорливостью и мудростью соображений. Подобные свойства, невзирая на то что он не выдавался ни происхождением, ни состоянием, упрочили за ним почти с юных лет если не влияние, то уважение. Весь его характер и направление обнаружились сразу при первом вступлении в лоно правоверных. Он настоял на том, чтобы прекращены были раз навсегда богослужения тайком в доме Аркама. С этого самого времени стали правоверные открыто собираться у Каабы, устраивали тут общие молитвы в виду всех и совершали торжественные процессии вокруг святого дома. Обычай этот прежнего времени не возбуждал ни в ком сомнений, им продолжали пользоваться, но исключительно для прославления имени Аллаха.
Открытое выступление правоверных произвело поражающее впечатление на аристократов. С Хамзой и Омаром было не до шуток, на каждую насмешку отвечали они ударом, а открытой войны зажиточные купцы избегали как огня: они рисковали всем, Мухаммед же ничего не терял. Он мог взбунтовать рабов и, во всяком случае, нанес бы большой вред торговле Мекки. По-прежнему положение дел было невыносимое. Последние успехи пропаганды заметно ободряюще повлияли на пророка. С другой стороны, неприятные и компрометирующие воспоминания попыток к примирению подстрекали его вдвойне к бесповоротному осуждению поклонения идолам. Поэтому более чем когда-либо начала обнаруживаться страстность его натуры. И прежде находили на него сомнения; Господь всемогущ, думалось пророку: если только пожелает, может проявить волю свою в войне с человеческим неверием. Все сильнее и сильнее овладевала его мозгом мысль, что если мекканцы станут продолжать оказывать упорное сопротивление истине, если взаимное ожесточение в конце концов дойдет до крайних пределов, то сам Господь пожелает уже не обращения, а истребления грешников, предоставляя лишь особым избранникам возможность приобщиться к истинной вере. Все чаще и чаще слетают с уст его слова: «Бог руководит теми лишь, коих избрал, и оставляет в заблуждении остальных, коих не пожелал». Страшный догмат абсолютного предопределения, в самой нечеловеческой форме, стал понемногу выступать на сцену. Согласно этому учению, возвещение истины не имело целью помочь всему человечеству, скорее наоборот, лишало неверующих всякого оправдания, так как воля Божия отнимала от них самую возможность выработки собственными силами доступа к вере. Эти воззрения, мало заметные в Коране сначала, чем далее тем более стали выступать все ярче и ярче, пока не преобразовались в догматике ислама постепенно в безусловный фатализм. Нерасторжимые узы его сковали ныне всю духовную жизнь мусульманского востока. В этом отношении сам Мухаммед не поступал с неуклонной последовательностью. Строгий логический путь был ему незнаком. Но все же нельзя не заметить, что и он первоначальную тему своей проповеди «если вы не обратитесь, пожраны будете геенной» стал формулировать совершенно иначе. В его проповеди начинали слышаться грозные тоны. Вы не хотите и не можете обратиться, говорит он, знайте же, что уготован вам ад. Понятно, даже курейшиты должны были усмотреть в этом новое обострение нападений. Со своей стороны и они постарались напомнить о том грубом противоречии, в которое он впал при фатальной попытке к примирению, обзывая его лгуном не без некоторого основания. Под давлением этого обвинения пророк вынужден был выискивать новые доказательства для подтверждения проповедуемой им истины. Придать доводам силу внутреннего глубокого убеждения и логического обоснования он не мог – не хватало ему высшего духовного образования; быть может, еще более служила препятствием ограниченность продуктивности духа, сила которого заключалась у него в страстности понимания, а не в начале вырабатывающего из себя творчества. Воспользоваться тем, что слышал от друзей своих христиан, он не мог: крестная смерть, костер – все это для поверхностного понимания грубого народа представлялось лишь знаком слабости. А между тем в голове его продолжали бродить воспоминания, почерпнутые из прежних его отношений с иудеями. Он не мог забыть, что тем, которые выказывали неприязненные отношения к древним патриархам и пророкам, как, например, Аврааму и Моисею, приходилось в конце концов плохо. С жадностью продолжает он выведывать от живших и посещающих Мекку евреев о ближайших подробностях этих событий. И с этого времени начинают выступать в коранах, вместо нескончаемо повторяемых беспрестанно вариаций на одну и ту же тему доказательств всемогущества Божия, почерпаемых из чудес природы, рассказы из библейской истории Ветхого Завета, в особенности те, в которых говорится о наказаниях, которым во все времена подвергались лжецы правды и противники древних пророков. Конечно, в изображаемом им Священное Писание несколько искажалось. Он уснащал библейские события разного рода прибавлениями и арабесками, которыми хаггада, талмудическое предание, иногда красиво и остроумно, но чаще всего до карикатуры и не в меру оплетало широкими лентами ствол первоначальных преданий. Добродушные жители Мекки, впрочем, едва ли что-либо и слыхали прежде про это. Но если араб сам мало способен к изобретению легенд, тем не менее прислушивается охотно к ним. Склонность эта сохранилась в нем и поныне. Ничего поэтому нет удивительного, что многие посторонние стали внимательно следить за тем, что говорит пророк, чего прежде как-то не замечалось, но подобное воздействие новой формы откровения продолжалось, во всяком случае, недолго. Находился тогда в Мекке один человек, по имени ад-Надр, сын Хариса, видавший свет; между прочим, побывал он и довольно долго прожил в Хире. Там удалось слышать ему увлекательные сказания о древних персидских царях и их богатырях Пехлеванах. К сожалению, как это часто встречается у так называемых полуобразованных, он был самым отчаянным вольнодумцем и с самого начала презрительно и насмешливо относился к божественному откровению, проповедываемому Мухаммедом. Раз в присутствии его пророк начал рассказывать о благочестивом Моисее и злом фараоне. Дав докончить пророку, он воскликнул: «О люди Курейша, я знаю более занятные истории, чем этот человек. Прислушайтесь только, я расскажу вам одну премиленькую историю, много почище его рассказов». И стал он рассказывать о царях Персии, о мощном Рустеме, о красавце юноше Исфендияре[44]. Толпу это очень заняло и отклонило ее внимание от серьезных предметов.