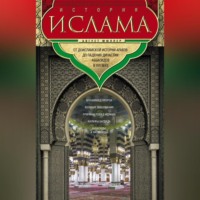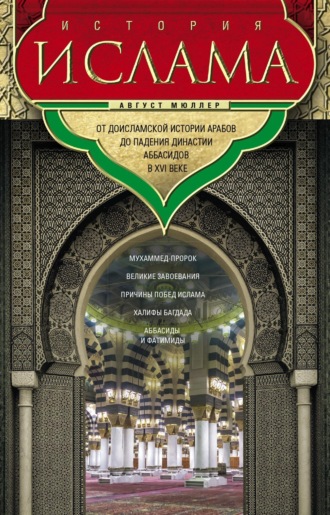
Полная версия
История ислама. Т. 1, 2. От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов в XVI веке
Поэтому тот, кто в качестве купца Мекки был в состоянии отправляться то на юг, к границам Йемена, отстоявшим миль на пятьдесят, то в города Сирии, втрое отдаленнее, не мог не обратить внимания на нравы и обычаи, равно как и на некоторые учреждения и воззрения иноземцев. Большего впечатления не могли, конечно, подобные мимолетные наблюдения произвести в общем на равнодушного купца. Поныне житель Востока неохотно отправляется в путь, даже европеец подмечает в чуждых ему странах прежде всего темные стороны. Поэтому ничего нет удивительного, если обыкновенный житель Мекки покачивал сомнительно головой при виде этих до смешного странных, по его понятиям, людей, которые в угоду своему божеству вовсе не так, как благоразумные паломники в Мекке, лишь для виду, а сплошь обрезали кругом всей головы волосы – эту гордость свободного человека, либо закупоривались десятками, а то и в одиночку в дома и даже в пещеры, высеченные в скалах, устраняя от себя всякую возможность приличного заработка денег и самомалейших приятностей жизни. Когда именно совершал Мухаммед свои большие путешествия, до или после своей женитьбы, до сих пор не вполне разъяснено, но известия о них так многочисленны, что не подлежат никакому сомнению. Если же на самом деле он посещал известные страны, то не могли же они не возбудить пытливости его ума по отношению того, что видел или слышал там про христиан. Иначе трудно бы было объяснить, каким образом оказался он вдруг совершенно иных воззрений, чем большинство его единоплеменников. Все же и в этом отношении осталось и по сие время многое невыясненным. По некоторым более или менее основательным предположениям, Мухаммеду в самой Мекке представлялось достаточно побуждений к размышлению о религиозных предметах.
Упадок старинной национальной религии становился очевидным фактом; по крайней мере некоторые прозорливые люди были этим поражены. Пророк не был из первых. Искали и до него некоторые выхода к лучшему. В Мекке проживали, положим непостоянно, по разным торговым обстоятельствам, иудеи, появлялись также временами христианские сектанты и анахореты, издавна рассеянные по северной части Аравии, бродили они же по всему полуострову в виде рабов, христиан из Эфиопии. Все они обладали большею частью слишком поверхностным знанием собственной своей религии, а в течение долголетней жизни среди язычников многое перезабыли, но все же, как-никак, должно было у них остаться хотя бы элементарное противоположение между монотеизмом и многобожием. Положим, даже твердо знающему свой катехизис христианину почти невозможно передать на арабский греческие, сирийские или эфиопские слова, составляющие основные понятия догматики – язык этот даже для Мухаммеда в этом отношении не всегда оказывался послушным, – все же одна эта трудность не составляла непреоборимого препятствия там, где приходилось формулировать разницу, скажем, между одной и девятью. Поэтому кто уже дошел до убеждения, что ничего не поделаешь с глухими и немыми идолами, мог даже и не выходя из Мекки подловить как-никак идею монотеизма. Весьма правдоподобно, что были и вблизи Мухаммеда люди, распростившиеся навсегда с языческими богами. Много подобных лиц называют даже поименно. Наиболее достоверно то, что рассказывают про Зейда, сына Амра из дома Абд аль-Узза, и про Барака ибн Науфаля, двоюродного брата Хадиджи. Оба они положительно отстранялись от язычества. Но Зейд не нашел никакого удовлетворения в том, что успел повыспросить у иудеев и христиан; как кажется, он успокоился на отвлеченном деизме. Между тем Барак известен, действительно, за последователя христианства с некоторым оттенком эбионизма[24]. Обращение с этими людьми могло, может быть, оживить и даже усилить те сомнения, которые питал Мухаммед к истинам древних языческих воззрений. Но этим, конечно, нисколько не умаляются заслуги пророка, который совершеннее сумел проложить новый путь, он не удовольствовался, по примеру тех, одним самоличным отречением от старых предрассудков, а выступил смело на поприще бесстрастного просветителя народа. Долгое время бродили в голове Мухаммеда тяжкие думы и воспылали наконец пламенем, угрожавшим одно время испепелить самого его, пока наконец человек этот, по природе такой застенчивый, опасливый, не обрел в себе силы выступить пред целым народом со свидетельством истины и начал нескончаемую войну с косностью и предрассудками.
До сорокалетнего возраста ничего особенного, что могло бы нарушить внутренний покой, с ним не происходило. Он уже успел выдать замуж одну из старших дочерей, вторую – красавицу Рукайю – за одного из двоюродных братьев ее. Общественные отношения его становились все благоприятнее, и он занял между своими согражданами положение довольно почтенное. Предание даже гласит, что ему предоставлена была лет за пять до его выступления в качестве пророка довольно выдающаяся роль при возобновлении потерпевшего от горных ключей здания Каабы. Без сомнения, следует это считать за лишенную всякого основания легенду. Но он уже был в состоянии, ради успокоения своей собственной совести, дабы хоть чем-нибудь вознаградить заботы дяди Абу Талиба, покровителя его юности, усыновить сына его Али. Не нужно ему было также много раздумывать, чтобы дать свободу и усыновить Зейд ибн Хариса, раба-христианина, служившего у него уже давно, которым он привык особенно дорожить. Однако, несмотря на все, расположение его духа постепенно все более и более омрачалось, он не чувствовал себя счастливым. Природное меланхолическое настроение принимало мало-помалу зловещий мрачный оттенок. Зачастую углублялся он надолго в пустынный лабиринт скал, окружавший родной город со всех сторон. По целым дням пропадал там. Из позднейших его проповедей, в том виде, как они сохранились в Коране, мы можем отчасти догадываться, какие мысли роились тогда в его голове и бременили его сердце. О том, что поклонение единоземцев идолам есть и заблуждение, и грех пред единым истинным Богом, знал он уже давно. Но какова задача, ему предстоявшая? Страшный суд, о котором рассказывали ему христианские его друзья, должен был, конечно, пожрать этих безбожников. Что же предстояло ему самому, дабы уклониться от подобной судьбы? Со страхом вопрошал он: «Господи, что же мне делать, дабы спастись?» Этот вопрос для человека поверхностного либо по характеру гибкого не представлял никаких затруднений, но для его жаждущей истины души потрясение было слишком глубоко и тем еще глубже, что некоторые религиозные понятия, которые он успел выпытать от своих друзей, стояли в его уме особняком, без всякой связи. Сам же он, по нашим нынешним понятиям, был человек совершенно необразованный, вполне неспособный к логическому обоснованию ряда отвлеченных идей. У него почти отсутствовала всякая возможность доработаться до ясного понимания всего этого даже для себя лично.
Обуреваемый подобными сомнениями, блуждал он, так рассказывают, однажды в месяце рамадане[25], по своему обыкновению, к северу от Мекки, в пересеченной отрогами гор местности. В центре ландшафта воздымалась гора Хира, а у ее подножия зияла пещера, любимое местечко искони страстного мечтателя. Терзаемый неотступными мыслями, впадает он наконец в беспокойную дрему. «Тогда охватило меня во сне, – рассказывал он позже, – смутное ощущение, будто некто приблизился ко мне и сказал: читай! Я же ему ответил: нет, не могу. Затем тот же некто сдавил меня так, что я думал, что умираю, и повторил снова: читай. И опять я отказался. И снова меня сдавило, и я услышал явственно: читай. Во имя Господа твоего, творящего – сотворившего человека из кровяного комочка, – читай. Господь твой ведь всемилосерд. Он даровал знание посредством пишущей тростинки – Он научил человека тому, чего он не знал. Тогда я прочел сие… И затем видение исчезло. И я проснулся. И было мне, как бы слова сии были начертаны на моем сердце»[26].
Видение это произвело на Мухаммеда действие поражающее, можно сказать, уничтожающее. Словно одержимый, появился он пред Хадиджей в наивысшем возбуждении. Как умела, успокаивала она его, а тем временем послала за Бараком, с которым и прежде муж ее не раз беседовал о различных высоких предметах. Когда передала она о случившемся, приглашенный произнес: «Если это так, о Хадиджа, дух святой[27] снизошел на него, тот самый, которому благоугодно было явиться Моисею; стало быть, он пророк народа нашего». На время Мухаммед успокоился. Но следовало ждать повторения явлений, чрез некоторый промежуток времени[28], и опять вернулись сомнения с двойной, устрашающей силой, приводя несчастного чуть не в отчаяние. И зашагал он без перерыва снова и снова по окружающим горам. Часто приходила ему на ум мысль: как бы хорошо броситься вниз с этих крутых скал и отрешиться раз навсегда от ужаса, который заволакивал его мозг. И вот в одну из этих минут осветила его небесная ясность. Явление свыше – без слов, но всеподавляющее! Оно исполнило его сердце давно желанным сознанием. Но одновременно он почувствовал головокружение. Потрясаемый как бы лихорадочною дрожью, спешит он домой. «Заверните меня!» – взывает он к своим. Свершилось. И, охваченному сильным нервным потрясением, ему чудится, что он слышит следующие слова (сура 74, 1): О ты, закутанный, встань! Зову тебя, истинно так! Господа своего, да славь его! Одежды твои, да очисть их. От нечистоты да беги. Не будь добр ради корыстных целей. И Господа твоего чти неизменно![29] С этих самых пор, передает традиция, шли откровения одно за другим, постоянно, и так было именно потому, что отныне он был уверен в своем деле и не ждал более дальнейших сверхъестественных явлений; он принимал без дальних околичностей за божественную истину все вырабатывающиеся в его голове представления, появлявшиеся в состоянии непрестанного внутреннего возбуждения.
Нет никакого сомнения, что известия эти во всем существенном основывались на глубокой психической истине. Небесные явления, которые окончательно вдохнули в него сознание божественности его послания, повторялись и позднее. А между тем за пересказ их жители Мекки укоряли его во лжи. Он сам описывает это следующим образом (сура 53, 4): «…не иное что было это, как небесное откровение. Оно даровано ему (вашему земляку) силою сил – Всемогущим. И вознесся Он, будучи в высшей сфере небес. Затем стал приближаться и опускался – пока не остановился в отдалении двойного полета стрелы или еще несколько ближе. И Он открыл своему рабу божественное откровение. Не солгало сердце, что видело. Разве вы осмелитесь оспаривать хотя что-либо из того, что он видел? И вот еще раз видел он его спускающегося – до древа Сидра окраины[30], при котором сад пребывания. Как вдруг дерево покрылось прикрытием – это не было обманом глаз, и оно не ускользнуло от его зрения. Истинно говорю вам, тогда он узрел из чудес Господних величайшее!» Если бы Мухаммед был обманщиком, каким вначале хотели представить его земляки, а ныне за ними повторяют весьма многие писатели, он бы не преминул вдаться в подробное описание небожителя, наделив его множеством крыльев и т. п. Слишком ощутительно его убеждение, хотя и тщетно силится обнять словами впечатление небесного явления. Поэтому не остается никакого сомнения, что он его действительно глазами видел. Сверх того, получается благоприятное предубеждение в его пользу и по всему остальному, о чем мы передавали выше, сообразуясь с преданием. Чувствуется во всем путеводная нить, внутренняя связь событий. Таким образом является некоторая возможность решить слишком часто разбираемый вопрос – был ли Мухаммед действительно пророком либо нет.
Конечно, разрешение научным путем этого вопроса допустимо лишь в том направлении, в коем один из выдающихся биографов Мухаммеда его характеризирует. Он говорит: «У нас, в Германии, слово «пророк» лишили всякого значения и затем утверждают, что Мухаммед был именно пророком; если подвергнуть тому же самому процессу слова «дом» или «гора», – говорит он, – можно сказать в одинаковой мере основательно, что Мухаммед был домом и горой». Если же для кого-либо имя пророка имеет значение не в чисто историческом смысле, а в смысле какой-нибудь теологической системы, то над значением вовсе не приходится голову ломать при постановке в таком духе вопроса. Ибо его догматика сразу же выступит на первый план и ответит: мухаммеданину – утвердительно, а правоверному иудею либо христианину – в отрицательном смысле. Нам же предстоит иметь дело с историческим понятием и искать ответа в самой истории. Итак, насколько нам известно, пророки появлялись только среди семитов, а специально, если мы забудем на время Мухаммеда, только среди иудеев. Постепенное развитие пророчеств у израильтян не подлежит, конечно, нашему исследованию. Можем только отметить, что в наивысшем смысле явление это, исторически совершенно ясное, вовсе не двусмысленное и вполне определимое. Пророком у израильтян считался человек, глубоко охваченный религиозной идеей, находящийся в исключительном служении ей. Единственной задачей своей жизни поставляет он следить за всеми разветвлениями в мире чувств этого основного понятия, а так как, с другой стороны, считает охватившую его идею за проявление божеской воли, которой одной и приписывает все переполняющее его абсолютное самосознание, то и то и другое постепенно сливаются воедино. В конце концов одушевляющую его идею принимает он за божественную истину. Рассматривая слово в таком именно смысле, трудно отказать Мухаммеду в имени пророка. Нельзя же в самом деле отрицать, что вследствие необычайно чувствительной своей конституции, подверженный всевозможного рода нервным припадкам, которые иногда, как, например, при обоих вышеприведенных случаях, доходили до галлюцинаций[31], у него, по его природе, выступало тогда религиозное внутреннее возбуждение, достигавшее иногда кульминационного пункта. Поэтому понятным становится, что, согласно не расходящимся друг с другом и, несомненно, достоверным преданиям, эти откровения, по крайней мере в большинстве случаев, совпадали с подобными припадками. Но попутно следует отметить самым положительным образом, что в подобном состоянии он оставался, и в полной мере, человеком совершенно вменяемым. Потому нельзя давать веру тем поверхностным воззрениям, согласно которым все его учение построено было лишь на галлюцинациях и бессвязных, непроизвольных речах. По крайней мере все время, пока он пребывал в Мекке, даже и в нормальном состоянии, дело его представлялось ему во всей полноте и ясности, нисколько не меньших, чем в случаях необычайного нервного напряжения. Чего только не наговорили на него ненавистники: и сумасшедший-то, и фантаст, и обманщик, – но последовательная уверенность всех его поступков, общность его направления ни разу, однако, его не изобличили и выступают даже и поныне слишком ярко в Коране. Самые слабости логически не вышколенного мышления недостаточны, дабы свидетельствовать о психическом расстройстве. Таким образом, принимая во внимание все эти обстоятельства, на откровение Мухаммеда нельзя глядеть как на простое порождение расстроенного болезненного мозга или бред глупого мечтателя. Тем более не подлежит никакому сомнению, что по крайней мере в период пребывания своего в Мекке он поступал искренно и честно; стоит только вспомнить тот священный ужас, который предшествовал решительным видениям, ту достойную действительно глубокого удивления выдержку, с которою он, человек вовсе не храбрый, более десяти лет, несмотря на страшнейшие преследования, а наконец и угрозы, сыпавшиеся отовсюду, лишить его жизни и не предвидя ни малейшей надежды на успех в будущем, продолжал все-таки свою проповедь. Разве все это не достаточные доказательства того, что, подозрительная вначале, далее и для него подавляющая сила идей, охватившая и доведшая независимо от воли к твердому убеждению, что эти понятия, напиравшие отовсюду на его мышление, естественно, стали для него откровением, исходившим от самого Бога? Вот тот облик истинного пророка, который мы пытались начертать по нашему крайнему разумению. В имени этом отказать Мухаммеду вправе, конечно, каждый, кто полагает себя посвященным в таинства божественного руководительства народами и вполне убежден, что в такой-то период времени появление пророка невозможно. Подобное догматическое ограничение приговора обыкновенно покоится на самых уважительных мотивах, и не без некоторого основания можно также сказать, что и в истории не встречается вообще абсолютно бездоказательно. Но все же не следует забывать, что существует один только универсальный способ воззрений при недостаточности человеческих познаний, и это – отнестись более или менее беспристрастно к вере и образу мышления чуждых народностей.
Поверьте, не из легковерия и вовсе не с целью иронизировать слегка озаглавлена была эта глава – Мухаммед-пророк. Но, с другой стороны, считаю своим долгом отклонить всякое подозрение в преувеличенной окраске и потому спешу прежде всего формулировать две оговорки, обоснования которых, само собой, вытекают из дальнейшей истории Мухаммеда.
Во-первых, даже самое поверхностное сравнение Корана с писаниями пророков израильских дает сразу понять, что религиозные идеи аравитянина были незначительного сравнительно достоинства. И этому нечего удивляться. Длинным путем проходили пророки от Саула, пока не достигли второго Исаии. Мухаммед же был в одно и то же время и последний, и первый пророк своего народа. Ничего мудреного поэтому, что он охватил лишь одну сторону божественной сущности: понятие о святости от него совершенно ускользнуло, а также основы какого-либо более глубокого этического порядка жизни. Но то, что представлялось необходимым даже его несовершенным воззрениям на нравственные законы, становится по отношению к столь многообразно возмутительному нравственному равнодушию его современников уже значительным шагом вперед. Конечно, трудно безусловно обвинять его за то, что весьма часто не решался переступить границы своей национальности, в позднейшие же годы даже находил нужным делать еще дальнейшие уступки. Так что в конце концов на его учение легла резкая печать не устранимого никоим образом партикуляризма. Но это постоянное опасение, как бы не переступить границ национализма, повело постепенно к еще более худшему, что и составляет сущность второй моей оговорки.
Будучи арабом, Мухаммед никак не мог понять, чтобы истина не могла восторжествовать на этом свете еще при его жизни. Еще менее допускал он понятия свободы совести, отделения государства от церкви и т. п. Припомните, даже на Западе не далее как в XVI столетии было признаваемо всеми, что еретик в равной мере и государственный преступник, а потому с ним следует поступать соответственно. Тем менее мог житель Востока, и к тому же в VII столетии, видеть в неверующем что-либо иное, как не изверга, и едва ли пророк подумал о том, что Господь в своем первом откровении говорит о тростинке для писания, а не о мече. Нечему удивляться поэтому, что у Мухаммеда по отношению к своим врагам нет и не могло быть никакого нравственного смягчающего чувства. Пока проживал он в Мекке, вечно теснимый, эта темная сторона его существа и не могла развиться; религиозная идея была единственным его побуждением, никакие мирские веяния не могли ее потревожить. И это начало ислама напоминает состояние христианства в I столетии. Но как это последнее при Константине уже уклонилось от изречения Господнего «Мое царствие не от мира сего», так же точно наступило искажение учения ислама еще при жизни основателя. Не лишено поэтому справедливости указание, что для памяти арабского пророка было бы благом, если бы жизненный путь его пресекся одновременно с бегством из Мекки. Но далеко не самое безотрадное представляет собой неукротимая беспощадность, с какою часто выступал он для уничтожения врагов своих; это была древняя черта арабской суровости. К тому же можно привести в пользу его много случаев, где проявлял он необыкновенную кротость. Более же всего возмущают его коварство и систематическая лживость, которые все сильнее и сильнее стали проявляться со времени переселения его в Медину. И в Мекке, даже несколько позднее, осыпаемый насмешками и уликами противников, пророк пробовал иногда выставлять своеобразные аргументы и пользоваться довольно сомнительными увертками, чтобы как-нибудь выпутаться из сети противоречий, опутывавших его учение, что более или менее объяснялось отсутствием навыка логического мышления. Но в Медине сознательная лживость и вероломство становятся вскоре как бы внутренним убеждением. Положим, это тоже наследственные народные черты, но в соединении с официальным благочестием, вовсе не требовавшим лицемерия, становятся они для нас невыразимо противными. В его руках с тех пор религия стала орудием политики, и не одной только церковной. Вначале, может быть, слегка, затем наполовину, а наконец совершенно сознательно пользуется пророк ложью для того, чтобы провести во что бы то ни стало истину. Насколько было в этом личной инициативы, насколько неизбежной закваски арабской крови, вопрос излишний. Если бы кто вздумал заняться разрешением его обстоятельно и разобрать со всех сторон, едва ли бы мог, думается нам, исключить как одно, так и другое.
Само собой, что Бог мог сделать Мухаммеда лишь своим доверенным лицом, дабы сообщать волю свою народу. На это указывают достаточно определенно слова второго откровения: «Встань! Зову тебя, истинно так!» Влияние личности пророка благодаря последнему видению возросло необычайно и немедленно отразилось на окружающих его. Вся семья, один из ближайших его друзей тотчас же уверовали в божественность посланничесгва и подчинились духовному руководству его. Кроме жены и дочерей были это оба им усыновленные Али и Зейд. Первый из них, положим, был еще слишком мал; что же касается Барака, то к этому времени, как кажется, он уже не был в живых. Присоединился также аль-Атик, известный более под прозванием Абу Бекр[32], зажиточный, всеми почитаемый купец из семьи бену-теим, многие годы находившийся с Мухаммедом в тесной дружбе. Как рассказывают, был он двумя годами моложе пророка, человек спокойный и умный, при этом прямой и надежный, кроткий и добродушный, но когда требовалось обстоятельствами – неуклонно твердый. Это была как раз подходящая личность, чтобы стоять возле Мухаммеда, нравом меланхоличного, легко воспламеняющегося, но так же приходящего в уныние. А потому зачастую в делах житейских пророк выказывал всю неустойчивость натуры своей. Ему нужен был такой помощник – он предохранял его от преждевременного падения, помогал ему в осуществлении трудной задачи. Дружба эта в высокой степени возвысила нравственный облик Мухаммеда в глазах всех. Этот человек к тому же беззаветно верил в учителя. Не связанный никакими интересами, ни родственными отношениями, в течение всей с ним своей жизни ни разу не усомнился в чистоте его побуждений, неуклонно верил в истину божественного его посланничества, и даже тогда, когда ближайшие родственники приходили иногда в недоумение, он повиновался безусловно. Посредничество Абу Бекра доставило Мухаммеду еще нескольких верующих, которые в истории ислама заняли немаловажную роль, таковы: Саад ибн Абу Ваккас, позднейший завоеватель Персии; Зубейр ибн аль-Аввам и Тальха, сын Убейдуллы, все трое дальние родственники пророка или его друга. Но, по-видимому, все они были тогда почти дети, а предание впоследствии утверждает, понятно устами потомков, что эти предки их принадлежали к первым последователям пророка. По тогдашним понятиям арабским, Мухаммед счел своей обязанностью обратиться прежде всего к своей собственной семье, в самом широком смысле, то есть к своим дядям и двоюродным братьям и вообще ко всем родственникам рода Хашим. Поэтому собрал он всех их и изложил перед ними свое учение. Но в их глазах он был такой же, как и всякий другой член семьи. Иначе курейшиты и не могли рассуждать. Дядя его Абу Лахаб, ожидавший сообщений о каком-нибудь серьезном купеческом предприятии, даже вспылил и крикнул сердито: «Черт бы тебя побрал! Неужели затем только нас и позвал?» С явными знаками неудовольствия разошлась семья. Если свои же ему не поверили, понятно, слаба была надежда убедить чужих. Ничего поэтому нет удивительного, что возбуждение момента вдохнуло Мухаммеду несколько желчью облитых строф Корана. В них он действительно отправил к черту недружелюбного дядю и заставляет его там гореть в геенне огненной, а его же собственная жена с веревкой на шее должна подкладывать под костер поленья. Эта малородственная, резкая выходка страшно возмутила Абу Лахаба. Предполагаемое обручение сына его с дочерью Мухаммеда Рукайей сразу расстроилось. Произошел полнейший разрыв со всей семьей. Во всяком случае, по-видимому, вскоре красота дочери дала отцу другого зятя, а пророку нового последователя: Османа, сына Аффана, из высокочтимой семьи Омейи. Но это одинокое обращение не возымело никакого влияния на большинство курейшитов, тем более что Осман, хотя и зажиточный и красивый, не обладал энергией и считался всеми за заурядного человека. Можно присоединить и еще несколько лиц к этим новообращенным; в общем, число первых последователей доходило, как говорят, до сорока трех. При этом следует заметить, что большая часть маленькой общины состояла из бедняков и рабов. Понятно, они более других прислушивались к проповеди «о гневе Божием на их меккских господ и о воздаянии на том свете», зажиточным же было очень хорошо и здесь. Это обстоятельство сделало еще более несимпатичным все движение в глазах почтенного сословия; а когда продолжающееся равнодушие к новому учению разожгло пророка заговорить более страстным языком, то дошло наконец до открытой вражды. То, что какой-то незначительный человечек в разных потайных собраниях толкует про запутанные материи, которыми сам заразился от разных христианских сектантов, для крупных купцов было решительно безразлично. Но он осмеливался поносить местных богов, унаследованных от предков, без которых нельзя было никак обойтись, ибо паломничество в Мекку стало бы делом невозможным, а это так необходимо для благосостояния города, всего торгового союза и ярмарок. Долее терпеть было невозможно. Что же это такое, наконец: одурачивает рабов, вбивает им в голову, что они лучше своих господ! Положим, неудобного фантазера не так-то легко было попросту устранить – все еще стоял он под покровительством своего дяди Абу Талиба, хоть и бедного, но всеми уважаемого человека. А тот жизнь был готов положить, чтобы защитить Мухаммеда от всякого нападения. Да и сцепиться-то с Абу Талибом не так-то ловко. Вся семья Хашим как один взбунтуется, хотя и слышать не хотела про дурачества Мухаммеда, но за каждое оскорбление чести семьи ответит, понятно, междоусобной войной. То же самое можно было ожидать и от остальных семей, имевших последователей в новой партии. Поэтому приходилось волей-неволей не задирать свободных людей, в особенности же таких, которые в материальном отношении не находились в зависимости от своих более богатых свойственников. Пока довольствовались одной руганью да насмешками из-за угла, а то при случае затевалась и легкая драка. Но рабам, состоявшим по отношению к своим господам в положении бесправных, пришлось плохо; с ними стали обходиться не только скверно, но и нередко подвергали мучительным истязаниям, в случае когда они упорно отказывались поносить Мухаммеда или же порывались открыто не признавать старых богов. Абу Бекр, по собственному побуждению, употребил часть своего имущества на выкуп некоторого числа особенно угнетаемых. Другим рабам внушил пророк, дабы они, сохраняя в душе истинное верование, исполняли наружно предъявляемые их господами требования во избежание дальнейших мук. В числе выкупленных был один эфиоп, по имени Билаль. Позднее благодаря своему зычному голосу он был сделан первым призывником на молитву (муэдзином) правоверных.