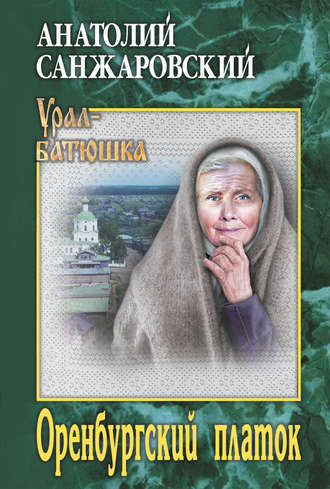
Полная версия
Оренбургский платок
На всё вот это письмецо, что в спехе настругал химическим карандашом, одна-разъедина точка прилегла только в самом в конце да где-нигде покидал крючья запятых.
А так рука у Миши хорошая. Буковки живые всё. Глазастенькие. Сыто и весело ровно стоят улыбаются в рядках. Не спотыкаются, не валятся, как у меня, со строчек.
«Не волнуйся мы еще заживём по-настоящему».
Это из другого ветхого ободрышка.
Военная заверюха подломила меня. Месяца на три затолкала в больницу. Туда соседи и принеси суровую открытку. Слева вверху чёрная наша звезда с серпом и молотом в серёдке. И вправо чёрным предписание:
Будь бдителен, сохраняй военную и государственную тайну. Разглашение военных секретов есть предательство и измена Родине.
Справа от адреса штампик с гербом.
Просмотрено Военной Цензурой
Кто же это бросает мне такие строгие послания? Отпускаю глаза на низ. На отправляльщика.
Гм-м…
ППС 1419—1279-й стрелк. Полк 3-й б-н.
Политрук 3-й роты ПТР Привмин.
Переворачиваю почтовую карточку.
15/VII – 42 г.
Уважаемая Анна Фёдоровна!
Уже более двух месяцев как Ваш муж Михаил Иванович Блинов не получает от Вас писем, это отражается на его настроении. Он очень беспокоится о Вас и детях.
Ваш муж, отличный боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии и заслужил, что бы ему из дому писали письма почаще.
Может быть Вам нужно в чем нибудь помочь, то в пределах наших возможностей, мы можем это сделать. Если Вы сами не хотите огорчать мужа, то пишите ему почаще.
Напишите мне, если будет время, кк Вы живете.
С приветом
Политрук 3й роты ПТР Привмин
Досекретничалась девка!
Боялась правдынькой тревожить Мишу.
Так он, колотун, сам побёг по буграм[130].
С политруком я не ввязалась в переписку. Неровно стояли. Да и с чего возради чужому человеку свою душу выворачивать?
А Мише покаянно сочинила.
Мол, вконец замоталась. Круглосуточная работа, дети, козы, огород…
Про больницу и не упомянула.
Так он прислал из военной больницы. Из госпиталя. Вот это коротенькое. Помечено двадцать пятым декабря сорок второго. Последнее.
Дорогая моя Нюра я лежу в госпитали в Баку ранен я тижоловато в ноги но наверно мы из Баку уедим в Среднюю в Азию На этот адрест писмо не пиши я тебе сам напишу другоя я тебя только известил, что я ранен Нюра не бойсе что я уже совсем калека Писать больше нечиво дорогая моя супруга По всему видать что после лечения я приеду домой или в отпуск или насовсем лечат нас хорошо
До свиданья многоуважаемая моя супруга Анна Фед и многолюбящие детки мои доча Вера и сыночек Шура Желаю быть в жизни вашей всего наилучшего Блинов М И Писал лежа.
Я знала, в обмен на жёлтинские платки заграница слала нам в страну лекарства.
Может, думала я в ночной проходной за спицами при коптилочке – сторожу на дежурствия керосину не давали; жгла я помалу свой, из дому, на всё про всё получала я того керосину один литр на месяц, – может, думала я, самые разнужные лекарствушки за мои за платки попанут и в Баку на Мишины на ноженьки?
На ту пору в Баку жила его сестра.
В письме она рассказывала, как перед концом Михаил очень просил капусты. Купила капусты, крутнулась нести.
А тут дом обворовали. Паспорт стащили.
Живой рукой выхлопотала паспорт. Примчалась – вечор госпиталь пробомбили и Михаил погиб при военном действии.
Погиб.
В возрасте Христа.
Вскорости пришла мне выключка[131]..
«Сорок пятому году не досталось тетрадей —За войну всю бумагу похоронки истратили…»[132]20
У хорошего коня ровный бег,
у хорошего человека твёрдое слово.
В тридцать четыре я овдовела.
Но ещё долго давала вид хороший.
До сорока пяти всё звали девушкой. Всё сватались. Да только была я ко всем мышиным жеребчикам[133] дерзка. С перевивом.
Последний отказ мой был в сорок пять.
Прискакал тогда осенью один саракташский. Нагрянул из самой районной столицы! Стало быть, дери нос к небу. Кавалер всерайонного масштаба! Шишкарь!
Поздоровался с чересчур старательным поклоном, заложил руки за квадратную спинищу метр на метр, распавлинился и ну на рысях молча метаться с перевальцем из угла в угол по комнате, ровно тебе муравей в горячем котле.
Иль его, думаю, волнение забирает, на что никак вроде не похоже. Иль крупно запаздывает ещё куда. А сюда дождюрой его вбило. Пережидает.
А что, думаю, вот забегается бабыляй в смерть? Угорит? На кой-то мне такой барыш? Я и спроси масштабного жениха (а громадища был, с печку):
– А вы извините мне, кургузой душе, мою жёлтинску прямоту. Вы что ж, укушенный[134] будете?
А он как с перевальцем распохаживал, так и распохаживает всё в одной силе.
Чудится, ни под каким видом не слышит.
Только подумала я, что не слышит, как он, чисто тебе в пику, посерёдке комнаты стал хорошим столбом и спокойнушко так входит в ответ. Будто никакой молчанки и шнырянья не было и в помине:
– Нет. Из нетронутых буду я… Не разводник…[135] И дня не цвёл в семейном раю. Но жутко позывает. Оченно чувствительно кизикает меня это дело. Таких в Саракташе и в округе на две тыщи вёрст не водится. Холостой – полчеловека! А в немецкой стороне цена холостому и того плоше. Знаете, как у немцев будет холостяк?
– Скажете – узна́ю.
– Альткинд. Перевести если – старый ребёнок. Страшно-то что! Навроде и не был взрослым, навроде ребятёнком так и износился. Остарел. Никакой почки от тебя. Никакой веточки. Никакого своего и самого тоненького корешка не пустил в русский в народушко. Так и засох дитятей-пустоцветом.
– Ну на что эдако стращать-то себя? – Жалость берёт душу мою в мягкие коготочки. – Повстречаете ещё.
– Вдогонку своей судьбине я не поклонюсь. Будто по злому року моей фамилии всё рассохлось… Велик телом, да мал делом… В моём возрасте уже… На лужок с чужими внучками не жиманёшь. Зазорно да и некогда. Всё то война, то работа… Ждучи поп усопших, да и сам уснул. За беготной за работой за моей – а, поперёк её! – так вот скапустишься и жениться позабудешь. А ведь грешен. Ну манит же, чтоб-с и жена сияла при мне в ясной наличности, и бельмешок[136] чтоб-с святой окроплял водичкой своей мне коленья по праздникам. Хоть бы одинёшек колосочек выколыхати на разводку… До-о-о-ро-го бы дал, абы до внуков до своих докашлять. Эвона какой я наполеонище! А сам же, каюсь, боюсь вашу сестру. Будто землетрясения векового!
– Помилуйте! Да откуда у вас всё эти страхи? Вы ж и дня не терпужили в семейном звании!
– Если б я ещё и не слышал. Не закладывайся за овин, за мерина да за жену! Железо уваришь, а злой жены не уговоришь. Была жена, да корова сожрала; да кабы не стог сена, самого бы съела! О! Или… Дважды жена мила бывает: как в избу введут да как вон понесут! Э как! Это в большую редкость, какой супружник без претензиев к хозяйке. А то только и слышишь: пила деревянная, бензопила «Дружба», кочерга калёная, гусыня шипучая… Чего-чего ни слыхал, а всё ж туда зовёт. К пилке. К «Дружбе». Устал, поверите, мандражировать. Прямо извилины задымились… Вот насмелился, глядючи под заступ, криводуй несчастный.
– Да-а, – покачала я головой. – Года ваши не мальчиковые. За полста занесло?
– А то! Ещё… Не в прошлую вот весну, не в ту – а в по-за ту ещё весну… Позалетось…[137] Навпрочь отгодился!
– Захолостовались…
– Захолостовался, вселюбезная Анна Вы Фёдоровна…
Он зачем-то наклонился к сапогу, поднялся скалой и только со всего саженного плеча а-а-а-ах! вилкой в стол и нехорошо так засмеялся, запоглядывал, как вилка, что на палец вбежала в доску, по-скорому кланяется то в его, то в мою сторону:
– Два удара – восемь дыр!
На всякую случайность отхлынула я подаль к порожку.
Шлю вопрос:
– Это что ещё за фантазия на вас наехала?
– А такая моя фантазия, Анна Вы свет Фёдоровна… Нету у Вас друга ближе платка. Никуда-то он, во всю голову цветок, не уйдёт от Вас, не уйди Вы сами… Так нету, – он тяжело провёл широкой, на манер лопаты, ладонью по совсем лысой голове, – так нету и у меня, пня кудрявого, подруги против этой щербатой вилки. Всю послевоенку раструсил я по командировкам. С начала ещё войны и до сёдни при мне за голенищем живёт. По все дни кормила меня эта вилка Два Удара – Восемь Дыр.
Он подал мне свою вилку.
Смотрю, на черенке гвоздком так наискоску нацарапано:
«Рассыхаев. Сталинград. 26.10.41 – Берлин. 10.5.45».
Я ахнула:
– В такой час прокормить!
– И потом… Привык, знаете, как к живому к человеку. Ну да ладненько… Ну что мы всё про меня да про меня? Полно про меня. Давайте про нас. Не надоело Вам с одними с этими стенами? Не кусаются? Что б Вам да не пойти за меня?
«Однако прыткий, – думаю. – Как впросте… Такому легкодушному присвататься, что воды попросить напиться».
– А зачем, – в ответ это я, – именно вот мне, чужемужней жене, вы всё это говорите? На что я вам, если по-хорошему, пятая дама в колоде? Да с двумя гаврошками?[138] Ну на что вам старая коряга? В Жёлтом у нас беда эсколь вдовушек-армеек[139] и подмоложе, и послаще глазу! Ну на что вам безвремянка?[140]
– Я множко раз видел Вас на улице со стороны. Потому я и здесько. А ещё… Именно Вас люди богато хвалили. Не манихвостка[141] какая там… Жену выбирай и глазами и ушами.
– С бухты-барахты кидаться в такой омут? Да вы навовсе из ума выпали! Иль вы безбаший?[142] Иль вы до сегодня и разу не учёны, как это слушать людей? Людям что карася повернуть в порося, что из мухи выработать слона. Дорого не возьмут. Люди наколоколят, а меня в полной в точности вы не знаете… А мне палец под зубы не клади. Кусаюсь по первому разряду.
– Мне нравится, как Вы разговоры разговариваете. Не хвастаетесь… Не выхваляете себя… Меня предупреждали, что Вы колю́стая, ответите на первый раз с ядком. Но сразу же и успокоили: не бойтеся её. Она не мармонка[143], не какая там вообще Гюрза Мамбовна[144]. А до крайности добрая…
– Ах, мать твою под тютю! – окрутела я. – Была добрая, да вся вышла!
Убрался он с моего духа на нолях.
Ишь, короед окаящий![145] Утешил! Не какая там Гюрза Мамбовна!.. А чтоб тебя баба-яга в ступе прокатила до самого до твоего Саракташа!
Марец[146].
На дворе уже рядилась молодая весна.
Под окнами темнел грязный снег.
Я лёжкой лежала с гриппом.
С вечера трудная куражилась надо мной температура. Жар-сороковушка. К свету вроде помягчело.
Вижу: дверь под слабой пружиной приоткрылась на палец, ясно нарисовалась Пушкова лапка. Под её рывком дверь насилу подалась ещё. Неслышно, без звука серой лентой втёк отощалый гулливый коток наш.
Уже при солнце (полоска его отогревалась ещё живым вечорошним теплом на оконном боку расписанной цветами печки) заявился с грязными ногами рыцарь ночи со свидания. Постоял на тряпке у порога – вытер! – выгорбился в беге. Толкнулся в протянутую руку мою. Трётся. Как же, соскучился за ночку…
Коты – ну хитрая что да ласковая публика.
И умнющая же!
Потёрся с минуту какую, поворковал, будто попросил прощения за шалые ночные вольности во дворе с блондинистой вавилонской блудницей Сонечкой (они «дружили домами»). И снова на улицу. К бедовой к соседушке своей Сонюшке Вовк.
Только его и видали.
В марте и котов забота сушит…
Едва пропал с виду Пушок мой, ан слышу слабый хлипкий стон снега под ногами и стук в дверь.
– Сыновец! Сашоня! – отрываю парубка от уроков; на высоких тонах учил взубрятку какой-то стишок. – Сынок! Глянь-ка ну, кому это мы край спонадобились там.
Саша живой ногой обернулся в момент.
– Ма, – шепчет, – Два Удара – Восемь Дыр! Не отворять? А?
– Раз нагрянул этот погостёна[147], пускай.
А сама думаю: «Какое движение… Один жених на двор. Другой со двора. Везетень весь день! Весна что значит…»
Комната враз стала тесной, зябкой, как только усунулся горой этот старый бабский угодник.
Не успел ноги за порог занести, уже лыбится. С такого с дурахи много масла не выбьешь.
Молчаком пихнул кепку под мышку, одавил ладонью остатние сивые уже кудерюшки над ушами-лопушками. Прикачнулся к дверному косяку.
Стоит себе полыхает бестолковой радостью на все боки.
– Здравствуй, хозяюшка! – горлопанит. – Не мало ли Вас? В тоске не ждали ль нас? Весела ли Ваша хата? Не простужается ли Ваша госпожа печка? Не кашляют ли Ваши вельможные панночки мышки-норушки? Здоровы ли Ваши кокурки и пироги?
И потише, с поклоном:
– Низкий поклон Вашей большой пригожести…
Проговорил Рассыхаев это вроде как не без смущения.
Потупился.
Приветом своим распотешил меня этот слонушка.
Но виду я никакого не подаю.
Знай, баба, свои спицы да смалчивай.
Лежу не улыбнусь в ответ. Приподзакрыла чуток глаза. Выжидаю. Хочу поймать, а куда это гужеед гнёт?
А может, кумекаю, кокурошник[148] выронил из памяти, за каким кляпом залетал сюда давеча? Ему что, брякнул – слово улетело. Взабылось…
Ан нет! Слышу, как он тихо-натихо пеняет себе:
– Не торопись… Человек ты простой, у двери постой… По барину говядина… Стой и жди! Понял, разнесчастный двукочий верблюд?[149]
Наверное, подумал он, что по ветхости я не могу прослышать его. Но я уловила всёшенько до печального вздоха. Однако удержала себя в прежней линии. Подмалкиваю.
Ждёт-пождёт он – я всё промалкиваю, и он – ну тишкину мать! – опятушки за своё романсьё. Руки в боки. Вытянул в изгибе шею.
Навадился Рассыхаев петь!
– Милушка, побойся Бога!Полюби меня навек.Полюби меня навек,Я хороший человек!Я всё отмалчиваюсь.
Бросил он гудеть. В грусти сронил руки с боков.
– Какая Вы молчажливая…[150] Впряме икона… Я помню, как Вы даве обкормили меня безбокой дыней[151]. И всё одно я снова тут… Прости, свет душа… Повиниться пришёл… И… Невжель за зиму не извелись? Удобствия какие? Дрова руби. Печку топи. Воду таскай… Да я б Вам, Анна Вы жизточка моя Фёдоровна, за громовую радость всё то делал бы сам. Не бойтесь, толстой моей шее вовек избою не будет. А потом… Всё какой-никакойский ребятишкам родителец. Ну на что нам в прятки играть? Ну что бы нам да не дышать в одну сторону? Ну что бы нам да не подпароваться? Может, в соглас войдёте, цветочек мой лазоревый?[152] А?
Покачала я головой. Вздохнула…
Хотела было ответить. Да рта не успела открыть, как лицо у него взялось румянцем. Посыпал словами, что горохом твоим:
– Ежли отказывать, так Вы уж, подайте Божью милость, почём зря не спешите. Не имеете на то полного правия! Не смотрите, что я престрашучий… страшон, как три войны и все мировые… Знаю, не по товару я купец. Всё одно поначалу проколупали б, кто я, какой я…
«Яснее ясного, – смеюсь в душе, – первый парень. Первый парень на деревне, да в деревне один дом. Только не везёт. На товар лежалый наскочил купец неженатый. Пара не пара, марьяж дорогой… Эха, кокурки, кокурки плывут по Сухушке…»[153].
– Скатайте, – далей накручивает своё, – в Саракташ. Я не чужедалец какой. Знаете ж, из Саракташа. Не стебанутый какой там… Доподробно поспрошайте соседев. А там и кладите отказ… Голубок птица. Петух тоже птица. А любовя какая у них? Сами, прошу за петуха извинения, в курсе дела. Про себя только скажу, не кочетиного я семени. Не робейте за меня идти. Оно, как советуют старики, главно дело не робь: греха на́ волос не будет… Морщитесь… Не нравлюсь, надо быть… Ну… Чего его некаться? Наврозушки нам нельзя. У нас же одна линия! На обоих беды верхом круто катались!.. Мы ж… Хоть круть-верть, хоть верть-круть, а однокручинники, однополозники. Ну?.. Красоту на сберкнижку не положишь. А привыкнуть к человеку ещё даже как возможно! Сойтись для началки б токо… Счалиться б… А там, ластушка, заживём однем углом. Смилýемся!
Ну озадачил, будто поленом в лоб. Вот блин ты сухой-немазаный!
Вздохнула я ещё шумней, надёрнула на себя вид безразличный и вместе с тем потоскливый, скорбный да и докладаю:
– А-а!.. Отголубила я своё, раздобруша… Не надышу много… Не жиличка я на этом свете уже.
– А что так?
– А туберкулёзница я.
– Ну и что ж, что туберкулёзница! – обломно обрадовался он и засиял именинником. – Я сам туберкулёзник!
– Вот те номер! На что ж нам тогда, соколок, два таких хороша́ свивать в одно? Гнилое гнёздушко погибелью венчано.
– Наоборот! – громыхает на басах. – Лучше вдвоём!.. Вместях! Лучше вместе два таких хороша против двух плоха поврозь! Подврозь нам нипочём не годится! И потом… Я-то, едри-копалки, туберкулёзник, ей-пра, бывший. Меня выходили. По такой лавочке завелась у меня прорва знакомцев из врачунов. Хошь, сей же час повезу по ним. Брешут, вызволят и тебя! Да я до Москвы добегу! На ладонках вот на этих снесу в саму свет Москву, чистая ты тропиночка моя утренняя! Дохилеем союзом каждый до ста и не охнем!
– Поздно, голубочек… Уже, – пускаю во все повода, накручиваю, – третья стадия. Лечению не принадлежу…
Дала я веру напридуманному горю своему, затужила-пригорюнилась да как навсправде зареву белугой. Жалко себя стало.
Сашоня мой тоже ударился в слёзы. Хлынули в три ручья.
Подбежал, жмётся мокрой щёчкой к руке к моей.
– Ма! А я не пойду с тобой взамуж… Ну, айдайки не пойдём! А?
Я и не сбиралась.
Верной была женой и по смерти буду верной вдовой.
21
Смелость силе воевода.
Ну и стопроцентная кулёма! Не верная вдова, а непроходимая баба-дура! – выпевала мне по-свойски Лушка моя Радушина.
– Я, Луша, клятву не умею рушить…
– А! Клятва-молятва!.. Ну что за кислое чертевьё[154] ты вешаешь мне на уши?.. Подумаешь, клятву она дала! Да это просто слова… Сказки Венского леса! А всё счастье, христарай-сурай[155], не в клятве. Прямо ну злость печёт, язви тебя в пуповину! Ведь только ну саксаульная глупыня не меняет линию. Главно в жизни, это как карты ляжут. Карты к тебе с добром. А ты к картам – своим багажником. Ну не бабахнутая? А чего кобызиться?[156] А чего так колдыбаться?[157] Иля ты на голову контуженная? С твоей жа с собачкиной верности масло не падёт на хлеб. Мёду, что тоже, будь покойна, не опиться. А пришатни к себе какого надёжного привальня…[158] А выпорхни замуж вповтор, так за мужниной за спинищей всякая бедушка обтекала бы тебя, как ласковая, покорливая водичка камень. Жила б себе кум королю. А ты, рухляйка[159], всю войнищу пробегала в пятнашках-пегашках![160] И не таскала б, горюша, на базар последний, с головы, платок…
А и всправде скрутилось такое…
Знамо, сапожник без сапог, платошница без платка.
После каждого платка остаётся всегда в клубке немного пряжи. Что с нею делать? Выбрасывать? Глупо. Из этих разноцветных остаточков и свяжешь себе горькую пегашку. Свяжешь и носишь сама.
Это уже под самый под венец войны.
Снег слился со взлобков.
А холода ещё крепостно так подпекали.
Сработала я себе тёплую серую пуховку. Повязала в первый раз. Да не возрадовалась обнове. Совестно стало что-то перед самой собою.
– Что ж ты это, девонька, – корю себя в зеркале, – прикоролевилась, словно семнадцатка? В доме ж у тебя харчу – мышам нечем разговеться!
Плохо ох было тогда с продуктами. На троих давали мне на месяц всё про всё девять кил муки. Хлебушка каждому доставалось лишь в зубах поковырять[161].
Шатнулась я в скажень[162] в Оренбург. На толкун[163].
Повезла обнову на продажь.
А снять с головы не отважилась. Потащишь в узелке, так какой чертяка ещё и выхватит у деревенской раззявы. Прощай тогда пуховка! А с головы сорвать не всяк крадун допетрит да и не посмеет. А потом, думаю, пускай напоследке пошикует моя головушка в тепле. Это не во вред ей.
Только я на́ рынке – а на рынке у нас завсегда платков, что грязи, полно, – только я платок с себя это кинула через руку, осталась в бумажной косыночке, ан вот тебе подлетает какая-то вёрткая такая старая жига, матёрая, видать по всему, спекуляшка, и хвать рудыми от курева пальцами лишь за пух мой платок на косицах[164], – а громадина, ну прям тебе с полнеба! – и в задумчивости зацокала языком.
Тягуче сипит в нос:
– Уроде омманом не пахнет…
Перевернула платок, снова цоп за один пух.
– Уроде ноне в обед не будет ему сто лет…
Ухватила в другом месте.
– Уроде не от первого козла…
Испытанка какая!
Мёртво прикипели обе глазами к платку: держится всё про всё на нескольких пушинках.
Какое-то недоброе у старухи лицо. Вижу, ждёт, что плат вот-вот сорвётся. Тогда она может и тычка мне в лицо дать за такую халтуркину поделушку. Отменными слывут платки, что не падают, когда их держишь только за пух. Значит, весь платок из чистого, вышней качественности, пуха, а не бог весть из чего.
Платок держится молодцом.
Падать тёплым облаком к ногам и не думает.
Старуха притомилась держать на весу.
Заблажила ковыряться иглой. Ясно отделяет пуховую нить от хлопчатки.
Ну титька тараканья!
Всплеснула я руками:
– Бабанюшка-колупаюшка! Да за кого ты меня принимаешь?.. Божечко видит и ты тоже, делано не на ковыль-костыль… Моченьки моей нетушки… Не дурю… Козы свои, жиром подплыли. Себе вязала… Из персюка![165] Да прищучило…
На слова на мои она ноль сочувствия.
Упрямисто молчит. Знай ковыряется себе.
«И когда эта испытка кончится? А чтобушки тебе, клещебойка, на посмех ежа против шерсти родить!» – сулю ей про себя. А сама дёрг, дёрг это из воньких табачных клешней платок – ещё не охолонул от моего тепла.
– Ковырялка! Он тебе не нужон, родимец тя хлыстни! Отковыливай… Отдавай-сдавай сюда!.. Закрываем эту хану-ману…[166] А штуковина, скажу, знатная. Хотешки на рентгений проверяй. Ей-бо!
– Не божись, в долг поверю, – уже домашне, в ласке пролыбнулась старушка. – Знаю, раздумье на грех наводит. Но ты потерпи, милостивица. Божечко терпел и нам, сказывают, велел… Я полмешка купилок отвалю. А на кой мне ляд за такой капиталище чулок на голову?
Ишь, дошлая что! Всё-то она знает…
В ту военную пору хлопчатобумажные нитки для вязки днём с огнём в магазинах где не добудешь. Мы распускали обычные чулки. Нитку красили. Вязали. Греха тут никакоечкого. За такое никто не налепит шишку на горб.
А вот ежли покупщик от чулочной нитки иль, как её называют, шлёнки, не отделит пуховую – тогда лихо: пуха в платке самая крайняя малость, вплели скорей на показ неопытному глазу. Эта малость пуха по-быстрому снашивается. Остаётся одна шлёнка, по хваткому слову, чулок на голове…
Наконец-то мы утолковались.
Старуха, довольная, вчетверо переломила окаянный платок, положила на грудь, стала враз толстая. Ну лось лосём. Крадливо погладила, перекрестила платок. Застегнула пальто на последние верхние пуговки и тяжело взяла шаг к выходу с базара.
Не было ни гроша. Да вдруг эка оказия нагрянула!
Навалились полных три тыщи!
Это ж укупишь пуд муки!
Калиты[167] у меня нету. Денюшки я посадила под булавку в потайной карман. Перекрестила. Сидите мне тихо!
А непокой всё одно шатает душеньку. Булавка – нашла защитность! Да карманной слободы тяглец[168] мне её одну и спокинет! Уж лучше в руках держать.
В мешок, поверх тапок, определила я в марле свою выручку.
Прижала к груди обеими руками.
Тумкаю, что ж мне брать сперва.
А на толчке, на этом «рынке по продаже вещей с рук», народищу – сельдям в бочке раздольней.
Сердечушко у меня подёргивает.
Я это рвусь, где посвободней.
Кой-как выдралась из толкухи на простор.
Глядь – жульманы низ мешка аккуратненько так счесали, уволокли вместе с одной тапкой. Зато вторая тапка да деньжанятушки впридачу – деньжанятки-то повыше! – всё моё всё при мне!
Обдурачила я, кривоныра[169], жульманов! Провела!
Рублята-лягушата скорёхонько упрыгали от меня кто куда.
Взяла того, сего…
Нахватала на живую руку муки, отрубей, соевой макухи да и попёрла под завязку два пуда к вокзалу.
Кассирка кинула мне билет до Саракташа.
Сказала, Жёлтое поезд прошьёт без останову.
Уже в вагоне справилась у проводницы – останавливается!
Я было бежаком назад, к кассе, докупить билет – поезд стронулся.
Ну, ладно. Еду.
В Саракташе я не слезла. С провиантом не топтать же шпалы. Двадцать пять вёрст!
Другой поезд подбежит только завтра. А дома детвора – одна, голодная.
Сижу подмалкиваю.
До Жёлтого было уже вёрст так с восемь.
Подходит проводница. Белокурва-дробь. Метр с кепкой на коньках. Носастая, мелкорослая коровя. Ну бока лопаются!
– Ваш билет? – и протянула шмаходявка[170] руку, будто я подаю ей что.
Руку-то она протянуть протянула. А сама там важнющая что. Дышать прям нечем! Глядит не на меня. Уцелилась мимо посверх меня. В окно.





