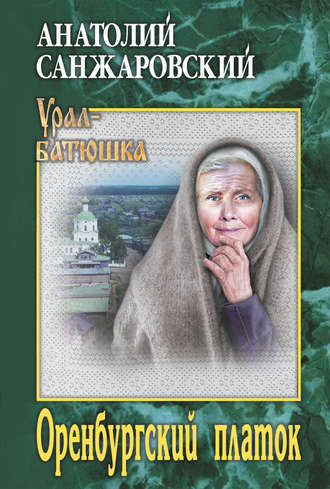
Полная версия
Оренбургский платок
– Да как жа эт можна-та исделать красоту таку?!
Свекруха-добруха, гордая такая за меня, входит в генеральское пояснение:
– А матушки! А Нюронька-та моя не печатает-та, не рисует-та. Вы-вя-зы-ва-ет!
Сработала я три платка, да и пустились мы с самим свёкром Иван Васильчем на преименитую Макарьевскую ярмарку в Нижнем Новгороде.
Только вынула из сумки один платок, подкатывается поперёк себя толще бабища. Ведёрный чугун[91] нашлёпнут на плечи. Шеи будто и не бывало. Позабыл Господь выдать. Какая-то вся короткая, обрубистая. Ростом не вышла, вся вширь разлилась.
На первый же скорый глаз что-то не глянулась мне эта кобзéлка.
Ну, взяла она мой платок за углы. Пальцы жирные, сытые.
И жалко мне стало. Я корпом корпела… Ночей не спала, все жилочки из себя тянула. И кто ж снял мои труды? Невжель э т о й простошныре носить? Ой, не надо! Моя воля, выдернула б назад…
Бабёшка встряхнула моё серебристое облачко.
– Почём? – Голос у неё холодный. С хрипотой.
Я к самому:
– Папань! За что отдавать-то?
Молчит.
Уставился на покупщицу – та мёртво вкогтилась в платок.
Вижу, большие мильоны с неё дёрни, отдаст.
Губы кусает мой свёкрушка. Взопрел. Не дай Бог продешевить!
– Дамочка… А ну… Слухай-внимай. Ну отодить… Отодить от этого вопроса! – тычет глазами в платок.
– Гражданин! Я вообще-то, кажется, покупаю. Не отымаю…
– Ишшо она отымать… Пустите! – Свёкор выдернул платок. – Отодить на одиный секунд. Христом-Богом, стал, прошу.
Коротыха повела плечом. Отступилась.
Со стороны зыркает на платок, как лиса на кочета при хозяине в отдальке.
– Нюрушка! Доня! – шепчет мне сам на ухо. – Ко мне такой важняк товарец в жись не забегал. Откуда ж знать ценушку? Говори, дочушка, чоба не слыхала эта мамзелиха.
– А что говорить?
– В Жёлтом-то по каким деньжонкам пускали?
– Купчанам, – кладу тихие слова ему в ухо, – самолучшие отдавали по восьми рублёв.
У свёкорка короткий толк. Решает сразу. Без митинга.
– Шашнадцать!!! – во всю голосину гаркнул. Подзывает покупщицу рукой с платком, как со знаменем. – Шашнадцать будет ваше ненаглядное почём! Шаш-над-цать!!!
Разбитуха подошла с гусиным перевальцем:
– Сколько у вас платков?
– Ну… – Свёкорок замялся. – Выбирались из дому… Было три.
– Все беру. Безразговорочно.
Свёкрушка дрогнул, будто кто поддел его хорошенечко шилом. Промахнулся в свою сторону!
– Не-е! – мотает решалкой[92]. – Как жа без разговору?.. Иль мы нелюди… Иля нам не об чём погутарить?
– О чём же?
– Двадцать… Вот последняя наша дорогая разговорка!
– Помилуйте. Да на вас креста нету!
– А вам что, мой крест ужо нужон?
– По двадцать не пойдёт.
– Но и по шашнадцать тож не побегить!
– Ну, дед! Ни твоя ни моя. Восемнадцать!
– Мадамочка! Торговаться я не обучён. Сколь наметил – всё. Надоть – бери. Не надоть – идь лесом, не засть. Не стекло!
– Ну идол с тобой! На! Здесь ровно пятьдесят четыре. Хоть не считай!
– Нам это не в утруждение.
Свёкор чувствительно поплевал на щепоть.
Сосчитал в блаженном спокойствии раз. Сосчитал два.
Хмыкает.
– Дед, отдавай платки. А потом и думай, эсколечко твоей душеньке угодно.
– Не торопи. Можа, моей душеньке угодно с тобой ишшо поговорить…
– Но-но! Ты ж слово дал.
– Эхва-а… То-то и оно, девонька. Получай да с глаз вон с этими платками, покудова глупость мне воевода.
Коротайка проворно спрятала под полу шубы платки.
Отошла от нас чуток.
– Ну, дед… Ну, хитроныра… Это страх, какой ты копеечник. В осень у тебя напёрстушек грязи не вымолить!
Иван Васильч усердно заворачивает выручку в носовой платок. Усмехается:
– И-и… Всё ж ты, комедчица, с сырцой. Тебе таки платки от сполюбови втридёшева отдали. Как ты просила, безразговорочно отдали. А ты ишшо непотребными словами мазать! Ты чё вот черезмерно домогаешься? Чоб плюнул я на свою обещанию да всурьёз с тобой потолковал?
Потешно, без зла засмеялась раскупщица.
– Смотрите, какой разговористый воздушный лебедь! Ну, ладнушко… Закрываем наш базар. До свиданьица, мил человек. Спасибь!
– Хо! Спасибить што?.. Спасиба нам многовато, – разбито затужил свёкор. – А вот накинула б сверху с червонишко – самый раз…
– Господь тебе навстречу! – разом отмахнулась от него оберучь, обеими руками, коротеня и, счастливая, сгасла в толпе.
Минутой потом то ли мне причудился, то ли въяве прислышался певкий, радостный голос покупщицы.
Голос покрывал бубуканье, шум ярмарки и пел:
– Купи, маменька, платок, —Во всю голову цветок.Теперь модные платки —Во всю голову цветки.Набрали мы всяких, конечно, не тысячных гостинцев – пряников там ребятишкам, себе по мелочёвке чего – да и понеслись весело назад. Довольны как! Аж шуба у свёкрушка заворачивается!
Божечко мой!
От богатой выручки у него гордости за меня вдвое прибыло.
Приезжаем, а обаюн свёкрушка – сам старшой, сам большой! – и ну вприхвалку расписывать домашним:
– Ну чё, бабоньки?.. Вот вы изо дня в день, изо дня в день заподряд цельну зиму прядёте-ткёте. Нековда вам и спины расправить. Задыхаетесь в пылюге. Гли-ка, очи исгасли. А чего навершили? Всего двадцать-та пять локтей холста наткёте за всю-та зиму зимнюю? А скоко за ними возьмёте? Докладую: не боль как двенадцать целковых. Это за всю-то за зиму зимнюю! Я толкую – внимай… Хочу втвердить… А вона Нюронька-та одна какую помочь дому подаёт! Ну!.. Играючи-та связала живой рукой три кисеюшки! За… Почитай за шесть-де-сят целкачей отпустила!.. И наше, мохнорылики, дельцо молчало, молчало да крякнуло! Ладноватонько нонь поддуло[93]. Шесть десятков! Таки капиталищи! Подумать! Одна одной! Золотиночка!.. А вас – цельная шатия, нетолчёна труба… Как сказано, кому Бог дал рученьки, а кому и грабельки. Не стану уточнять, кому чего досталося при раздаче… И тако ясно. Золото рученьки у нашей у Нюроньки! Молодчага Минька, не промахнулся. К часу[94] знал, гусь лапчатый, какую приглядеть жону!.. Не скажешь, что в лесе не мог палку найтить… Одно слово, молодчай! За то кому чё, а Минюшке первому наидорогой гостинчик. Такая вотоньки моя раскройка…
Свёкор наклонился к мешку с подарками. Порылся в нём, пошуршал бумажными свёртками и наконец выдернул из хрусткой купы нужный.
– Вот! – ликуче взмахнул перед Михаилом юбкой. – По – лучить, мил сердечушко Михал Ваныч! Получить, Топтыгович!
Михаил конфузливо отступился от юбки.
Батёка снова потряс юбкой.
В радостном удивлении спросил Михаила:
– Ну ты чё от гостинца пятишься раком?
Все домашние приутихли.
Веселье тонуло в лицах. Как вода в песке.
И в неловкую тишину Михаил сронил с запинкой:
– Это вроде… надсмешки… как…
– Это ишшо каки таки смешки?! – огневился отец. Он опустил юбку, закрыл ею себя до пояса. – Одначе больно обнаторéлой ты. Иша, лепетун, самому родителю отстёгивать попрёки! Я гляжу, выбаловал я тебя. Воли поверх ноздрей насыпал! Я дал. Но я могу, пустозыря, и взять! Не забывайся… Да!.. Тоже… Тоже нашёл смешки! Голая правда! А ну внимай сюда! Как Нюронька моет полы, ты чё работашь? Она моет в одной комнате. Ты тутока же надвое переламываешься – моешь в другой. Р-р-раз! – Отец прижал локтем юбку к боку. Заломил мизинец. – Нюронька… Нюронька стирать, и ты, выжимальщик, подля. Два, – загнул ещё палец. – Нюронька полоскать… Ты прёшь ей к речке корыто с бельём да сам, полоскун, и ввяжешься наполаскивать. Ототрёшь её от корыта…
– Вода-та… холод… – оправдательно буркнул Михаил.
– Для Нюроньки, понятно, холодная. А тебе, стал быть, бес подогревает? Ладненько. Бежим дальшей. Нюронька пироги тулить, и ты у ей в услужении на любка́…[95] Не пропустишь и корову доить, и щи стряпать… Вот токо жаль точит, спицам ты не власть. Нипочём не дашь спицам ума. А то б вы с Нюронькой в четыре руки ого-го-го как жахнули! Раскупной товарко возами б спел! Поспевай токо, тятяка, отвозить на ярманку кисеюшки двадцатицелковые!.. Понимаю, бабу надь жалеть. Надь ласкать. Но на кой же забегать за межу?
Михаил рдеет.
Вижу, багровеет сердцем. Злость его всего пучит.
Трудно подымает он на отца глаза. Истиха́, но в плотной твёрдости пихает храбрун слова поперёк:
– Не о том, тятя, стучите… Не про то хлопочете… Ну коль пала мне свободная секунда, чего ж не подсобить жоне?
– Подходи-ительной… Только иду в повтор. На кой плескать через край? Всё хорошат лад да мера. А такочки ты кто? Бабья подлизуха. Бабья пристяжка. С бабой надь покруче. Вон поглянь на меня. Я стрельнул глазом, – старик в улыбке поворотился к своей жонке, – и моё подстарелое солнушко уже в трепете. Одним мелким взглядом вбил в трепет! А ты… Я ссаживаю тебя в бабий полк. Как на бабью работу наваливаться, сигай в юбку. На той момент я тебе её и подносю, – с ядовитым поклоном отец тряхнул перед Михаилом кубовой юбкой. – Доласкался до подарочка!
Пыхнул распыльчивый Михаил порохом. Толкнул от себя протянутую юбку в отцовых размолоченных нуждой руках тонких и бросился к двери.
– Стой, топтыга! – гаркнул батя. – Иля ты перехлебнул?
Михаил пристыл у самой у двери.
Стоит. Не поворачивается.
– Вернись, – уже мягче, уступчивей подговаривается отец. – Как я погляжу, сильно ты уж горяч. Не горячись, а то кровя испортишь… Вернись и забудь, чё ты издеся слыхал. Я думал так всю времю, видючи, как ты вился окол Нюроньки, лез к ней с помочью во всяких бабских делах-заботах. Экий курий шалаш…[96] Пораскинул я сичас своим бедным умком и подскрёбся к мысли, что без тебя, Михайло… Без тебя, безо твоей помочи рази Нюронька поспела б к ярманке с тремя кисейками? Не связала бы, не поспела бы, молонья меня сожги! Ты ей подмог. Она подмогла всем нам. Без мала шесть червонцев поднесла! Да с Нюронькой и обзолотеть недолго!.. Отрада душе видеть, каковская промежду вами уважительность живёт.
– А что ж только наполаскивали? – мягкость легла в Михаилов голос.
– Не с больша ума, – повинился свёкор. – Пришёлся ты нонь под замах[97]. Я и наворочай гору непотребства, как тот дурак в притруску… Не дай Бог с дураком ни найти, ни потерять… Выбрехался… Аж самому тошно…
– Больно вы подтрýнчивой, тятенька… – высмелел в улыбке Михаил.
– Таким орденком не похваляться… Не дёржи, первонюшка, сердца… Подай-та Бог, чтоба и даль так бежало промеж вами. Ежли я допрежде то попрекал, корил, тепере наказываю: подмогай Нюроньке во всём во всякую вольную минутоньку. Нехай наша кормилица поболе вяжет!.. А юбку… Юбке всё едино, чьи бока обнимать. Чьи коленки греть… Юбку, Михайло, с твоей согласности я подарю нашей Нюроньке.
13
Наличные денежки – колдунчики.
Раз оказалась я невесткой в цене, прибыльной, относился ко мне свёкрушка приветно.
К дому я пришлась.
Свекровь пуще матери берегла меня.
Всего с ничего ела я спротни них.
Бывалычь, кухарит когда, так зовёт:
– Нюронька! Роднушка! А поть-ко, поть-ко сюда… Я тут задля тебя выловила мяску. На, любунюшка, поешь. А то ишшо поплошашь. Родимой-та мамушки-та нетути. Наедаться-та не за кем… Люди скажут, свекровка не потчует молоду-та… Нюронька, а курочка-та большь клюёт-та. Ну што ты, дочушка, така струночка? Отощала… Одни кошы-мошы…[98]
– Были б кости…
– Ну одни ходячи мощи… Щека щёку кусает… Дёржи! Не удумай петь, што не хочется. Какая живая душа калачика не просит? Чтоба в тело войти, да ешь ты привсегда до отпышки взаподрядку всё, пока в памяти! Главно, знай себе ешь, ешь, ешь. Дажеть на обед не перерывайся. Отдохни малече и снова ешь до отходу. Тольке тогда, хорошелька, и подправишься видом. Окузовеешь, как барынька. На то вот тебе, скоропослушное дитятко, моё благословеньице…
Чего уж греха таить, в доме обо мне заботились.
Поважали.
14
Не дорого начало, а похвален конец.
Вскорости после свадьбы подвели Михаила под воинский всеобуч.
Отлучался всего на полтора каких месяца.
Строго-настрого наказал дедьке Анике в заботе глядеть за мной.
У дедьки только и хлопот. Проснётся затемно, выберет мне в запас гулячую, свободную, ложку понарядней и зараньше, покуда у стола ещё никого нету, кличет:
– Нюронька! А поть-ко, поть-ко завтрикать-та. Поть-ко… А то Минька-та как нагрянет и ну с меня грозный спрос спрашивать: «А что ж ты тута за Нюронькой-та не ухаживал-та? А что ж ты не кормил-та нашу Нюроньку-та?»
Сплошь обсыпят, обсядут стол двенадцать душ. Только ложки гремят-сверкают молоньями. А я – не смею…
Вот убрали все борщ.
Мясо в общей чашке накрошено.
Дедька Аника стукнет ложкой по той чашке. Скомандует:
– А ну таскай, кому что попадётся!
К середине стола, к чашке с мясом, со всех боков потянулись руки.
Исподлобья вижу: ложки сомкнулись над чашкой. Чашки нипочём не видать уже. Над ней словно цветок из расписных ложек.
Я взглядываю на эту живую чудную картинку, улыбаюсь про себя и… боюсь ложку поднять. Думаю, да как это я потащу то мясо, коль меж других не продёрну ложку свою к чашке? Даже сейчас руки трясутся, когда вспомню, как это мясо таскать.
Дедька Аника смотрит, смотрит да и свалит мне сам кусоню мяса в ложку.
Я ещё больше не смею. Подумают, во прынцесса, во царевна-лебедь! Всё выжидает, пока ей положат. Сама, видите, не может…
Наявился Михаил. У дедьки радости ворох:
– Сдаю твою жону в полности-невредимости… Сам потчевал-та Нюроньку! Во-отушко!..
На другой день израна – солнце уже отлилось от земли локтя так на два – засобирались наши в храпы[99] за боровиками (боровик – всем грибам генерал!) да за груздями.
Умывался Михаил. Я сливала ему.
И надумала попроситься поехать с ними. Отказ не обух, шишек на лбу не будет!
– Возьмите и меня, – шепнула я. – Хоть на леса на ваши погляжу.
Михаил отцу:
– Тя-ать! Можа, в нашу компанию впишем и Нюрушку? Уж больно жалобисто просится.
Свёкор весь так и спёкся. Перестал обуваться. Примёр на том моменте, когда услышал мою просьбу: на весу держит за сапожные ушки выставленную ногу.
С минуту никак не мог и слова вымолвить.
– Нюронька! – извинительный голос у свёкра так и вьётся птахой. – Милушка! Сирень ты моя духовитая! Да рази я тебе враг? Супостатий какой? Где речь про тебя, я завсегдашно твою руку тяну. Повсегда с тобоюшкой всесогласный… Я со всей дорогой душой!.. Токо… А ну заблудишься? А ну заведё тебя дед лешак куда в глухоманку к босому к старику?..
– К кому? К кому? – удивилась я.
– Босыми стариками у нас навеличивают медведушек, – пояснил Михаил.
– Медведушки у нас не с кошку. С избу! – стращал свёкор. – Идёшь лесом, а кустарики с корня повыдернуты. Косматый сергацкий барин грелся. Во-она как! Это мы с Минькой попадись ему, так он отвернётся, обхватит свою башню лапищами да в тоске в звериной и плюнет. Таких мешков с говном скоко перевидал он на своём веку! А вот совстреться ты, небоглазка, с им, лесной архимандрит извнезапу и задумается кре-епенько. А плотно подумает-подумает медведка-думец и не упустит живую. Ну на кой нам такой уварок?! В жизни, Нюронька, всего хватишь… Кру-уто тут нам поддувало. Беды кульём валились… Поскупу жили-были… И голоду ухватили, и холоду… Нуждица крутила нами, как худым мешком. Мы никовда не шумели капиталами. Это уже при тебе единый разушко шумнули… С ярманки… Можь, при тебе побегим?.. Разбежимсе жить в гору?.. А?.. А ты… Не-е-е! Нюрочка, сладкая дочушка огнезарная, не входи во гнев. Не возьмём ломать грибы… Да без тебя, да без твоих кисеек всему нашему дому карамбец. С рукой по миру лети!.. Уж ты лучша сиди вяжи. Оно всем нам будет и спокойней, и подхо́дней[100].
Ну что тут скажешь?
Подкорилась я. Бросила проситься.
На прощанье свёкрушка благодарно обогрел меня тёплым, детским взглядом, и подались наши мужики в лес.
А я со спицами села к окошку поджидать их.
Стаял уже день.
Солнце пало за толпу унылых толстых облаков – на ночь согнал ветер домой, к низу неба, – а наших всё нет.
Разве можно тако дибеть?[101] Не накрыла ль беда там какая?
Нету моей моченьки сидеть выжидать.
Спицы валятся из рук.
«Пойду… Пойду встрену…»
Откинула вязанье и только за калитку – про них речь, а они навстречь!
Весёлые. Видать, с прибытком.
Ну да. С прибытком.
Полный возок уже закрытых кадушек!
Грибы сразу же там, в лесной речонке, мыли. Солили. Пять насолили кадушек.
Составил их с возка Михаил.
Потом подаёт мне ладненький такой бочоночек с мёдом и подольщается:
– Это тебе мой тёзка-косолапка, сам Михайло Иваныч передали.
– Спасибо тёзке и тем хозяевам, у кого укупили по дороге.
Хмыкнул Михаил. Ничего не сказал.
Только обмахнулся. Утёр пот со лба.
– Мда-а, – промолвил минуту упустя. – Чай с мёдом пить легко. Да никто не нанимает…
А привёз он мне ещё волоцких орехов-последушек. Сами выпали. Последние. Осень на дворе.
Даёт и вздыхает:
– Вот, Нюра, ещё чего тебе в гостинец добрый медведка прислал.
– Ещё раз спасибко медведке.
– А мне?
– Прислал-то медведка!
– Прислать-то прислал. А лазил-та под деревьями я. По одному сбирал…
15
По родине и кости плачут.
Какой ни желанной была я в Крюковке, а не случалось, пожалуй, и дня, чтобушки не плакала я по дому по своему.
Сижу, слезокапая, жалуюсь про себя спицам:
«Калина с малинойРано расцвела,На ту пору-времечкоМать дочку родила.С умом не собралася,Замуж отдалаВ чужую сторонушку,В дальние края.Чужая сторонушкаБез ветра сушит,Чужие отец с матерьюБез вины бранят,Посылают меня, девицу,В холод за водой.Нейду я, девица,В сад за водой:Зябнут мои ноженькиНа снежке стоять,Прищепало рученькиВедрицы держать.У родимой маменькиЯ три года не была,На четвёртый годочекСлетаю пташкой я.Сяду в сад на веточку,Громко запою,Родимую маменькуОт сна разбужу.Заслышала маменькаМой-то голосок:«Не моё ли дитяткоПесенку поёт?Не моё ли благословенноеНазолушку[102] мне даёт?»Тащились какие-то только первые месяцы, как познала я чужую сторону.
Мне ж казалось, век я там маюсь.
Ела меня поедом тоска по родимому дому.
А пуще того тиранствовала надо мной, жгла душу платочная чахотка. Не из чего стало вязать.
Пух, что был, весь вышел. Вчисте до нитоньки всё извязала. Без спиц же и день отжить невмоготу.
Забудешься, заглядишься на что…
Вдруг начнёшь вязать.
Вяжешь не глядишь, вяжешь. А опустишь глаза – оторопь морозом душу навпрочь осыпает. Руки хоть и крутятся, как при вязке, а в руках-то ровным счётом ничего. Два кулачка рядышком ходуном ходят впустую. Только постукивают кости пальцев друг об дружку.
Без вязанья померкли дни мои светлые. Жизнь потеряла всякий интерес, всякую радостинку.
Может, это случайное совпадение.
А может быть, и нет. Только отнялись у меня ноги.
Лежу чурка чуркой с глазками.
«Это безделье взяло у меня ноги», – прилипла ко мне, как тесто к пальцу, одна мысль. Делом я почитала лишь платки.
Миша да свекровь, доброта моя вечная, обихаживали меня.
Сладил Миша кресло-каталку. Повинился:
– Не взяли мы тебя тогда по грибы… Как нехорошо… Жить в нашем краю и не видать наших лесов… Я всёжки покажу тебе места, где Добрыня Потапыч передавал тебе гостинцы.
– И оставишь теперь ему гостинчик? – кручинно пошутила я.
– И-и… Сказанула… Ну прямо ногой в суп! Да ежель оставлю, так и сам там останусь.
И повёз меня в крюковские леса.
Я сейчас вечером не вспомню, что делала утром. А вот тот лес-праздник в подробностях встаёт-накатывается у меня перед глазами, как только подумаю про ту далёкую поездку…
Совестно было мне разлёживаться. Всё ж не ленива соха. Не лежебайка[103] какая.
В семействе и без того кругом нехват. Дом набит детворнёй, как детский садик! А тут ещё я на иждивенческом еду полозу.
Свёкор со свекровью ни в какую не отпускают уехать.
Твердят:
– Чё мир-та запоё? Покудушки невестонька бегала – расхороша была. А как обезножела, так вон со двора?! Этому николды[104] не бывать! В сам деле, иля мы лиходейцы какие? Зловредители?
А я отвечаю:
– Ежле не вернусь я, лежебочиха, в Жёлтое к платкам, чую, примру у вас.
Плакала я, плакала и выплакала.
Отпустили!
В каталке и привёз меня Миша через год назад в Жёлтое.
Тут-то я и воскресни!
Чуть тебе не круглыми сутками вязала для пухартели.
Так голодна была на вязку.
Мало-помалу, слышу за работой, сила льётся в меня. Кажется, могу уже и встать. А боюсь. Да и что вставать? Что ноги? Я ж не ногами вяжу.
Сижу себе на койке да знай наковыриваю.
Однажды клубок далече сбежал от меня и спрятался за комод.
Нитка в чём-то увязла.
Кумекаю, сейчас я по ниточке и доберусь до своего вертуна клубыша. Вызову-вызволю своего озоруна.
Я это дёрг, дёрг.
Не летит ко мне клубочек-голубочек. Бастует?
Я сильней рванула. Нитка и лопни.
А Господи! А Боже ж ты мой! Что ж мне, кулёме, делать? Звать кого на помощь?
Да зови не зови…
Не доаукаться.
Дома ни души. Одна я да кот. Все ж наши на лубянке[105].
Лежать ждать, когда уявятся?
Я к комоду пластунским макарцем.
Достала клубок.
Думаю, а чего это я в своём курене да ползком?
В дрожи взнялась на карачки…
Маненько передохнула…
Осмелела наша геройша, разогнулась да и прямой наводкой пешаком к койке!
Пока по стенушке ковыляла, упарилась. Невозможно как устала. По корень оттоптала ноги.
И только как села, страх молоньёй прошил меня всю. С корени до вышки.
«А батюшки!.. А светы!.. Ты ж сама с клубком от комода-то шла! Сама!.. На своих! На ноженьках! Клубочек подняла и… Не-е… Божечко мой! Это ж клубочек тебя поднял!..»
Сила в ногах всё плотней копилась.
Взялась я потихоньку-полегоньку уже и сама выползать на волю.
Во двор.
Слилось время.
Платок поднял меня. Крепенько встала я на свои ноженьки. Будто беда их и не трогала.
Отошла я, так Михаил зачал косоуриться. Всё носом шваркает да сапурится. Штукатурить в Жёлтом нечего. На приработки всё на сторону кажен божий день гоняй. Ну чистая смерть птенцу!
А тут крюковские басурмане завились аж в Срединную в Азию. Доплескались до самого до господина Ташкента!
Засылают азиатцы призыв за призывом ехать.
Призывы всё на един покрой. Строек завались! Одна другой главней! Русскому топору да мастерку почёт беспримерный! Деньжищу каждому отваливают по мешку за месяц!
Распустили басурманцы перья.
Пропал мой Миша ни за понюх табаку.
Заладил бесконечное своё вечное: ну поехали да поехали!
А я ни в какую.
Между нами пробежал платок.
– Ну что я, хряк сопатый, – жалится, – грошики тута сшибаю в той межпланетной?[106] А представляешь, голова ты безумная, какая цена будет там моим рукам?!
– А то! – смеюсь. – Чертячий доход по тебе обрыдался![107] Припасай, – веду на ум, – совковую лопатищу. Так оно сподручней гнать капиталы в контейнеры.
– Не смеись, – обжёг в прищуре лиходейскими глазищами. – У кого табачок, у того и праздничек! – да этако картинно только ж-ж-жа-а-ак на стол билеты.
И ощерился:
– Ну как? Хитро завёл в сетку?
Ахнула я от такой напасти.
Пыхкаю в себя воздух, что тебе рыбица на песке.
А сказать словечка не скажу.
Минутой потом оклемалась.
Слог прорвался гладкий. Будто писаный:
– Молодцом! Хитрей хитрого завёл… Сострил тупей коровьего бока! Скажи, парнишок, кто я тебе? Законница иль так, служкой какой приставлена? Не обсоветоваться… Ну ни человек ни обморок…[108] Мне ни звучика и на, зволь радоваться. Получи яйцо с обновкой![109] Билеты! На поезд что, сегодня, лётчик?[110]
– Спогодя десять дён.
Ну, держу думушку, пустого времени у нас луканька на печку не вскинет. Дай-ка я его ядрёно выполоскаю. А то… Дай дурилке волю, так он и две цапнет!
Эхо и разошлась, ровно тебе лёгкое в горшке. Разбрехалась, точно перед пропастью. Такую бучу подняла, что, смотрю, обоýм-то[111] мой тишком, тишком сгребает до кучи билетики и рысьюшкой назад их кассирке.
Снёс злодеюшка и по второму забегу.
А на третьих разах я сама сдала билеты только на себя да на наших на двоеньких детишков. Жалконько смотреть на Мишины мучения!
Уколесил мой один.
Осталась я вязать.
Поверх года толклись подврозь, покуда не поднаумили да не присоветовали люди добрые.
Диву даюсь, как это нам самим в дум не пришло?[112] Чего ж сами-то, дурачоныши, до этого не доскрипели?
Живёт ведь почта! Артель согласна гнать мне в Ташкент пух. А я в обратки – готовые платки.
Так и нарешили.
Только после этого сшатнулась я в «город хлебный».
16
Всяк своего счастья кузнец.





