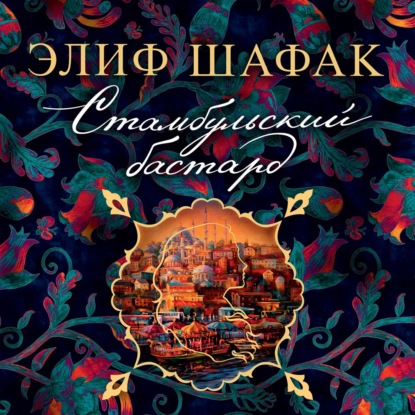Полная версия
Девушки сирени
– На вашем месте я бы поехал сейчас. Если вы это серьезно, – посоветовал Рожер.
Пол выпрямился в кресле:
– Разумеется, я серьезно.
Мне показалось это странным. Я два раза давала ему анкеты на повторный въезд, и оба раза он их терял. Не то чтобы я желала его отъезда, но…
– Тогда вы должны подать заявление, – напомнил Рожер.
– Могу заполнить за тебя анкету, – предложила я.
Пол пожал мне руку.
– Вы, вероятно, очень хотите увидеть жену, – буркнул Фортье.
– Естественно, – отозвался Пол.
Рожер встал:
– Решать вам, но, если Гитлер нападет на Францию, а вы все еще будете в своем номере в Волдорфе, о возвращении можете забыть.
Встреча закончена. Пол тоже встал.
– Кэролайн, задержись, пожалуйста, на минуту, – попросил Рожер.
– Увидимся наверху, – бросил Пол и отправился в сад на крыше.
Рожер закрыл за ним дверь.
– Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься.
– Я выступаю поручителем десяти заявителей…
– Ты знаешь, о чем я. О вас с Полом.
– Между нами ничего нет, – возразила я.
Сохраняй спокойствие. С уставшим Рожером лучше не связываться.
– Если бы не ты, Пол уже давно бы уехал. Я вижу, что происходит.
– Рожер, это нечестно.
– Неужели? Кэролайн, у него семья. – Рожер взял со стола папку Пола и полистал. – Разве не странно, что он не торопится вернуться?
– Его новое шоу…
– Важнее жены?
– Я думаю, они, ну, что ли… отдалились друг от друга.
– Так, началось. – Рожер швырнул папку на стол. – Пиа говорит, вы двое обедаете в саду на крыше.
– Не стоит преувеличивать. – Я шагнула к двери.
Это он еще не знал, что мы с Полом исходили весь Манхэттен. Ели чоп-суи[11] на Макдугал-стрит в Гринвич-Виллидж. Прогуливались по Японскому саду в Проспект-парке.
– Кэролайн, послушай, я понимаю, ты одинока…
– Обойдемся без оскорблений. Я просто пытаюсь быть полезной. Будет несправедливо, если они с Риной пострадают. Вспомни о том, что сделал Пол, чтобы помочь Франции.
– Я тебя умоляю. Ты же хочешь, чтобы я вытащил Рину, потому что тогда он сможет остаться. А что дальше? Кэролайн, третий лишний. Угадай, кто этот третий? Он должен вернуться во Францию и таким образом исполнить свой гражданский долг.
– Рожер, мы должны поступить правильно.
– Мы ничего не должны! Будь осторожна в своих желаниях.
Я переступила забытый на полу шар для петанка[12] и поспешила в свой офис. Пол еще ждет или уже ушел?
Слова Рожера не шли у меня из головы. Может быть, меня влекло к Полу? Я надеялась, что Бетти была права, когда рассказывала о женских образах в мужских головах. Нравился ли Полу мой образ? В жизни были вещи и поважнее.
Мы были завалены работой, но мама настояла на том, чтобы я поработала волонтером на thé dansant[13], который она с друзьями организовала в «Плазе». На случай если вы никогда не бывали на thé dansant – это такое давно вышедшее из моды мероприятие, где приветствуются танцы и подаются легкие закуски.
В тот день я бы предпочла оказаться на тысяче других мероприятий, но мамин thé dansant был организован в пользу белых русских – дворян, которые поддерживали царя во время Гражданской войны в России и теперь жили в изгнании. Помощь аристократам-изгнанникам долгие годы была маминой любимой заботой, и я просто не могла ей отказать.
Мама арендовала большой банкетный зал в «Плазе» с интерьером в стиле неорококо, один из лучших в Нью-Йорке, с зеркальными стенами и хрустальными люстрами, а для музыкального сопровождения наняла оркестр русских балалаечников.
Шесть музыкантов, когда-то игравших при царском дворе, с треугольными трехструнными балалайками на коленях сидели на платформе возле стены. Все во фраках, и каждый – словно кол проглотил. Они ждали, когда мама подаст знак. Музыкантам мирового класса по статусу не подобало играть на такого рода мероприятиях, но мне показалось, что они были рады получить эту работу.
Хостес и члены маминого комитета, которых она сумела привлечь, и несколько моих подруг из Лиги юниоров расхаживали по залу в традиционных русских платьях. Мама даже вечно недовольную Пиа уговорила к нам присоединиться.
Я никому, за исключением коллег-хостес, не рассказала о том, что буду принимать участие в этом мероприятии. Мне даже подумать было страшно, что кто-то увидит меня в таком наряде. Как актриса, я могла с удовольствием вырядиться во что угодно, но это было просто катастрофой. Представьте: сарафан – длинное черное платье-трапеция, – отороченный яркими красными и зелеными лентами, и белая блуза с рукавами-буф, украшенными вышитыми шерстяной нитью цветами. Плюс к этому мама настояла на том, чтобы мы надели на голову кокошники. Кокошник – невообразимо высокий головной убор, украшенный самоцветами, стразами и длинными нитками речного жемчуга. Я и без того была достаточно высокой, но в этом головном уборе с бахромой из жемчугов и вовсе напоминала Эмпайр-стейт-билдинг, только чуть пониже.
Для пожертвований мама установила на столе у входа в зал пустую чашу в русском стиле, с позолотой и эмалью. Она положила ладонь на мой вышитый рукав. Я сразу почувствовала волну чудесного аромата. Мамин друг, принц Мачабели, грузинский националист, придумал эти духи специально для нее. В них чувствовались любимые мамой нотки сирени, сандала и розы. Принц и его супруга, актриса принцесса Норина, присылали маме все свои новые ароматы, и в результате на ее туалетном столике образовался целый городок из цветных флаконов в форме короны с навершием в виде креста.
– Публики будет немного, – пробормотала мама. – Я это чувствую.
Мне не хотелось ей об этом говорить, но такой исход нашего thé dansant был неминуем. Американцы все больше склонялись к изоляционизму. Результаты опросов показывали, что наша страна еще не оправилась от огромных потерь в Первой мировой войне и от Великой депрессии и поэтому не хотела ввязываться в новый международный конфликт. Ньюйоркцы не горели желанием участвовать в благотворительном мероприятии, которое было организовано в пользу кого бы то ни было за пределами наших сорока восьми штатов.
– Мама, с началом войны в Европе твои белые русские сдали свои позиции на фронтах благотворительности.
– Да, если подумать о бедных европейцах, которым пришлось покинуть свой дом, – с улыбкой проговорила мама.
Она смотрела на перспективы заняться благотворительностью, словно какой-нибудь любитель сладостей на тарелку с пирожными.
В зале появился наш повар Серж в поварском колпаке гармошкой и в обсыпанном мукой кителе. Он бережно нес серебряную чашу с политым черничным сиропом творогом. Творог – это русское крестьянское блюдо. Серж, урожденный Владимир Сергеевич Евтушенков, происходил из российских дворян, но мама в этом всегда сомневалась. Он жил с нами и вполне мог бы сойти за моего брата, только намного младше, который говорит с жутким акцентом и все свое время тратит на придумывание новых блюд, чтобы произвести впечатление на нас с мамой.
Появление Сержа спровоцировало активность Пиа, она плавно, как крокодил соскальзывает в воду, подошла к нам с хрустальной чашей для пунша в руке.
– Серж выглядит очень аппетитно, – заметила Пиа.
Серж покраснел и вытер ладони о фартук. Долговязый и рыжий, он мог бы закадрить любую девушку в Нью-Йорке, но врожденная патологическая застенчивость удерживала его в кухне, где он предавался тихой радости запекания крем-брюле.
– Мама, возможно, не стоило арендовать зал в «Плазе», – сказала я.
Вероятность того, что зал площадью четыре тысячи квадратных футов заполнит желающая весело провести время публика, стремилась к нулю. Я украла с подноса хачапури, это такой нарезанный треугольниками масляный хлеб.
– Но ты дала объявление в «Таймс», люди должны прийти.
Мамин оркестр с чувством заиграл версию русской народной песни «Липа вековая», абсолютно несовместимую с любым танцевальным шагом.
Мама схватила меня за руку и оттащила в сторону.
– Мы продаем русский чай и сигареты, но ты к ним не прикасайся. Пиа говорит, ты их куришь со своим французским другом.
– Он не…
– С кем встречаться – это твое личное дело, но мы должны собрать деньги.
– Я знаю, что ты не одобряешь Пола, но мы просто друзья.
– Кэролайн, ты не на исповеди, но мы обе знаем, что собой представляют театральные люди. Особенно женатые артисты вдали от дома. Ты – женщина, тебе тридцать пять…
– Тридцать семь.
– Ты не нуждаешься в моем одобрении, но, если спросишь, я скажу, что в оркестре найдется пара музыкантов, которые могут составить хорошую партию. – Мама склонила голову в сторону балалаечников. – Русские аристократы.
– Им всем за шестьдесят.
– Дорогая, разборчивая птичка остается без корма.
Мама удалилась привлекать пожертвования, а я занялась последними штрихами по подготовке зала к thé dansant. И вот когда я, стоя на стремянке, направляла прожектор на оркестр и чувствовала себя при этом выставленной на всеобщее обозрение, в зал вошел Пол.
И сразу направился к стремянке.
– Рожер сказал, что я найду тебя здесь.
Великолепный зал был Полу к лицу – кремовые с золотом стены и красавец-брюнет. Меня накрыла волна la douleur – одно из многих французских слов, смысл которого сложно передать на английском. Означает «острая боль от невозможности обладать тем, кого желаешь получить».
– Просто чудесно, – буркнула я, спускаясь со стремянки и покачивая нитями речного жемчуга. – «Мог хотя бы улыбку сдержать».
– Я, вообще-то, в театр иду, но мне нужна твоя подпись на заявке на визу для Рины. Если тебе сейчас неудобно…
– Конечно удобно.
К нам подошла мама, и оркестр заиграл живее.
– Мама, позволь тебе представить – Пол Родье.
– Рада с вами познакомиться, – сказала мама. – Я слышала, вы заняты в «Улицах Парижа».
Пол одарил маму одной из своих неотразимых улыбок:
– Один из сотни, не более.
Но ему не удалось сразить маму. Для непосвященного она была воплощением радушия, но я не один год наблюдала за ней в светском обществе и могла уловить холодок.
– Извините, но я должна проследить за тем, чтобы принесли свежие хачапури. Похоже, кое-кто уже все съел.
– Хачапури? – заинтересованно переспросил Пол. – Обожаю хачапури.
– Боюсь, это для гостей, которые платят, – отрезала мама. – Но похоже, сегодня таких будет немного.
Пол слегка поклонился маме. С ней он держался очень почтительно.
– Леди, прошу меня извинить, я должен идти.
Пол улыбнулся мне и ушел тем же путем, что и пришел.
«Так скоро?» – мысленно простонала я, а вслух добавила:
– Отличная работа, мама, спровадила нашего единственного гостя.
– Эти французы бывают такими чувствительными.
– Ты не можешь рассчитывать на то, что здесь кто-то задержится. Ньюйоркцы скорее умрут, чем станут есть творог. И знаешь, для привлечения публики неплохо было бы предложить гостям алкоголь.
– В следующий раз будем продавать венские сосиски с фасолью. Если бы ты была устроителем, все закончилось бы пикником с бутылью кукурузного виски на столе.
Я переключилась на оформление зала и стала помогать ворчливой Бетти развешивать над дверями гирлянды из хвойных веток. За этим занятием я мысленно составляла длинный список дел, которые не успевала сделать. Отчеты для Рожера. Мои посылки.
И почему мама такая упрямая? Пора бы уже адаптироваться к двадцатому веку.
Я почувствовала на себе чей-то взгляд, обернулась, и да – мне подмигнул самый старый балалаечник в оркестре.
Спустя час даже мама признала поражение. Нашими единственными потенциальными клиентами были гости «Плазы» – парочка из Чикаго по ошибке забрела в зал и тут же выскочила, как будто мы являли собой колонию нудистов.
– Да, это провал, – констатировала мама.
Я потянула гирлянду со стены:
– Я тебе говорила…
Закончить я не успела – в холле снаружи поднялся такой галдеж, что мы уже не могли услышать друг друга. Двери распахнулись, и в зал хлынула разношерстная толпа, в которой можно было увидеть представителей всех ступенек социальной лестницы. Все были ярко накрашены и одеты по моде двадцатых годов. Женщины с холодной завивкой и в двойках[14]. В платьях с заниженной талией и прической боб, как у Луизы Брукс. Роскошные красотки со стрижкой под мальчика а-ля Жозефина Бейкер, в расшитых бусами и стразами атласных платьях. Мужчины в старомодных костюмах и котелках. Замыкали толпу музыканты в смокингах со скрипками и саксофонами в руках. Мама замахала им, чтобы они присоединялись к оркестру. Мне показалось, что она от радости готова до потолка прыгать.
– У нас для всех приготовлены хачапури, – объявила мама. – Наша дорогая Пиа присмотрит за вашими пальто.
И последним в зал вошел Пол.
– Боже, что здесь происходит? – удивился он, протискиваясь мимо двух женщин в надвинутых на глаза шляпках «колокол», которые тащили на себе барабанную установку.
– Думаю, ты в курсе. Как тебе удалось привести сюда всю труппу? – Разумеется, я всех их узнала.
– Ну ты же знаешь театральный народ. Мы все уже были в костюмах, и тут у Кармэн разыгралась мигрень. Дневное представление отменили, и мы свободны до первого звонка в шесть вечера.
Музыканты из оркестровой ямы «Улиц Парижа» присоединились к оркестру маминых друзей и быстро выяснили, что «Love is Here to Stay» может послужить прекрасным мостиком между народами. Публика, как только узнала мелодию, высыпала на танцпол. Женщины танцевали фокстрот и свинг с женщинами, мужчины с мужчинами.
Мама ринулась к нам, на бегу поправляя прическу.
– Какие симпатичные люди, правда? Я знала, что мы в конце концов привлечем публику.
– Это все Пол. Эти люди из его шоу. Вся труппа.
Мама растерялась, но только на секунду, потом повернулась к Полу:
– Что ж, Американский центральный комитет помощи русским благодарит вас, мистер Родье.
– У меня есть шанс принять благодарность в виде танца? Мне еще не приходилось танцевать под Гершвина на балалайках.
– Мы не можем лишить вас такого шанса, – отозвалась мама.
Как только новость о появлении знаменитого Пола Родье просочилась за двери банкетного зала, все гости отеля устремились на наш thé dansant, и Сержу пришлось три раза выносить новые порции творога. Очень скоро я смогла-таки избавиться от своего головного убора, все отлично проводили время, включая маминых друзей-музыкантов – они принесли с собой русскую водку и добавляли понемногу в чай со льдом.
Когда Пол уходил, его карманы были набиты русскими сигаретами, которые насильно всучила ему мама, а чаша для пожертвований была полна до краев.
Мама остановилась возле меня, чтобы отдышаться между танцами.
– Дорогая, можешь заводить друзей среди французов, сколько твоя душа пожелает. Я так соскучилась по театральным людям, а ты? Смена обстановки всегда так освежает.
Пол помахал мне перед уходом, thé dansant удался, пришло время уводить людей в театр к вечернему представлению. Его доброта сильнее всего отразилась на маме. После смерти отца она еще никогда так не танцевала.
Могла ли я отплатить ему неблагодарностью?
Бетти права, Пол был моим лучшим другом.
Глава 5
Кася
1939 год
Эсэсовец резко опустил лопату на Псину, мама вскрикнула. Из горла Псины вырвался короткий жутковатый клекот, и она затихла, только лапы продолжали скрести по твердой земле. Несколько желто-коричневых перьев взлетели в воздух.
– Вот так мы поступаем у себя дома, – сказал эсэсовец.
Он отбросил лопату, поднял Псину за перебитую шею и швырнул тощему солдату. Я старалась не смотреть, как она все еще дрыгает лапами в воздухе.
– Я забуду об этом, – проговорил эсэсовец, обращаясь к маме и вытирая руки носовым платком. – А вот вы запомните: укрывательство продуктов – серьезное преступление. Вам повезло, сегодня это было предупреждение.
– Да, конечно. – Мама держалась рукой за горло.
– Псина, – вырвалось у меня, и горячие слезы набежали на глаза.
– Слышали, – возмутился тощий солдат и перевернул Псину вниз головой. – «Псина» у поляков – это собака. Они назвали курицу собакой. Тупые поляки.
После этого они ушли, натоптав грязи у нас в доме.
Меня всю трясло.
– Мама, ты дала им убить Псину.
– А ты готова умереть из-за курицы? – отрезала мама, но я видела, что она едва не плачет.
Мы быстро прошли в кухню и стали наблюдать за тем, как немцы отъезжают в своем грузовике от нашего дома. Слава богу, сестра не видела всего этого.
Зузанна всю ночь работала в больнице и вернулась только на следующий день. Доктор Скала, директор больницы и преподаватель Зузанны, был знаменит своим методом по закрытию расщелины нёба. Его арестовали, а Зузанне приказали покинуть больницу, потому как поляки не могут занимать важные должности. Я никогда не видела сестру такой. Она была просто в бешенстве, оттого что ее вынудили бросить больных, среди которых большинство – дети. Позже мы узнали, что нацисты еще в тридцать шестом составили списки поляков, подозреваемых в антигерманских настроениях, и даже пометили гигантскими крестами больницы, чтобы их пилоты могли видеть цели с воздуха. Неудивительно, что им удалось так быстро захватить то, что они хотели.
После трех дней допросов в гестапо вернулся папа. Его не били, но теперь он должен был работать на почте с раннего утра до позднего вечера. Мы обрадовались, что папа жив, а он рассказал нам о том, как тяжело смотреть на то, как нацисты вскрывают письма и посылки поляков и забирают себе все, что захотят. Вечером они посыпали территорию вокруг почты песком, чтобы утром можно было понять – не ходил ли туда кто ночью.
Скоро начало казаться, что в Люблин заявились вообще все нацисты. Наши немецкие соседи выходили на улицу и встречали их с цветами, а мы сидели дома. Русские войска остановились к востоку от нас, дальше Буга они не пошли.
В итоге мы застряли, как мухи, севшие на мед. Мы были живы, но не жили. Нам повезло, что нацисты перевели Зузанну работать в люблинский полевой госпиталь. Они мобилизовали всех докторов, мужчин и женщин. Зузанне выдали документы с ее фотографией и дюжиной штампов с черными нацистскими орлами. С этими документами сестра могла выходить из дома в любое время, даже после комендантского часа. Много наших знакомых поляков исчезало по ночам без всяких объяснений. А мы каждое утро, просыпаясь в собственных постелях, благодарили Бога за то, что все еще дома.
Как-то днем я сидела на кровати, закутавшись в плед, и занималась моим любимым домашним спортом – проходила тест в журнале «Фотоплей». Приятель Петрика расплачивался с ним за нелегальные товары американскими журналами, и я выучила их от корки до корки. В тесте говорилось, что, если влюбишься, почувствуешь щелчок, как будто пудреница закрылась. Я чувствовала этот щелчок каждый раз, когда видела Петрика. У нас всегда совпадали интересы – большая редкость, если верить этому тесту.
И вот в этот день ко мне зашел Петрик. Мне было так хорошо, что я даже не вникала в то, о чем он говорит. Я просто очень хотела, чтобы он задержался подольше.
– Ты посидишь со мной или тебе надо бежать?
Я вырезала из журнала фото Кэрол Ломбард. Она была вся в молочае, где-то в Лос-Анджелесе. Трудно чувствовать щелчок и одновременно вести себя как ни в чем не бывало.
Петрик подошел и сел рядом со мной на кровать. Матрас прогнулся.
– Нет, я ненадолго. Пришел попросить тебя помочь в одном деле. Это для Нади. – Он выглядел таким усталым и не брился уже несколько дней. – Ей надо на какое-то время скрыться.
Я вся похолодела.
– Что случилось?
– Не могу рассказать.
– Но…
– Нет, ради твоей же безопасности. Но ты должна мне верить. Есть те, кто хочет все изменить.
Я ни секунды не сомневалась в том, что Петрик связан с подпольщиками. Пусть он мне ни о чем не рассказывал, но я была уверена, что после прихода нацистов Петрик одним из первых вступил в подполье. Эти встречи поздно вечером. Исчезновения на целый день без всяких объяснений. Мой друг не ходил в больших черных ботинках, как некоторые ребята из подполья. Они не понимали, что эти самые ботинки делают их легкой мишенью для немцев. Он участвовал в подполье по-настоящему.
Я только надеялась, что это не так очевидно для эсэсовцев. Большинство из нас бойкотировали приказы немцев и саботировали все, что могли саботировать, но отечественная армия, она же Армия Крайова, или АК, действовала всерьез. Правда, вначале она представляла правительство Польши в изгнании в Лондоне и не называлась официально АК. Наше правительство передавало для нас информацию по Би-би-си и по польскому радио «Свит» и еще через все семнадцать подпольных люблинских газет.
– Кася, если хочешь помочь, ты можешь сделать для меня одну очень важную вещь.
– Все, что угодно.
– Когда Надя с мамой ушли, им пришлось оставить дома Фелку. Нацисты жуткие вещи делают с домашними животными евреев. Ты можешь пойти и забрать ее?
– А где Надя? Я могу с ней увидеться?
Меня больше не волновало, влюбились Петрик с Надей друг в друга или нет, я лишь хотела, чтобы с ними не случилось ничего плохого.
– Их чуть не арестовали, просто повезло, что они с мамой успели вовремя сбежать. Это все, что я могу тебе сказать.
– Из-за того, что они евреи? Но Надя ведь католичка.
– Она – да. Но ее дед был евреем, а это ставит ее под удар. Наде надо укрыться на время. С ней все будет хорошо, а вот с Фелкой сейчас плохо. – Петрик взял меня за руку. – Ты поможешь? Возьмешь Фелку к себе?
– Ну конечно возьму.
– И еще. Мама Нади оставила кое-что в тумбочке у кровати. Она спрятала это в телефонном справочнике. Желтый конверт.
– Ну, не знаю, Петрик. Надина мама всегда дверь запирает.
– Задняя дверь осталась открытой. Тебе надо взять этот справочник с конвертом. Ты мне очень дорога, и я ни за что не стал бы тебя об этом просить, но больше некого.
– Да, конечно, ты же знаешь, я все сделаю, – произнесла я вслух, а тем временем в голове крутилось: «У него слезы на глазах или мне кажется?» «Ты мне очень дорога»?
Петрик взял мою руку и поцеловал ладонь. У меня было такое ощущение, что я вот-вот растаю, превращусь в лужицу и протеку через дощатый пол в подвал. На секунду даже забыла обо всем ужасе, который происходил вокруг.
– Завтра утром сразу после десяти принеси справочник в двенадцатый дом по Липовой улице. Позвонишь в звонок. Тебя спросят: «Кто там?» Ответишь: «Ивона».
– Это мое кодовое имя?
Ивона – это тисовое дерево. Мне хотелось что-нибудь более сексуальное, например Гражина, это значит «прекрасная».
– Да, это твое кодовое имя. Виола тебя встретит. Ты просто передашь ей справочник и скажешь, что это для Конрада Жегота. После этого уходи, но домой иди через Людовый парк.
Уже потом, прокручивая в голове этот разговор, я не была так уверена, что Петрик действительно сказал: «Ты мне очень дорога». Но может, тест для влюбленных в «Фотоплей» был не так уж далек от истины.
На следующее утро я отправилась к Наде домой, в их чудесную квартиру на первом этаже двухэтажного дома в пяти минутах ходьбы от нашего.
Мне очень хотелось на задании Петрика проявить себя как настоящий подпольщик.
По пути я остановилась у стены неподалеку от дома Нади. В этой стене был тайник, где мы оставляли друг для друга секретные записки и любимые книжки. Я достала камень, за которым был тайник. Края камня за все годы, когда мы доставали его и ставили обратно, обтесались. В тайнике лежала книжка Корнеля Макушинского «Сатана из седьмого класса». Мы много раз обменивались этой книгой. Будет ли у Нади шанс заглянуть в наш тайник? Я не стала трогать книжку и поставила камень на место.
Дальше я шла совершенно спокойно, а вот ближе к дому Нади задергалась. Когда я увидела знакомую оранжевую дверь, у меня начали дрожать колени.
Дыши глубже. Вдох. Выдох.
Я обошла дом и заглянула во двор через щель между досками невысокого забора. На заднем крыльце, свернувшись калачиком, лежала Фелка. Я даже через густую шерсть хорошо видела выпирающие ребра. Маленький, меньше нашего, двор Нади был весь усажен розовыми кустами, и единственным его украшением была ржавая детская коляска.
Я легко перелезла через забор и подошла к Фелке.
Может, она ждет Надю?
Когда я погладила Фелку по груди, собака попыталась завилять хвостом и с трудом приподняла голову. Она была теплой, но дышала прерывисто. Бедная девочка, наверняка изголодалась.
Переступив через Фелку, я открыла заднюю дверь и проскользнула в кухню.
Судя по виду яблочного пудинга, который остался на столе, Надя с мамой ушли из дома не меньше недели назад. Молоко в стаканах загустело, превратилось в настоящие сливки и манило мух. Я прошла через кухню в комнату Нади. Ее кровать, как всегда, была аккуратно застелена. В комнате Надиной мамы присутствовали следы поспешных сборов. Большую часть комнаты занимала металлическая, покрашенная в белый цвет кровать с пуховой периной. В изножье кровати лежало вышитое тамбуром покрывало, а в центре осталась вмятина от чемодана. На прикроватном столике – книжка «Унесенные ветром». На стене висели два гобелена с сельскими пейзажами, небольшое распятие и календарь, на котором была изображена элегантная женщина с букетом желтых цветов. Она стояла на фоне паровоза, а поверху было напечатано: «ГЕРМАНИЯ ЖДЕТ ТЕБЯ». А еще на календаре была реклама туристического агентства миссис Ватроба: «Ватроба трэвел. Мы вас довезем».