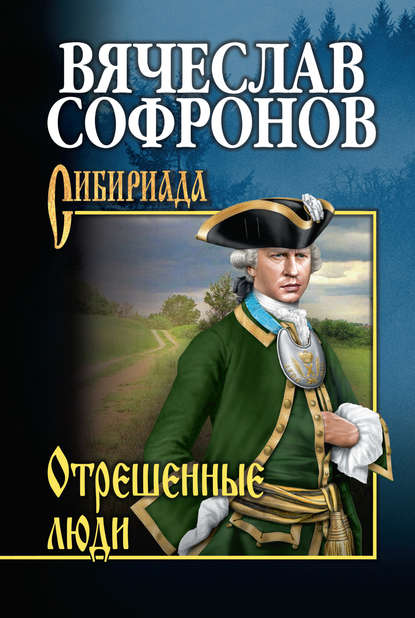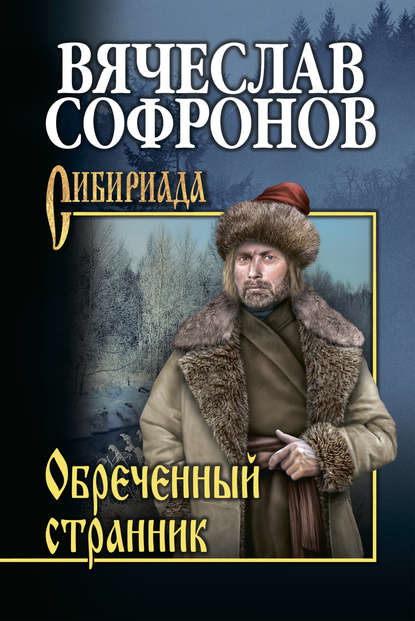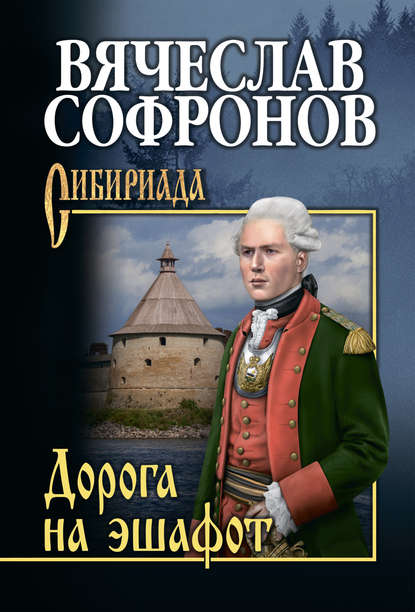Полная версия
Непоборимый Мирович
– О ком это вы? – спросила пришедшая в себя дама.
– Видите того юношу? Высокий, спина прямая и шагает так степенно, наверняка он и есть тот, о ком все говорят.
– Очень может быть, – нехотя согласилась с ней более иронично настроенная дама, хотя не нашла в походке и манерах у проходившего мимо молодого человека ничего выдающегося. Но спорить ей не хотелось, а потому она легко согласилась с приятельницей. Но тут же решила придать нотку пикантности их разговорам и мечтаниям.
– Может, пригласим его к нам и спросим напрямую? – предложила она и испытующе глянула на свою легкомысленную подружку. – Попросим моего человека, чтоб он представил его нам, а там уже найдется повод для беседы.
– Нет, я плохо сегодня выгляжу и совсем не готова к встрече с его импера… – Тут она осеклась, поняв, что сказала лишнее, и, совершенно сконфузившись, замолчала.
– Тогда как хотите, меня лично он совсем не интересует. К тому же меня ждут с визитом, и на этом я вынуждена, моя дорогая, распрощаться с вами, хотя мне была очень приятна наша беседа.
Тихо вздохнув, ее собеседница покинула карету, понимая, что наговорила много лишнего, и, выйдя на продуваемую холодным ветром с моря площадь, направилась к своей карете, где ее лакей уже спешил открыть дверцу. Так они и разъехались в разные стороны, а молодой человек, заинтересовавший их, прошел мимо и так никогда не узнал, с кем его спутали почтенные дамы.
2Подойдя к величественному дворцу, где при входе на часах стоял усатый гренадер, Мирович, по-мальчишески вздернув бровь и оттопырив нижнюю губу, коротко, как учили, козырнул ему и вошел внутрь. Там его тут же окликнул пожилой усатый вахмистр, бдительно наблюдавший за всеми, кто входил с улицы и поинтересовался:
– По какому делу отлучались, кадет Мирович?
– По личной надобности с разрешения его высокопревосходительства господина начальника корпуса генерала Игнатьева, – не растерявшись, отрапортовал юноша.
– Может, мне дозволено будет узнать, как вашему ротному, в чем причина вашей надобности? – с издевочкой спросил вахмистр, не доверявший особо ответам своих подопечных.
Вахмистр Семеныч, а по имени его никто и не называл, вышел из орловских крестьян. Прослужив положенный срок и пожелав остаться на службе, получил свою должность не столько за воинские заслуги, сколько за расторопность и умение найти общий язык с высоким начальством. Поначалу ему непросто было ладить с молодыми людьми из знатных семейств, имевших по нескольку тысяч таких, как он, крепостных, но постепенно обвыкся со своей должностью, почувствовал вкус к строгостям. Начальник корпуса и не думал его наказывать за те строгости, а даже относился к ним с поощрением, поэтому Семеныч все чаще и изощреннее продолжал чинить кадетам всяческие препоны, а порой и подвохи, неукоснительно проверяя каждый их шаг и поступок. Естественно, что юноши не выказывали вышедшему из крепостных вахмистру особого послушания, но дерзко отвечать боялись, поскольку назавтра могли оказаться в генеральском кабинете, где будет присутствовать и сам Семеныч, а там разговор короткий, и отправят тебя вместо ужина на плац маршировать перед гордо реявшим на шесте знаменем корпуса.
Василий Мирович, понимавший, что заступиться за него, в отличие от большинства сверстников, будет некому, ни разу не позволил хоть как-то возразить или с дерзко ответить на придирки Семеныча, но и в нем порой просыпалась родовая непоборимость ко всем, кто смел диктовать свои законы и условия. Но еще во время учебы в семинарии он научился сдерживать себя, помня, что придет и его час и он тогда покажет всем, а обидевшим его особенно, кто он есть на самом деле… Потому и здесь, будучи правым, никак не отвечал на упреки и унижения со стороны старших офицеров, а тем более сверстников, чьи родители жили во дворцах с многочисленной челядью и которые по выходе из корпуса готовились занять высокие должности в войсках.
Любой из них на подобный вопрос усатого вахмистра, не задумываясь, ответил бы: «Не твое дело, старый хрыч!», а потом со смехом пошел бы маршировать на плац. Но Василий не мог позволить себе подобного, а потому с достоинством, проговаривая каждое слово, ответил:
– Относил прошение в Ея Императорского Величества личную канцелярию.
Непонятно, поверил в его ответ Семеныч или нет, но для вида покрутил головой, мол, знаем мы ваши прошения. Поди, в ближайшую булочную бегал калачей отведать, но больше спрашивать не стал и отвернулся в сторону. С этим Василий и пошел дальше, вполне довольный ответом, а более всего тем, что ему наконец-то удалось отнести прошение на высочайшее имя о возвращении ему, как законному наследнику, части дедовских имений и поместий.
В Петербурге удалось узнать, что бабка его, добравшись вместе с младшим сыном Дмитрием в родные места, никак не могла вступить в права владения тем, что некогда принадлежало ее мужу. Никто не мог ей ответить, лишили ли ее всех прав, поскольку суда или царского указа на этот счет не было, или она может отныне считать себя вместе с сыном и внуками полновластной хозяйкой того, что по праву когда-то принадлежало ей и мужу. Минуло больше трех десятков лет, и на их землях поселились совсем другие люди. Кто-то из ближних соседей, посчитавших, что нечего пустовать плодородным землям, начал их без всякого на то разрешения возделывать. Были и те, кто приехал издалека и при поддержке нового гетмана поселились там, где им более всего приглянулось. У старой женщины не было сил противостоять чужакам, и она, чтобы не растерять их совсем, поселилась на небольшом хуторе у принявших ее незнакомых людей. А сын, не желая испытывать унижения изгоя, уехал, не сказав, куда, и с тех пор не подавал о себе никаких весточек.
Потому Пелагея Захаровна и не взяла с собой внука, что предполагала такой поворот дел, навидавшись всякого за свою долгую жизнь. И потом не писала ему, надеясь, что Василий сам пробьется в этой жизни, не будет ворошить прошлое, надеяться на поддержку тех, кто еще помнил его славных предков.
Василий, узнав о том, решил пойти законным путем и обратиться лично к царствующей императрице Елизавете Петровне. Все обдумав, однажды после строевых занятий, увидев в генеральском кабинете силуэт склоненного над столом начальника, он смело постучался к нему. А тот, всякого испытавший за свою службу, почему и оказался в стороне от больших дел в тихом кабинете то ли дядькой, то ли надзирателем за чужими детьми, внимательно выслушал его рассказ и, тяжело вздохнув, спросил:
– От меня чего хочешь услышать?
Василий опешил, не ожидая подобного вопроса, но потом собрался с мыслями и вместо того, чтобы пожать плечами и уйти, чего, видно, и ждал от него старый генерал, ответил:
– Совета, ваше высокопревосходительство.
Генерал Игнатьев еще какое-то время рассматривал юношу или делал вид, что смотрит на него, а сам размышлял, как правильно ответить, чтобы не обидеть незаслуженно настрадавшегося сироту, которому в душе сочувствовал. Направить его на путь поиска правды не смел, зная, чем те поиски могут обернуться для него лично. Потому, взвешивая каждое слово, предложил:
– Не лучше ли… будет… подождать? …
– Чего прикажете ждать? – тут же подхватил Мирович, пытаясь перевести их разговор к чему-то ясному и понятному.
– Ждать, когда все прояснится. Чего же еще… – Генералу Игнатьеву не хотелось полной ясности, потому как в тени ее таилось много опасных поворотов и неожиданностей.
– Моя бабушка и все другие тридцать лет ждали, – не особо раздумывая, внес ясность Василий.
– Напиши прошение. – Игнатьев попробовал все же дать совет, наперед понимая, что любое прошение не несет в себе ответа на поставленный перед ним вопрос.
– На чье имя прикажете писать? – Василий, ведомый все той же своей «непоборимостью», не думал отступать и покидать кабинет, не разобравшись хоть в чем-то. – На ваше имя или… – Он не стал продолжать, поскольку все же надеялся на генеральскую помощь хотя бы в самом малом, что тот подскажет, куда именно стоит отправлять прошение.
Генерал помялся, но потом решил, что вряд ли ему кто-то поставит в упрек данный молодому воспитаннику совет – он же его не на измену толкает, а всего лишь к поступку, разрешенному каждому верноподданному. И, как бы нехотя, глядя на темное окно, обронил:
– На имя государыни императрицы… – Помолчал, кашлянул и спросил осторожно: – Без ошибок сумеешь сам написать или обратишься к кому знающему?
Василий хмыкнул, поскольку, еще учась в семинарии, уже писал прошение на высочайшее имя о зачислении его в Шляхетский корпус. И за небольшую плату часто помогал младшим ученикам-семинаристам писать разные прошения-ходатайства на имя владыки, а потому опыт в том имел.
– Разрешите идти? – спросил он, понимая, что ничего другого, даже слов поддержки, он от этого пожилого человека не услышит. Да и не нужны они ему были – пережил уже ту пору, когда хотел броситься в реку от жалости к самому себе.
И генерал, словно почувствовав, что этот юноша сам справится со всеми напастями и постоит за себя, ничего говорить ему не стал, лишь устало махнул рукой, отпустив того и дальше шагать по жизни в одиночку без чьей-либо помощи.
Вот тогда-то Василий Мирович выпросил в канцелярии специальный лист с царским гербом, на который писец посадил большую кляксу. Заполучив тот испорченный лист, он аккуратно счистил пятно, как это не раз приходилось делать ему еще в семинарии, и написал прошение на высочайшее имя, которое и отнес в канцелярию ее величества.
Так что он не сказал ни слова неправды остановившему его Семенычу, не уточнил лишь то обстоятельство, что отлучился он, не поставив в известность генерала Игнатьева. Но не он ли самолично присоветовал ему то прошение написать? А раз написал, то его нужно и отнести по месту. Как же иначе? У него же нет пока денщика, кто смог бы сделать это.
И теперь ему, как и сказал изначально Игнатьев, нужно будет ждать. Но не просто ждать, пока что-то там произойдет и случится, а ждать ответа на свое прошение из канцелярии государыни. А сколько придется ждать, на то вряд ли кто мог ответить.
Но ждать Василий научился и от этого даже испытывал приятное чувство покоя: раз ждешь, значит, где-то происходят некие события, которые рано или поздно повернут, изменят твою жизнь. А куда повернут и как изменят? Так ли это важно! Его жизнь только начиналась…
3Столица первоначально произвела на Мировича тягостное впечатление. Казалось, он попал в огромный двор для приезжих, где нет никакого порядка и устройства: все двигалось, перемещалось с места на место, и никому не было дела до других. Все жили как бы сами по себе.
Вон летит верховой в мохнатой бурке и громко что-то кричит. Возле покосившейся избы с незакрытой дверью трое нетрезвых мужиков толкают друг друга, чего-то при этом бормоча. А прямо на дороге у хиленького мужичонки развалился стог сена, и он торопливо пытался перетянуть его покрепче просмоленной веревкой.
Сбоку от дороги на едва покрытую льдом реку, название которой Василий пока не знает, забралось несколько мальчишек. Они бегали по льду, как когда-то и он, учась в Тобольской семинарии, – скользили, падали, поднимались и вовсю хохотали.
Рядом с мостом, которых здесь великое множество, стоял нищий старик с непокрытой головой, а с ним мальчик, и оба негромко что-то пели, протянув перед собой ладони для милостыни.
По мосту двигалась процессия из нескольких десятков человек с крестами и хоругвями. Впереди несли покрытый сверху цветастыми рушниками образ Богородицы. Вышагивающий впереди священник с кадилом в руках придирчиво посматривал по сторонам: крестится ли народ на проносимую мимо них икону. Василий, только ступивший на мост, посторонился, стянул шапку с головы и торопливо наложил на себя крестное знамение, на что батюшка благожелательно кивнул ему. А следом за процессией недружно шла рота солдат, часть из которых несла под мышками березовые веники, направляясь, судя по всему, в баню на очередную помывку.
Первые дни Василий опасался выходить один из казармы, где жили казеннокоштные воспитанники. Он дожидался кого-то направляющегося в город по своим делам и, тихонько пристроившись сзади, следовал за ним. Раз случился такой казус, вспоминая о котором, он до сих пор испытывал неловкость. Тогда он долго стоял у выхода, дожидаясь, пока кто-то не выйдет из двери. Наконец на улицу чуть не бегом выбежал юноша, видимо, из другого отделения, потому что Василий его не знал, но в такой же, как и он, кадетской форме. Скорым шагом он направился в сторону ближайшего моста через реку, и Василий, стараясь не упустить его из виду, побежал следом. Подойдя к мосту, парень обернулся и увидел нагонявшего его Василия, остановился и, грозно сдвинув брови, спросил, дождавшись, когда тот поравняется:
– Кто тебя за мной подглядывать отправил? Вахмистр наш? Говори, а то как двину, не обрадуешься.
Он был шире в плечах и на полголовы выше, поэтому Василию стало не по себе, но и признаваться он не пожелал, а потому, изобразив на лице удивление, ответил:
– С чего ты решил, будто бы меня кто-то отправил за тобой? Я сам по себе иду и подглядывать совсем даже не собираюсь.
Трудно сказать, поверил ему парень или нет, но все же для верности уточнил:
– Точно не вахмистра соглядатай? А то мне говорили, будто есть у него такие. Чтоб выслужиться, ябедничают на других.
Василий покраснел до самых кончиков ушей и едва не вспылил, но сдержался, пояснив:
– Город плохо знаю. Вот и ждал, чтоб с кем-то вместе пойти…
– Что ж сразу-то не сказал? Тогда другое дело. Тебя как зовут? Вот я – Аполлон, – и он для верности ткнул себя пальцем в грудь.
– Какой Аполлон? – растерялся Мирович, поскольку ранее ему не приходилось слышать такого имени, разве что в греческих сказаниях, которые он читал в семинарии, упоминался языческий бог с таким именем.
– Да не тот, что ты думаешь, – широко улыбнулся хозяин странного имени. – Окрестили меня так, Аполлоном. Ничего, привыкнешь.
– Меня Василием нарекли, – ответил ему Мирович и поклонился.
– Оно и ладно. Так куда ты собрался пойти? Просто прогуляться или по делу какому? Сам откуда будешь? Я из-под Ярославля сюда прибыл, а ты?
Он засыпал Мировича вопросами и при этом не ждал, что тот на них ответит, а продолжал частить, одновременно спрашивая и рассказывая о себе.
– Папенька меня определил в корпус, я же хотел на статскую службу пойти по коммерческой части, поскольку пристрастие к счету имею, к арифметике, а он ни в какую. Мол, у нас, в роду Ушаковых, сроду купчиков не было, не наше то дело – чужие деньги считать, цифирки выводить. Коль Бог тебе способности к счету дал, иди в артиллерию, а то наследства лишу. И весь сказ. Тебя сюда тоже по указке отца направили?
Мирович не знал, что на это ответить, очень уж ему не хотелось перед этим ладным и расположенным к откровенности парнем рассказывать о судьбе своего ссыльного семейства. Потому он неопределенно ответил:
– У нас в роду тоже все сплошь в войске служили, только в казачьем. Мне без службы никак нельзя…
– Так ты из черкасов, что ли, будешь? – скорее утвердительно заметил Ушаков. – А чего, похож. С Малороссии, значит. Точно, суржик, как есть. – Василия передернуло от всплывшего неожиданно его семинаристского прозвища, но он и виду не подал. Аполлон же, как ни в чем не бывало, продолжил свои откровения:
– У нас в приходе батюшка с ваших краев, прям как твой родич. Так ты куда все же шел? Пойдем вместе, веселее будет.
Они уже перешли через мост и теперь двигались по оживленной улице, уворачиваясь от заледенелых комьев грязи, летевших из-под копыт коней. Говорил больше Ушаков, рассказывая о своем доме, как добирался в Петербург вместе с отцом, который не успокоился, пока не определил его в корпус, об офицерах, что ведут с ними занятия. Он уже год, как отучился, и его, как подумал Василий, не особо отягощало житье в казарме. Он быстро находил со всеми общий язык и расположение, в то время как Мировичу, выросшему в бурсацких строгостях, трудно давались отношения со сверстниками. Раньше Василий совсем иначе представлял себе армейскую жизнь, полагая, что меж офицерами царит всеобщее братство и выручка. Но сейчас, оказавшись кадетом, ему представилась совсем иная картина – здесь каждый жил сам по себе, и не ощущалось даже малейших признаков братства.
Те, чьи отцы имели высокие чины и положение, вели себя надменно и даже нахально. Им прощалась едва ли не любая провинность. Они могли опоздать на общее построение, отпроситься с занятий домой, не участвовать в строевой подготовке, и на все это начальство смотрело сквозь пальцы. Да и остальные кадеты вели себя вне занятий кто как хотел: могли в своих комнатах горланить песни во весь голос, тайком приносили в казармы вино, а захмелев, шли задирать младших, которые боялись вступать с ними в потасовки. Но чего не было в корпусе – это доносительства, с чем Василий достаточно хорошо познакомился в семинарии. Хотя ходили меж кадетами разговоры, будто бы у того же вахмистра Семеныча есть свои доносители, но в лицо их никто не знал, а если бы узнали, то вряд ли они долго продержались бы в корпусе, испытывая всеобщее презрение и получая оплеухи при каждом удобном случае. Если в семинарии приветствовалось постничество, то здесь кадеты со смехом относились к постам, и лишь единицы соблюдали их.
Тобольская семинария располагалась под одной крышей с мужским монастырем и если преподаватели не всегда могли присмотреть за разнородной бурсацкой массой, то зачастую на помощь им приходили монахи, контролируя каждый шаг и поступок семинаристов. От их зоркого взгляда трудно было укрыться, а потому не зря среди бурсаков родилась поговорка: «Кто не порот, тот не бурсак». Даже на исповеди они опасались сказать лишнее, хорошо понимая, что об этом скоро узнает ректор, а тогда жди скорого наказания за все грехи сразу.
В корпусе, где за кадетами не было особого пригляда и прощались многие их непослушания, Василий, как это ни странно, тяготился относительной свободой и вел себя в стенах корпуса так, как то было принято в семинарии. Относительную свободу он воспринимал как явление временное и часто ловил себя на том, что ждал беспричинного вызова к начальству и последующего за тем увольнения. Воспитанный в иной среде, он так и не принял до конца новый образ жизни и не мог ощутить себя будущим офицером, готовым по первому приказу шагнуть под неприятельские пули. Семинаристское прошлое тяготило его, словно гиря, привязанная к ногам…
Но сейчас ему и Аполлону была предоставлена полная свобода. Они просто бродили по петербургским улицам, глазея на чужие дворцы, где в парадных стояли припорошенные снегом лакеи в диковинного цвета ливреях, переминаясь с ноги на ногу; со смехом подпрыгивали высоко вверх, пытаясь увидеть и рассказать другому, что происходит за высокими заборами; подходили к поджидающим хозяев лошадям, заботливо укрытых сверху кошмой, и хлопали их по спине. При этом умудренные опытом кучера безошибочно признали в них кадетов, хотя и делали вид, будто бы сердятся, и грозно взмахивали в их сторону длинными кнутами, но на самом деле с улыбкой посматривали на юношей. Они понимали, что никакого вреда лошадям они не причинят, пущай побалуются. Скоро придет срок тянуть этим парням воинскую лямку до конца своих дней или до тяжелого ранения, а потому не гнали прочь.
Не сговариваясь, Василий с Аполлоном завернули в хлебную лавку, откуда за квартал разносился ароматный ситный дух, где их встретил хозяин с длиннющими, как у таракана, черными усами и застывшей улыбкой на лице.
– Калаш? – тут же спросил он, едва увидел вошедших юношей. – Карош калаш!
– Ага, Ахмет, давай калач попышнее, – откликнулся Ушаков. Видно было, что он бывал здесь не раз и даже знал хозяина по имени.
– Баранка не нада? – на всякий случай спросил хозяин. – Карош баранка.
– Нет, нам и калача хватит, – расплачиваясь, ответил Аполлон.
Мировичу стало стыдно, что у него нет денег, которых ему и взять-то было неоткуда. В отличие от Ушакова, ему их никто не мог прислать, а попробовать чего-нибудь вкусненького ох как хотелось! Но Аполлон совсем не обратил внимания на то, что платит он, и тут же отломил половину калача и подал Василию.
– Ахмет хоть и не русский, а печет славные калачи. Я его лавку давно заприметил и захожу, когда рядом оказываюсь. Он мне раз даже в долг дал. Сказал, вернешь, когда деньги будут, – откровенно сообщил он.
Мировича это слегка успокоило, значит, у того тоже не всегда водятся денежки, раз пришлось брать в долг. И он решил поинтересоваться:
– Отец деньги присылает?
– Дождешься от него! – со смехом ответил Аполлон. – Просил, а он мне, мол, деньги тебе ни к чему, когда на всем готовом живешь в корпусе. Деньги, говорит, испортить могут! Никого еще не испортили, а вот меня могут!
– И где же ты деньги тогда берешь? – осторожно спросил Василий.
– Да где их взять? Играю, иначе больше негде взять, – откровенно признался тот.
– Как играешь? – удивился Василий. – В кости или в бабки?
– Кто же в бабки на деньги играть станет? Тоже мне, скажешь! Когда в кости, а чаще в карты. Я же сказал: считать люблю, а в карты считать надо, кто сколько сдал и сколько еще в колоде карт осталось, поэтому чаще всего выигрываю, но не так, чтоб много, а вот на калачи или что другое хватает.
Василий и прежде слышал об игре в карты среди кадетов, но ни разу их даже в руках не держал. В семинарии если бы узнали об этом, то мало того, что выпороли бы, а еще бы заставили несколько дней подряд читать покаянную молитву, стоя на коленях, а то бы и совсем выгнали. Поэтому ему невообразимо захотелось научиться этой игре, чтобы у него тоже завелись деньги в кармане. Чем он хуже своего нового знакомца? Считать он тоже умеет, к тому же, как слышал, в таких играх может и повезти, а в своей удаче он ничуть не сомневался.
– Научишь? – осторожно спросил он.
– А чего не научить, только с тобой на деньги играть не стану.
– Чего же так? – удивился Мирович. – Боишься?
– За тебя боюсь, что обчищу и без штанов по миру пущу. Ты сперва с другими попробуй, и не на деньги, а так, на щелчки или кукареку.
– Это как? – в очередной раз не понял Мирович.
– Обыкновенно! Сколько очков проиграешь, столько раз тебя и нащелкают по носу картами. Или под стол отправят, будешь оттуда кукареку кричать, пока не отпустят. Оно не всем, конечно, нравится, но зато деньги не проиграешь.
Они уже подходили ко входу в корпус, когда Аполлон, словно чего вспомнил, остановился и серьезно попросил:
– Только о том, что говорил тебе, молчок. Уговор?
– Само собой, – ответил Мирович. – Да и как иначе…
– Всяко бывает, – хитро сощурился Ушаков. – А то потом скажешь, что не предупредил тебя. Мало ли что… Ладно, где тебя найти можно? Мы же в разных корпусах живем. Дворец такой огромный, я до сих пор всех закоулков тут не знаю.
Мирович объяснил, где и как его лучше разыскать, и на этом они расстались. Возвращаясь к себе, Василий размышлял на ходу, стоит ли продолжать дружбу с Аполлоном, потому что вдруг понял, какие здесь разные люди, совсем не похожие на тех, с кем он имел дело раньше. Конечно, Аполлон был человеком прямым и открытым, чем и подкупал. Но трудно было не заметить, что в нем, как часто говорила его бабка, «черти гнездо свили и уходить не собираются».
Даже здесь давало себя знать монастырское воспитание, когда им изо дня в день твердили о непрестанной борьбе сил зла с добром и внушили это крепко, едва ли не на всю жизнь. А сейчас он чувствовал, что переступил ту черту, где зло живет отдельно, а добро – в противоположной стороне. В жизни трудно различить, чего в человеке больше: зла или добра. А посоветоваться не с кем, все нужно решать самому и не откладывать на какой-то срок, а именно сейчас сказать себе: я выбираю другое, совсем не то, что мне предлагают.
Василий хорошо понимал: в данном случае никакая крайность его не спасет. Или он останется без друга и будет жить сам по себе, как прежде, или он должен впустить в себя чуточку, совсем немного из того чужого мира, чтобы не выглядеть белой вороной. Так и не придя ни к какому выводу, он прошел к себе и бросился на кровать, решив еще раз все обдумать. А думать теперь приходилось гораздо чаще, чем раньше, поскольку делать это за него уже никто не станет.
4Через несколько дней Ушаков и впрямь нашел Василия в комнате, где жили еще пять человек, и вызвал его в коридор. Там их поджидал еще один парень в такой же, как у них, форме Шляхетского корпуса. Но он был немного старше Аполлона, а тем более Василия.
– Прошу любить и жаловать – Петр Ольховский. Мы с ним сошлись еще раньше, чем с тобой познакомился, – представил того Ушаков.
Мирович в ответ кивнул головой, ожидая дальнейших предложений.
– Ты, помнится, говорил, что хочешь картежной игре научиться? Правильно говорю? – спросил Ушаков.