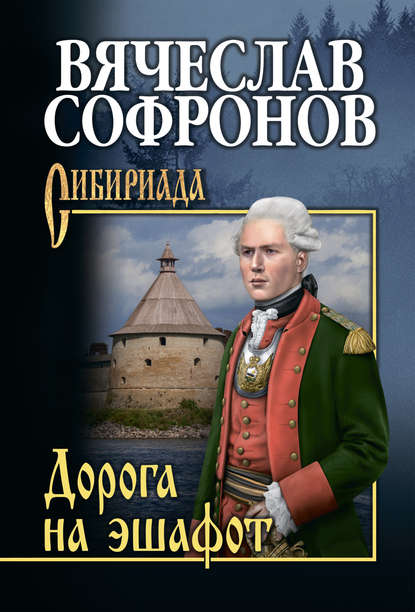Полная версия
Непоборимый Мирович
Не отстал от старших и другой брат, Иван, и записался в рейтарский полк, а весной вместе с остальной воинской командой был он направлен на службу в отдаленный пограничный пикет где-то в степной части необъятной сибирской земли. Через пару лет вернулся обратно в Тобольск, получил повышение по службе, а потом и вовсе перебрался служить куда-то на Урал.
Мать, хорошо знавшая о его желании всеми правдами и неправдами вернуться на родину, больше всех переживала именно за него, Ивана, пошедшего нравом в отца по части неуступчивости и скрытности. И, как оказалось, не зря. Через несколько лет к ним в дом заявилось несколько вооруженных людей и, ни слова не говоря, начали рыться в вещах, осмотрели все их пожитки и забрали, ничего не объяснив, все обнаруженные в доме бумаги. Через несколько дней Семен случайно узнал, что брат его Иван сбежал с Урала в Крым к татарам, где его опознал кто-то из русских купцов, и, вернувшись в Россию, тут же донес об этом.
После этого Пелагея Захаровна окончательно потеряла надежду на скорое освобождение и как-то сникла не только внешне. Она стала реже приглашать в домовую церковку приходского батюшку, хотя тот всегда с охотой посещал их, поскольку это входило не только в его духовные обязанности, но, согласно последним царским респектам, он должен был напрямую сообщать обо всем виденном и слышанном в ссыльном семействе своему начальству.
Меньше всего опасений в первые годы вызывал у хозяйки дома младший сын Дмитрий, Димуля, как она любовно звала его, поскольку был привезен в Тобольск совсем в юном возрасте и при всем желании сбежать куда-то не мог, разве что со двора на соседнюю улицу, где его вскоре и находили посланные на розыски сестры.
Особо переживала Пелагея Захаровна за скудное их питание и дурной сибирский климат, от частой перемены которого у нее самой постоянно болела голова, время от времени перед глазами плыли радужные круги, а нехватка солнца сказывалась еще и на общем настрое. Унылость эта слегка развеялась, когда у дочерей, а потом и у сына Якова стали появляться на свет дети. Внуки росли всем на удивление крепкими, и хотя болели не меньше других, но, видать, пошли в крепкий дедовский корень и были такие же неуемные, шустрые и озорные, как когда-то ее собственные детки. Забот у Пелагеи Захаровны прибавилось вдвое, а то и второе, поскольку все домашние ссоры и неурядицы она привыкла решать единолично и вершила скорый суд, не спрашивая мнения своих женатых великовозрастных сыновей.
Больше всех доставалось от нее зятьям, как она их называла, «мужикам худородным», один из которых был сыном местного дьячка, а другой – мелкого купчишки, которые всегда испытывали робость и смущение, едва только грозная Пелагея Захаровна заявлялась к ним в дом с небольшими подарками и неизменными нравоучениями. И хоть называли они ее «мамочкой», но как только обычный разговор переходил в жаркий спор, «мамочка», не выбирая выражений, начинала костерить зятьев самыми последними словами. Они, не зная, как ей противостоять, почтительно обращались к ней по отчеству, отчего она умиряла свой гнев, а потом, махнувши рукой и чертыхнувшись на прощание, величественно уплывала домой.
…Шло время, и подрастали внучата в многочисленном семействе Мировичей, доставляя радость своей бабушке Пелагее, которую годы как будто не тронули, и она оставалась все такой же властной и расторопной. Она успевала следить не только за переменами среди своих родичей, но и за тем, что творится в столице, где на престол всходил то один, то другой наследник рода Романовых. После смерти не успевшего водрузить на голову царскую корону Петра II для управления страной приглашена была Анна Иоанновна, царствовавшая долгих десять лет и не освободившая за этот срок ни одного сибирского ссыльного, а лишь умножившая их число. Об этом неизменно ставили в известность свою домоправительницу бабушку Пелагею ее сыновья и зятья, поскольку еще ни одному несчастному, как их повсеместно именовали в Сибири, не удалось проехать мимо Тобольска. Наконец пришло сообщение, что и эту императрицу проводили в дальний путь, и объявлено было имя нового правителя русского государства: Иоанн Антонович.
– Это кто ж таков будет? – строго спросила Пелагея Захаровна старшего сына. – Чей он будет? Что-то ране не слыхивала о таком…
Тот принялся объяснять, кто он, новый император, которому едва минуло два месяца, и почему он на трон посажен, хотя по всем приметам еще и в кроватке сидеть не может.
Пелагея Захаровна внимательно выслушала его объяснения, а потом со значением произнесла:
– Видать, у них там, наверху, совсем никого сыскать нельзя, чтоб страной, как в старые добрые времена управлял толком да ладом, вот и додумались младенца на трон возвести… Господи, когда только наши муки кончатся… Уж сколько ни молю Господа, а все не простятся нам вины наши. У кого ж нам защиты искать, не у ребенка же неразумного?
С этими словами она и ушла на свою половину и уже больше ни у кого не спрашивала, что там, в Петербурге, происходит, потеряв всякую надежду на скорое возвращение в родные края.
Меж тем в тот же год у сына ее Якова накануне дня Василия Великого родился долгожданный сынок, воспринявший имя прославленного подвижника православной веры. Бабка Пелагея, с умилением целуя его в кровоточащий пупок, заявила, мол, коль родился в столь великий день мальчик, то это не иначе как знак Божий, а потому быть ему иноком-молитвенником, и тогда все грехи их рода будут у Господа отмолены. Родители же младенца, хорошо зная, что спорить с ней не только неразумно, но порой и опасно, не перечили ей, сочтя за лучшее промолчать.
Зато сам Василий словно понял смысл бабкиных слов, громко заплакал и тут же испустил вверх немалую струйку прямо в лицо сразу переставшей умиляться им бабке. То был первый самостоятельный ответ Василия Мировича на пророчества старших о его дальнейшей судьбе. Пелагея Захаровна навсегда запомнила этот фонтан на ее ласки и не раз напоминала о том внуку, когда он вошел в сознательный возраст, на что он обычно отвечал: «Так я тогда еще слов человечьих не знал». Надо ли говорить, что отношения бабки с внуком складывались трудно, потому как оба были одной, как говорила сама Пелагея Захаровна, «непоборимой» породы, и найти согласие меж собой им было зачастую весьма трудно. Но это не мешало Васеньке быть любимцем у своей бабушки, получая при этом от нее обидные прозвища и даже подзатыльники.
А еще сохранилось в роду Мировичей предание о словах, что сказала при его рождении старая знахарка, приглашенная в дом накануне знаменательного события. Она первым делом осмотрела и ощупала роженицу и заявила, что роды будут трудными, поскольку младенец с дурным норовом и лег не как положено, а поперек проходу. А когда начала выправлять плод, то удивленно заявила, что он брыкается и не хочет выходить так, как то все добрые люди делают. Потом она все же совладала с малосильным младенцем и повернула его маленькое тельце куда надо, что стоило ей превеликих трудов и усилий.
После его успешного появления на свет, она, обмыв его и внимательно оглядев, вдруг зашептала то ли молитву, то ли свой знахарский наговор и по каким-то только ей известным приметам неожиданно заявила: «Чудная судьба ждет отрока энтова. Не иначе как станет генералом, коль раньше времени голову на плаху не положит…» А потом, вспомнив свою борьбу с ним, добавила: «Ни разочка не попадался мне такой упрямец непоборимый. Знать бы, в кого пошел». Отец Василия знал, в кого, но знахарке объяснять всего не стал и, расплатившись с ней, поблагодарил и проводил до порога.
И, правда, упрямство мальчика и «непоборимость» ощутили родители его с первых дней, когда он мог закатиться надолго, требуя материнской груди, и кричать до тех пор, пока не добивался своего. По правде сказать, не было в том чего-то необычного; это присуще многим крепким детям, желающим получить материнское молочко и орущим при этом на всю округу. Едва научившись ползать, он обязательно добирался до края того места, куда был положен. А уж когда выучился ходить, то и вовсе – не останови его, ушел бы непонятно куда. Причем не считался ни с синяками, ни с ссадинами, зарабатываемыми во время непрестанных и многочисленных падений. Потому бабка Пелагея, наблюдавшая за стараниями подрастающего внучка, только головой качала и повторяла: «Ой, мировская порода! Такого ничем не остановишь, везде пролезет. И управы на него не найти, все по-своему сделает, словно страху Господь ему дажесь самую малость не вложил…» При этом она не оставляла мысли сделать из него великого молитвенника, стараниями которого Бог поможет им рано или поздно выбраться из Сибири и вернуться в родные имения на Полтавщину.
Вслед за Василием родились в их семье две сестры, но во время очередных родов мать их не вынесла испытания и умерла в тяжких муках, когда мальчику шел всего лишь пятый год. Яков Мирович долго переживал утрату, но замену жене искать не стал, оставив пятилетнего Васю подле себя, а девочек взяли в свои семьи его сердобольные сестры.
Но и этого показалось мало судьбе, подвергавшей род Мировичей все новым и новым испытаниям. Посреди зимы Якова Мировича направили в поездку на дальние степные озера, откуда в город шли обозы с солью. В дороге он изрядно простыл и вернулся через месяц домой, тяжело кашляя и поминутно хватаясь за грудь. Недуг недолго мучил его, и однажды днем после полудня он тяжко застонал, и из горла вылилась алая струйка крови. Василию о том рассказала уже после похорон отцова сестра, находившаяся при нем во время болезни. Больной сам отказался от исповеди у местного батюшки, поскольку, как говорила та же сестра, «грехов особых за собой не чуял». Успел только передать, чтобы сына забрала к себе Пелагея Захаровна. Тот не так удивился смерти отца, как уходу матери. Но душа его окончательно зачерствела, а тонкие черты лица заострились, и он стал похож на одинокого волчонка, окруженного сворой собак.
Возможно, тогда уже в нем стал пробиваться наружу слабый росточек сознания, ощутившего несправедливости жизни и судьбы, выпавшей ему, во многом отличной от остальных, неласковой и порой жестокой. Когда они с бабкой Пелагеей приходили к могиле отца, то он мысленно спрашивал у него: «Батюшка родный, ответь мне, за что нам все это уготовлено и будет ли конец тому?» Не получив ответа, носил тот вопрос в себе, надеясь, что когда-нибудь сам поймет, догадается, почему и за что его судьба так не схожа с прочими.
4Летом Василий достиг семи лет, и бабка Пелагея, не оставившая надежды воспитать внука как великого молитвенника, отвела его в местную семинарию, где занятие вели их земляки, прибывшие в Тобольск из Киева. С самого начала Василия поразили мрачные и сырые монастырские покои, где находились полутемные семинарские классы. Столы стояли вдоль стен, а возле них на лавках сидели ученики, обращенные спинами к своему учителю. Тот, в застиранной рясе, с пятнами грязи на подоле, словно карающий ангел, ходил позади них с длинной хворостиной в руках. Едва только кто-то из читающих по складам нескончаемый псалом или притчу делал ошибку, слышался свист рассекающего воздух прута и короткий шлепок, а затем вскрик пострадавшего. Учеников было не больше дюжины, и пока длился урок, их наставник успевал на каждого по нескольку раз опустить свое орудие, кому по спине, а иным и по шаловливым рукам. Потом, собравшись в общей келье, перед сном, они хвастались друг перед другом, стянув рубахи, кому досталось больше ударов, у кого от них сочится кровь, а кому хлыст лишь оставил легкий след.
Получив первый, слабо ощутимый удар, Василий вскочил со скамьи и чуть не кинулся на учителя, чем вызвал немалое удивление остальных подростков, многие из которых превосходили его годами. Учитель же Николай, увидев признаки непослушания, пригрозил, что в следующий раз отправит строптивца в темный подвал и оставит там на всю ночь.
– Ишь ты, какой шустрый! Прям суржик какой, не иначе, – усмехнувшись, сказал тот, назидательно грозя Василию пальцем.
Это случайно оброненное отцом Николаем словечко приклеилось к Василию, и сверстники тут же прозвали его Суржиком, не зная, что оно значит. Понимая, что избавиться от своей клички ему просто так не удастся, он первое время пробовал не откликаться на нее, а потом и вовсе перестал обращать внимание, тем более что почти у каждого бурсака было свое прозвище.
В отношениях с отцом Николаем он тоже старался никак не реагировать на его придирки и замечания и попросту затаился в своем собственном мальчишеском мире, пытался стойко сносить ежедневную порцию ударов гибкой хворостины и старался всем показать, будто бы ему совсем не больно. При этом для самого себя он так и оставался «непоборимым» потомком своего славного рода и не собирался сдаваться на милость любого, даже самого могучего противника, возомнившего себя победителем, а уж батюшка Николай в победители его, Мировича, никак не годился.
Оставшись одни, мальчишки и Василий вместе с ними, как могли, передразнивали своего наставника, повторяя с гримасами на лицах его наставления: «Не балуй!», «Читай правильно!», «Не коверкай слово Божие!»… Большинство подростков были сыновьями приходских батюшек, которых силой свезли со всей округи, чтобы заполнить пустующие классы совсем недавно открытой первой сибирской семинарии. Не только сами поповичи, но и отцы их не могли уразуметь, зачем их заставляют учить проклятую латынь. Каждый из них худо-бедно знал с десяток молитв, выученных еще в отцовском доме. А тут на тебе, латынь! Даже вне занятий запрещалось им говорить меж собой по-русски. За каждое русское слово полагались розги.
– Пишем на слух слова на латыни, – диктовал громко отец Николай: Sapiens, entis, liber, libera, liberum, tener, tenera, tenerum…[2] – Потом делал паузу и безапелляционно заявлял: – Но к вам только что записанные качества не относятся, а вот это про вас: miser, misera, miserum, asper, aspera, asperum, piger, pigra, pigrum…[3]
Бурсаки покорно записывали продиктованные слова, совершенно не понимая их смысла, что было ясно по отсутствующему выражению на их лицах. Отец Николай, видевший это, тут же обращался одному из них:
– Повторяй, отрок неразумный: Ego sum asinus stultus![4]
– Эго сум асинус стултус… – покорно повторял тот.
– А теперь переведи, что это значит, – требовал учитель.
– Я… – робко начинал тот, – я есть…
– Так, кто же ты есть?
– Асинус стултус, – тянул тот, не решаясь сказать это по-русски.
– А кто есть асинус стултус?! – нажимал на него отец Николай. – Говори, говори, мы никому о том не скажем.
– Не буду, – замыкался вконец затурканный напором грозного батюшки семинарист.
– Не хочешь говорить? Так я тебе подскажу: глупый осел. Вот кто ты есть. А за то, что не хотел сказать, вот тебе пять ударов по рукам.
Бурсак покорно вытягивал перед собой по-мальчишески тонкие пальцы и получал десять ударов, привычно дул на пальцы, засовывал их под мышки и садился на место.
И некому было пожаловаться на причуды их преподавателей, что при каждом удобном случае подчеркивали тупость и невежество своих воспитанников, надеясь хоть таким путем вбить в их юные головы необходимый объем знаний. Но если с письмом и счетом еще куда ни шло, то латинские спряжения и обороты никак не давались юным поповичам и не желали занимать свое место в их чистой, как озерная гладь, памяти. Поэтому они старались платить своим учителям-обидчикам той же монетой и, затаившись в полутемных коридорах, шептали тихонько им вслед:
«Латинянин проклятый! Чтоб тебя разорвало на Страшном суде! Будь ты трижды неладен!»
Изредка приезжал чей-нибудь сердобольный отец, вызванный владыкой по какому-то делу, и заглядывал вечерком в семинарию, вызвав сына своего за ворота. Там он совал ему в руки, с отметинами от прута, лукошко с провизией и интересовался, как идет обучение, скоро ли отпустят домой. Сынок его горестно всхлипывал, стесняясь рассказать о всех терпимых им притеснениях, и просил забрать его из ненавистной бурсы, считая отца самым сильным человеком на земле. Но тот в ответ лишь вздыхал и советовал:
«Ты уж потерпи, милый, коль то для учебы нужно. Терпение – оно горы воротит, а как лето придет, обязательно приеду за тобой».
С тем и прощались, каждый утирал слезы: один – от своего бесправия, а другой – от бессилия изменить порядки, заведенные свыше.
Потом отец тот, когда ему случалось встретиться с таким же, облаченным в священство соседом, в самых мрачных красках передавал, чему учат их сыновей:
– Слышь-ка, оне там по-русски понимать скоро совсем разучатся. Ну, скажи ты мне, Христа ради, зачем они эту латынь в башку малолетнюю вбивают? Разве она в священнослужении нашем нужна? Разве «Отче наш» по-латински читать нужно? Ежели дальше так пойдет, этак скоро нас всех заставят и за папу римского молитву творить!
– Все к тому идет, – согласно откликался его собрат, с опаской оглядываясь вокруг, как бы кто не услышал и не донес. – Мой Федор третий год в этой самой семинарии спину гнет, а в башке у него ничуть не прибавилось. Он не говорит, скрывает, а порют там каждый божий день, да еще и еды лишают. Где это видано? Нас вот совсем не тому и не так учили…
– Жалобу писать надо государыне на владыку нашего, латинством испорченного. Какой умник решился его к нам поставить?
– Да я слыхал, будто и в Перми, и в Казани то же самое творится, одни латиняне кругом возобладали, а матушка-императрица и слова против них сказать не смеет…
Шел седьмой год правления императрицы Елизаветы Петровны. Она действительно не знала, что делать с наводнившими всю Россию, еще со времен ее отца Петра I, епископами из Малороссии, прозываемыми черкасами. Не было ни одной епархии, где на кафедре находился бы владыка великоросс родом из Новгорода или Рязани. Лишь чуждые русскому уху фамилии иерархов можно было встретить от границы на западе до окраины на востоке. А императрица, сердцем понимавшая, что нужно как-то менять, исправлять положение, не знала, с какой стороны ко всему этому подступиться. А потом и вовсе махнула рукой, решив, что большой беды не будет, коль киевские выпускники поруководят русскими епархиями. Авось, толк какой будет. А что строгости в их правлении чрезмерные, то опять же польза для русских дремучих батюшек, которые дальше своего прихода ни разу в жизни носа не казали, пущай свои нечесаные бороды к небу почаще вздымают, авось хоть от этого умишка у них прибудет.
Батюшки, памятуя о заповедях господних, терпеливо сносили латинские строгости, переучивались новому пению, но по осени деток своих прятали от приезжих черкасских наборщиков в семинарию. Не всем это удавалось, поскольку владыка завел новый обычай: переписывать по рождению всех поповских чад мужского пола, а через нужное число лет изымать их из-под отцовского крова. Приходилось брать великий грех на душу и показывать верстальщикам ложные списки о смерти чад своих. Парнишек же заблаговременно отправляли к дальней родне или в другую деревню, где они и пережидали осенний набор в ненавистную семинарию. А уж тех, кого не смогли укрыть, приходилось отдавать на учебу. Провожали их, словно на войну, оплакивали всей родней вместе с соседями, а после отъезда непрестанно молились за них, чтобы не повредились на чужой стороне ни умом, ни здоровьем. Кто считал, сколько их умерло от разных болезней за монастырскими стенами, живя впроголодь и в непрестанной учебе? Хоронили тут же, в монастыре, где помещалась семинария, и небольшие крестики чуть в стороне от преставившихся по возрасту схороненных монахов служили воспитанникам напоминанием, что их ждет, если они как можно быстрее не вырвутся на волю, пройдя все необходимые круги обучения и страданий.
И Василий Мирович, проучившись в семинарии пару лет, научился терпеть и сносить обиды, понимая, что некому за него тут заступиться, замолвить словечко. Он и не ожидал, что судьба хоть чем-то порадует его, и замкнулся, насколько это можно, в себе. И без особых эмоций встретил известие, что всех членов семейства Мировичей великодушная императрица Елизавета Петровна простила и разрешила им вернуться на родину.
5Случилось то в середине лета, когда всех семинаристов на короткий срок отпустили по домам. Ему же идти было некуда, а потому он неспешно побрел в дом к бабке Пелагее. Та изрядно сдала в последнюю зиму и редко выходила из своей спаленки, где подолгу молилась перед старинными, привезенными с собой иконами. Когда Василий вошел к ней, она, не прерывая молитвы, указала ему на место рядом с собой. Он покорно опустился на колени и со вздохом присоединился к молитве, а сам в это время думал, когда же позовут обедать, поскольку по дому плыл соблазнительный запах свежеприготовленного борща. Но Пелагея Захаровна еще долго читала молитвы, прося здоровья каждому из сыновей, дочкам, зятьям, а потом и своим многочисленным внукам. Василий терпеливо ждал, думал, чем займется в эти недолгие каникулярные недели, и решил, что обязательно станет ходить каждый день на реку купаться, а может быть, ему удастся с кем-то съездить в деревню и там покататься верхом.
Когда Пелагея Захаровна со стоном, держась за спину, поднялась с колен, он кинулся помочь ей, за что был удостоен ласкового поглаживания по голове.
– Подрос-то как за зиму, скоро совсем большой станешь, – отметила бабка. – Жалко, отец твой до этих дней не дожил…
Она никогда не вспоминала о матери Василия, словно отец родил его сам, без всякого женского участия. Младших его сестер по смерти Якова Ивановича спровадили в монастырь, но Василий ни разу их не посетил, поскольку находился в другом городе и добраться к ним ему было пока что не по силам.
– Ну, поди, ничего еще не знаешь? – озадачила она его своим вопросом.
– А чего я не знаю? – спокойно спросил Василий, беззаботно поглядывая в открытое окно, с края которого паук по-хозяйски натянул легкую паутинку, предвещая этим солнечную погоду.
– Да вот, дочка этого безбожного… – И тут бабка Пелагея сказанула такое словечко, что щеки Василия мигом залились румянцем. Он и раньше слышал от нее крепкие выражения, но по молодости лет она берегла его детские уши и старалась при нем не выражаться особо крепко. А вот теперь, посчитав его достаточно взрослым, уже не стесняясь, костерила царя Петра, по чьему распоряжению она с детьми и оказалась в Тобольске.
– … да какой он император? – продолжала она перемывать косточки своему главному недругу. – Антихрист он, а не император! Котища усатый! Сатана проклятущий! – Она тут же не преминула осенить себя крестным знамением и еще несколько минут посылала самые что ни на есть гадкие и богохульные выражения в его адрес. Это с ней случалось каждый раз, как только она в своих речах касалась имени российского императора Петра. Если раньше в таких случаях малолетнего Василия кто-нибудь быстренько спроваживал в соседнюю комнату, то теперь он имел возможность выслушать подобную тираду без купюр и в полном объеме.
Наконец, успокоившись, Пелагея Захаровна закончила:
– В общем, Лизка, девка блудная, вспомнила о нас и подписала указ о полной нашей свободе. Но вот только, б…дь этакая, про имения нашенские даже не заикнулась, будто у нас их сроду и не было. Но я все одно добьюсь от нее их полного возврата. Болтают, будто бы при ней обретается Алешка Розум, сделавшись ее полюбовником. А я не побоюсь ему напомнить, кем он раньше был и чьих коней пас, будучи парубком…
Потом она сообщила все в тех же, не всегда приличных выражениях, будто бы в Тобольск приезжал важный офицер, говоривший с местным начальством, от которого Пелагея Захаровна и узнала о готовящихся переменах. Отпустили на родину уже несколько других семейств, сосланных в Сибирь при усатом антихристе. В их числе оказался отец покойной матери Василия и все их родичи. Но они, видимо, побаиваясь острого язычка бабки Пелагеи, и раньше были нечастыми гостями в ее доме, а сейчас даже попрощаться не соизволили зайти…
В это время позвали к столу, и бабка Пелагея угомонилась. Обед прошел почти в полном молчании. Потом она подозвала Василия к себе и спросила:
– Поди, тебе тоже поскорее уехать отсюда хочется?
– Ага! – радостно вымолвил он, представив, как покажет семинарии большой кукиш на каждой руке и скажет чего-нибудь пакостное на прощание.
Однако Пелагея Захаровна горестно покачала головой и сказала:
– Нет, Васенька, милый ты мой… Пока не получится. Ты давай учись, а потом поглядим, что дальше делать…
– Нет, я хочу уехать вместе со всеми, – заявил он и расправил для большей убедительности свои детские неширокие плечи.
– Не сразу, внучок, не сразу, – сдержанно ответила она. – Подожди, приеду к себе в имение, если его нам вернут, а ведь должны, непременно должны, огляжусь, разузнаю, что и как, и непременно тебя вызову.
– Я, бабушка, с вами хочу…. – с тихой надеждой обронил он, силясь удержать скопившиеся против его воли слезы.
– Нельзя сразу, никак нельзя, – привлекла она его сухими тонкими руками к себе и терпеливо гладила по непокорным волосам. – Не время пока. Дорога дальняя, мало ли что случиться может. А ты мал еще. Учись, пока тебя держат тут на казенном коште. Благо, владыка, дай ему Бог здоровья, земляк нам все же… Коль совсем худо будет, иди прямо к нему и скажи, кто ты и чей есть…