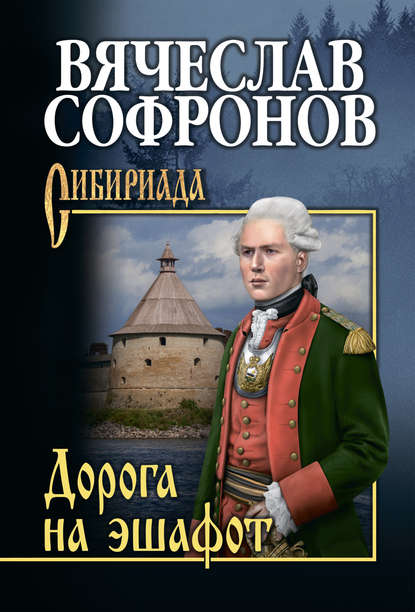Полная версия
Непоборимый Мирович
Василий уже почти свыкся со своим незавидным положением изгоя даже среди ссыльных. Сироты взрослеют рано. А тут, узнав, что бабушка, которая была единственной его защитой в этой жизни, собирается вернуться без него к себе на родину, чтобы, как она выразилась, хоть умереть на родной земле, опечалился вконец. Получается, взрослые думают в первую очередь лишь о себе, стремятся как можно быстрее уехать из опостылевшей Сибири… А он никому не нужен, не интересен, никто его не любит…
От этих мыслей Василию захотелось умереть, кинуться в реку и медленно погрузиться на самое дно, только бы не видеть всего вокруг, не ощущать собственной ненужности и полного одиночества. Ни слова не сказав, ни о чем больше не спросив, он пошел к старшему своему дядьке Семену, надеясь хоть от него услышать что-то радостное для себя или по крайней мере почувствовать заботу и сострадание. Но и там его встретили холодно, посмеялись лишь, как он смешно выглядит в семинаристской одежде, и пообещали как-нибудь справить ему обновку. По радостной обстановке в доме он понял, что и они готовятся к отъезду. Не простившись, ушел и побрел на берег вздыбившейся от половодья реки, надеясь украсть где-нибудь рыбацкую лодку и выплыть на середину, а там уж как получится… Обратно возвращаться он не хотел. Зачем, если теперь каждый живет сам по себе и в их радужных планах ему, Василию, нет даже самого малого укромного уголочка.
Лодку он нашел без особого труда, не обратив внимания на показавшихся ему знакомыми теток, что с мостков полоскали в реке постиранное белье. Те же, заметив его издалека, продолжали заниматься свои делом, но все же время от времени бросали настороженные взгляды в сторону мальца, уверенно подошедшего к лодке и пытавшегося столкнуть ее в воду. Удалось это ему не сразу – пришлось приподнять ее за носовую часть, раскачать, чтобы она сошла с песка и начала погружаться в воду. Не заботясь о том, что он промочит ноги, Василий все дальше сталкивал лодку с пологого берега, а потом прыгнул в нее и принялся крепить весла в уключины. В это время одна из женщин громко крикнула:
– Эй, паренек, далеко собрался?
Он не счел нужным ответить и сделал два неуверенных гребка. Ему приходилось прошлым летом ездить с соседними мужиками на другой берег за ягодами, и он видел, как лихо они управляются с веслами. Но у него это выходило плохо, лодка крутилась на месте, и он никак не мог приноровиться и сделать гребок в нужную сторону.
Тогда одна из женщин, а вслед за ней и вторая, сложив белье в корзину, кинулись к нему.
– Стой! – кричала та, что повыше ростом. – Стой, кому говорю!
– Вылазь из лодки, утонешь! – кричала бегущая за ней следом. – Лодка дырявая, греби к берегу…
Василий слышал их предостережения, но продолжал бестолково работать веслами, то удаляясь, то приближаясь к берегу. Его даже обрадовало, что лодка дырявая и не придется бросаться через борт в реку – он просто медленно утонет вместе с ней, и пусть бабка и дядьки его, учитель в семинарии потом жалостливо вздыхают, что незаслуженно обижали его и не поддержали в трудный момент.
Женщины, подбежав к тому месту, где только что стояла неисправная лодка, без раздумий кинулись в реку, благо вода доставала им только до пояса. Одна уцепилась за нос и потянула посудину к себе, а вторая, зайдя сбоку, легко вырвала из детских рук весло и даже замахнулась им на мальчишку.
– Ишь чего удумал, решил на дырявой лодке плавать! Я те покажу, как на берег выберешься…
Сообща они подтащили лодку, в которую из щелей в днище уже успела набраться речная вода, обратно к берегу и ждали, когда Василий выберется из нее. Но он закрыл лицо руками и неожиданно для себя зарыдал.
– Да ты чего? – спросила старшая. – Ты же соседский сын, мы тебя знаем. В семинарии, кажись, учишься. Точно говорю, Ирка? – обратилась она к подруге.
– Он и есть, все верно, Катерина, – подтвердила та. – Как же не знать, вроде как Васятка зовут? И чего расхныкался? Ну? – ласково спросила она и притянула его как-то особенно, по-матерински нежно и ласково к себе.
Василию стало совсем невмоготу, и он зарыдал громко, навзрыд, ничего не слыша и не видя кругом. Он не помнил, как бережно женщины вывели его из лодки, подхватили белье в корзине и повели в сторону дома. Остановившись на дороге, он не пожелал идти к предавшей его бабке, стал вырываться. Тогда старшая, Катерина, приняла неожиданное решение:
– Айда к нам, мои все умчались куда-то, посидим вместе рядком, поговорим ладком. И ты, Иринка, заходи ко мне, а то сегодня за работой и словечком не перемолвились.
Только там, в доме, устроившись на лавке между двух незнакомых теток, Василий немного успокоился и вдруг, все еще всхлипывая, принялся рассказывать, как все его бросили, собрались уезжать, а он, оставшись один, решил утопиться.
– Да как же ты такое удумал? – всплеснула руками хозяйка дома. – У тебя жизнь-то вся впереди, а ты топиться решил. Мало того, что в рай не попадешь, так ведь ничего на свете не увидишь. А жизнь – она штука такая: сегодня – худая, а завтра – веселая. Так говорю, Иринка?
– Правильно, так оно и бывает, – согласилась ее подруга. – Рано тебе еще, сынок, о смерти думать, она сама, когда надо, придет.
– Это у тебя сперва мать, а потом и отец померли? – осторожно спросила его Катерина.
– Да, – выдавил из себя Василий. – У меня…
– Бедный мальчонка! – всхлипнула тут же Ирина. – Малец совсем, а жизнь его вон как скрутила, и пожалеть тебя, приласкать некому совсем…
Василию стало неожиданно хорошо от слов этих почти незнакомых ему теток, которых он несколько раз встречал на улице, но совсем ничего не знал о них, считая, как все его родичи, людей, живущих поблизости, если не врагами, то людьми другого сорта, неподходящими для близкого знакомства. Хозяйка, Катерина, хватилась, что одежда у них мокрая, и ушла за печку переодеваться, а Ирина, выжав подол на крыльце, продолжала сидеть рядом с ним, положив твердую мозолистую ладонь ему на плечо. Он не помнил, чтобы покойная мать, а тем более бабка вот так прижимали его к себе, отчего, казалось, одна душа соприкасалась с другой, и хотелось плакать от умиления и заботы.
– Думаешь, у нас с Катериной жизнь легкая? – спросила неожиданно его Ирина. – Как бы не так! У нас с ней оба мужа в солдатах были и сгинули, непонятно где, а может, и живы, да к нам не желают возвертаться. Не нужны мы им. Стало быть, нашли других, кого моложе да краше. Так что же нам теперь, тоже в омут головой кинуться? А детки как же? Одни выросли, другим еще помощь наша нужна… Вот и тебя, как вырастешь, тоже ждать кто будет, с ней и соединишься, слюбитесь…
– Ладно тебе, Иришка, рано ему про любовь думать. Ты, малец, учиться сколько еще будешь?
– Не знаю, пока не научусь всему, что нужно… За меня, бабка сказала, владыка деньги заплатил, значит можно и дальше.
– Оно и хорошо, что добрый человек подсобил. Учись, сынок, все пригодится и на пользу пойдет, а там оно само собой все решится. А то, что родичи твои ехать собрались, ты тоже их пойми, бабка твоя старая уже, тяжело ей здесь, барыня к тому же. Пущай едут, а мы тут с Иринкой за тобой присмотрим. Можешь к нам приходить, как к себе домой. Куском не попрекнем, в рот заглядывать не будем – все, что есть в печи, – на стол мечи. Так и живем: много не надо, а что наше, то не отдадим, – неожиданно громко рассмеялась она.
Улыбнулся и Василий, представив, как она мечет пироги из печи на стол, а он сидит на лавке и пускает слюнки, ожидая домашней стряпни.
– Давай покормим мальца, – предложила Ирина, – а то вас там на монашеских харчах не больно-то потчевали. Что у тебя, Катюха, есть для гостя?
– Шаньги творожные и молочко, утром свою буренку доила. Будешь? – спросила она с улыбкой.
– Буду, – смущенно ответил Василий, хотя совсем недавно вышел из-за стола. А потом вдруг заерзал на лавке, почувствовав только сейчас, что у него штаны мокрые до самых колен. Видимо, Ирина тоже заметила это и предложила:
– Иди за печку, снимай свои порты, найдешь там что сухое от сыновей Катькиных себе по росту.
Василию ничего не оставалось, как подчиниться, что он и сделал с превеликим удовольствием, почувствовав не только заботу, но незримое родство с этими женщинами, которых он еще час назад толком и не знал. Теперь он уже был не один, а сознавал себя их общим сынком, а другого ему и не надо было.
Так он просидел в доме у Катерины до вечера, помог ей замесить тесто, отнес ведро с водой в коровник, осторожно погладил буренку меж крутых рогов, вдохнул незнакомый ему прежде навозный аромат и без спроса забрался на неожиданно поманивший его сеновал. Полежал там чуть, но потом спохватился, что его могут хватиться, и вернулся в дом, ощущая на себе ставший неожиданно привычным запах коровника. Когда вернулись два сына Катерины, то не особо удивились присутствию в доме незнакомого паренька и, наскоро перекусив, позвали его ночевать на сеновал.
Василий прожил у Катерины несколько дней, ничего не дав знать о себе родственникам. И те не хватились его, посчитав, что он вернулся в семинарию. Когда пришла пора возвращаться на учебу, то обе женщины собрали ему небольшую котомку, куда положили разной домашней снеди. Он молча прошел мимо дома бабки Пелагеи и, пересилив себя, даже не взглянул на ее окна. Судя по стуку топора из-за ограды, они еще никуда не уехали, решив дождаться в Тобольске начала санного пути. Когда ему разрешали отлучиться из монастыря, он спешил побыть хоть часок в доме у Екатерины, где успел подружиться с ее сыновьями, хотя они были на несколько лет старше Василия. Мимо дома бабки Пелагеи он проходил, опустив глаза в землю, боясь, как бы не встретить ее стоящей возле ворот. Но она уже давно не выходила на улицу, предпочитая находиться у себя в спаленке перед намоленными еще ее предками иконами. Может, и видела она в окно, что внучок ее частенько пробегает мимо, а может, и нет, но знать о себе Василию никак не давала. В душе он желал вернуть былые добрые отношения с ней, но «непоборимость» рода Мировичей не давала ему решиться на замирение. Поэтому он просто ждал, доверившись судьбе, чем закончится их размолвка.
Незаметно подкралась слякотная осень, ветер обрывал листья со столетних берез, растущих вдоль монастырской ограды, задувал в окна семинарии, бросая в них речной песок и ветошь, подобранную где-то на пустынных улицах. Потом на неделю зарядили дожди, и вслед за ними неожиданно ударил мороз и накопившаяся в канавах вода застекленела, создав внутри себя иной мир, недоступный человеческому глазу. К вечеру на землю посыпались миллионы снежинок, быстро засыпав оставшиеся с лета пожухлые травинки, норки спрятавшихся на зиму мышей, ложась на крыши домов и на торопливо спешащих в теплые дома людей. Сибирский городок словно замер от снежного величия, и день-другой никто не решался тронуть сказочный покров; люди старались не выходить из дома. Зато потом началось бешеное оживление, и в разные концы понеслись запряженные застоявшимися в стойлах лошадьми долгожданные сани-кошевы, сани-дровни, сани-розвальни, сани-казанки, санки беговые, водовозные, и все они одновременно двигались, неслись по тобольским улочкам, норовя зацепить друг дружку, создавая при этом визг, скрип на поворотах, перекрываемый храпом и ржаньем лошадей. Через пару недель встали городские речки, и семинаристы через тайную дыру в заборе бегали на соседскую Монастырку опробовать еще неокрепший лед, катались, прыгали на нем. На душе от этого простора становилось неожиданно хорошо и гулко, словно кто-то вдувал в тебя живительные иголочки морозного воздуха, бодрящие и пьянящие мозг.
За этими природными переменами Василий совсем было забыл о скором отъезде своих родичей. Но однажды ранним утром, когда уже окончательно встали морозы и снег достиг нескольких вершков, а потому из города потянулись вереницы обозов, идущие кто на север, а кто в сторону Тюмени, он был вызван за ворота монастыря. Чуть в стороне от дороги в крытой повозке сидела, закутавшись в меха, Пелагея Захаровна и ее младший сын Дмитрий. Мимо них тащилась вереница саней, в которых лежали сваленные рогожные кули с рыбой. Василию бросилось в глаза, что на ближних санях верхний куль был разорван и наружу выбился оранжевый плавник то ли карася, то ли замерзшего здоровенного окуня. И когда сани подбрасывало на очередной кочке, он словно помахивал Василию, прощаясь с ним. На коленях у Пелагеи Захаровны лежала подшитая снизу камкой оленья шкура, которую прежде Василию видеть не доводилось, и он с удивлением уставился на нее, прикидывая, откуда она могла оказаться у его бабки. Он бы и дальше переводил взгляд с проезжающих мимо саней на одежду сидящего к нему боком возницы, разглядывал лошадиную сбрую, комья снеговой наледи, лишь бы не встречаться взглядом с бабкой Пелагеей, которая тоже почему-то молчала и не начинала разговор. Наконец она первая не выдержала и, не выходя из саней и не подозвав Василия поближе, сказала чуть громче обычного:
– Прощай, внучек… Вот и собрались мы, едем… Жди известий. Как обустроимся, обязательно вызову тебя к себе.
Василий стоял, насупившись, не особенно веря в ее обещание.
– Что молчишь? Приедешь? – нетерпеливо спросила она. – Ну, решай сам… – и ткнула вознице вязаной рукавицей в бок. – Едем!
Он остался один, продолжая все так же равнодушно разглядывать тянувшийся вдоль речки рыбный обоз. Рядом с санями шагали мужики в длинных, до земли, тулупах. Некоторые из них держали в руке ременный кнут и изредка щелкали им в воздухе, заставляя свою лошадь идти побыстрей. И Василию захотелось броситься к ним и вот так же идти рядом, пощелкивая на ходу и сплевывая на землю кедровые орехи, и идти далеко-далеко, и навсегда забыть ненавистные уроки латыни, холодные монастырские стены и жить той жизнью, которую выберет он сам.
Но тут сзади раздался властный голос префекта семинарии, вышедшего вслед за ним и потребовавшего, чтобы он немедленно шел в класс на занятия. И Василий покорно поплелся вслед за ним, время от времени оглядываясь назад, где медленно двигался рыбный обоз и не спеша шли мужики в длиннополых тулупах.
Единственное, что его теперь согревало изнутри, – это семьи двух солдаток на иртышском берегу. Он знал: там ему всегда рады, там он был желанным гостем и почти своим человеком в двух больших семействах оставшихся без мужей солдаток. Туда он всегда спешил с радостью, решив, что это и есть отныне его родной дом. В конце зимы ему сообщили, что уехали все братья отца и сестра с мужем. Другая его тетка перебралась еще раньше куда-то за Урал и никаких известий не подавала. Василий терпеливо ждал всю зиму и следующее лето вестей от Пелагеи Захаровны, но писем не было. Может, не дошло письмо, потерялось в дороге, терпеливо объясняла ему Катерина при встрече, а может, и иное что…
Прошло несколько лет. Василий готовился к сдаче экзаменов и не знал, куда ему определиться после окончания семинарии. Идти на церковную службу, как настаивала на том бабка Пелагея, он не хотел, да и вряд ли ему дали бы свой приход, пока он не женится, а до этого было ой как далеко, и потребности в том он пока не ощущал. Тогда по совету инспектора семинарии он написал прошение на имя императрицы о зачислении его в Шляхетский сухопутный кадетский корпус. Прошло несколько месяцев, и из Петербурга пришел ответ, что Василий, сын дворянина Якова Мировича, знающий грамоту и счет, принят кадетом в Шляхетский корпус и ему надлежит явиться для зачисления в столицу, на Васильевский остров, где тот корпус и помещался.
Теперь уже он ждал, когда установится санный путь. Собрав все необходимые бумаги, простился с приютившими его женщинами и, получив в канцелярии губернатора прогонные деньги, отправился в столицу. Там его ждала отличная от прежней жизнь среди таких же, как он, дворянских детей, избравших воинскую службу. Только он не имел дружеской поддержки сильных мира сего и мог надеяться только на себя самого. И Василий хорошо понимал это, но верил, что теперь фортуна будет благосклонна к нему. Придет срок, и он покажет себя, пробьется на самый верх, и порукой в том – их родовая «непоборимость» и закалка в сибирской ссылке. Нет, он не сдастся, не затеряется в мире, где столько искушений и соблазнов. О нем вскоре узнают, заговорят, и тогда… Он плохо представлял, что будет «тогда», когда он получит офицерский чин и начнет службу; он просто верил, что взамен перенесенных утрат будет удостоен более счастливой жизни.
Глава 2
КАДЕТСКИЙ ШЛЯХЕТСКИЙ КОРПУС
1В Шляхетский корпус в тот год зачислили в два раза больше юношей, нежели в предыдущие годы. Объяснялось это обстоятельство тем, что императрица Елизавета Петровна из-за своей нелюбви к прусскому королю Фридриху объявила главным своим генералам о подготовке к скорой войне, начать которую было решено летом следующего года. Но то были слухи, распространявшиеся в столице быстрее фельдъегерской почты. А будет та война начата или нет, то вряд ли кому, включая саму императрицу, было известно. Во всяком случае поговаривали, будто бы изловили несколько королевских лазутчиков, пытавшихся тайно пробраться к некому лицу, помещенному в крепости где-то возле Белого моря, и вывезти его в Пруссию, где должны были провозгласить законным наследником.
Те, кто был сведущ в придворных делах, хорошо знали имя этого лица и причины, по которым он оказался в заключении. На их памяти были выпущены монеты с изображением младенца, носившего имя Иоанна Антоновича, но что с ним сталось в дальнейшем, вряд ли кто, даже из самых знающих и осведомленных, мог ответить.
Поговаривали, будто именно он, Иоанн Антонович, и есть причина страхов и опасений императрицы за свое место на российском престоле. А коварный Фридрих, не особо почтительно относившийся к женскому полу, а уж тем более, если представительница его стояла во главе какой-то страны, дал обещание исправить положение и возвести на трон несчастного юношу, доводящегося королю близкой родней.
Так это или нет, никто точно не знал, только говорить громко и вслух о том умные люди опасались, хотя русская земля издавна жила разными слухами и притчами о царях и царских наследниках. Трудно было отличить, где правда, а где досужие россказни. Когда же нескольких таких рассказчиков высекли публично на Обжорном рынке, пообещав в другой раз и языки укоротить, разговоры о том прекратились, уступив место иным выдумкам. Без вновь рожденных непонятно кем слухов столица жить не могла. И если долго не было повода посудачить о чем-то этаком, за что можно было при известных обстоятельствах попасть в опалу, а то и в дальнюю ссылку, столичные дамы грустнели и даже чахли на глазах.
В такие ответственные для них дни они приглашали к себе сведущих лекарей для снятия хандры через кровопускание или иным доступным способом. Потому двойной набор в Шляхетский корпус тут же вызвал среди дам высшего света всяческие пересуды, и на Васильевском острове, где в бывших палатах князя Меншикова помещалось то заведение, стали вдруг появляться богато украшенные кареты с известными в Петербурге вензелями на дверцах.
На сей раз кто-то сообщил, будто бы для обучения военному делу наряду со всеми приняли того юношу, из-за которого могли произойти военные столкновения с прусским королем. А чтобы его труднее было отличить от остальных, в корпус было принято больше молодых людей. Отдавали же предпочтение юношам, которые были весьма похожи на него своим обликом. Поскольку лица того принца никто никогда в глаза не видел, то дамам оставалось только гадать, увидев выходящих оттуда молодых людей, не тот это юноша.
Через какое-то время любопытствующим дамам становилось скучно сидеть в своих каретах в одиночку, и они, увидев кого-либо из знакомых, столь же безуспешно наблюдающих через зеркальные стекла за выходящими из корпуса молодыми кадетами, посылали лакея пригласить свою знакомую коротать время совместно. Время за разговорами бежало куда быстрее, тем более что всегда находился предмет для совместных обсуждений и тайных откровений.
«Правду ли говорят, будто бы на обучение нынче приняли известное всем лицо, дабы он получил здесь достойное воспитание и манеры? – обычно начинала с насущной для всех темы перебравшаяся в карету гостья. – Не за этим ли вы, дорогая, пожаловали сюда, чтоб лично в том убедиться?»
«Да что вы, душа моя, и в мыслях не было, – отнекивалась на вопрос хозяйка. – Тут, мне сказывали, нынче смотр Измайловского полка должен проходить. Вот и решила взглянуть одним глазком, как солдатики маршируют…» – продолжала она, боясь показаться в чужих глазах верящей в слухи провинциалкой.
«А мне вот сказывали, будто бы…» – И обескураженная гостья начинала излагать всем известный слух о принце, за что некоторым пришлось уже поплатиться через публичное наказание.
«Быть такого не может! – делала удивленное личико более скрытная дама. – Хотя… мне рассказывали о чем-то этаком, но я не придала никакого значения сказанному. Что же вам на этот счет известно?»
«Мне сообщила графиня К., верить которой можно, как мне самой… – пускалась в бурные объяснения дама более простодушная, верившая не только графине К., но и своей кухарке и тому, что сообщалась в присланных из-за границы письмах ее друзей, а более всего собственным снам. – Так вот вы, должно быть, тоже наслышаны о благодеяниях нашей матушки-императрицы, но на этот раз она превзошла все свои ранее совершенные благодеяния…»
Хозяйка кареты, чей муж служил в небольших чинах в Правительствующем Сенате, хорошо знала о многих делах дочери императора Петра, но затруднилась бы ответить на прямой вопрос насчет ее благодеяний, если не считать за то ее частые летние походы на богомолье из старой столицы в Троице-Сергиеву лавру. Тогда же многие дамы из знатных петербургских семейств тоже взяли за обычай вместе со всем двором плестись пешком по пыльной дороге вслед за императрицей. Известно было многим и о веселых пирушках, устраиваемых при частых остановках во время тех богомолий, когда подвыпившие кавалеры не без взаимности признавались в любви участвующим в том статс-дамам. От этих приятных воспоминаний обе дамы блаженно улыбнулись, чувствуя, как кровь прилила к лицам, и перевели свой разговор на предстоящие зимой балы и маскарады.
Действительно, после памятного правления императрицы Анны новое царствование Елизаветы Петровны воспринималось всеми обосновавшимися при ней царедворцами как время благостное и благодетельное. Народ словно ожил и спешил строить не только новые дома и имения, но и Божьи храмы, возводя их как в самой столице, так и в самых дальних уголках Российского государства. Многие вельможи были осыпаны милостями государыни за верность ей, за службу, за дела на военном и дипломатическом поприще. И плох был тот генерал, что не имел на груди трех, а то и более орденов, врученных ему по приличествующему случаю.
Но самое великое благодеяние коснулось Алексея Григорьевича Разумовского, бывшего не столь давно у себя в Малороссии просто Алешкой Розумом, – церковным певчим на хуторе под Черниговом. Теперь же он стал светлейшим графом и недавно был произведен в фельдмаршалы. Таких благодеяний вряд ли кто на этом свете еще удостоится. Его тайному венчанию с императрицей уделили разговоров и перешептываний прошлой осенью в темных углах приемных покоев во много раз больше, чем жертвам последнего наводнения, когда водой унесло несколько сотен лачуг, ютившихся вдоль Невы. Сам новоявленный граф и фельдмаршал оказался человеком вполне безобидным и даже робким и никогда в многочисленных дворцовых интригах не участвовал, но безродность его стала притчей во языцех. Наиболее дерзкие сановники называли даже своих породистых кобелей его именем и со смехом объявляли о том, не боясь последствий, в кругу друзей.
Затем хозяйка кареты подумала о самой императрице, с которой была примерно одного возраста и знакома едва ли не с детства. По ее вполне заурядному женскому мнению, бесхитростная и благодушная императрица сама нуждалась порой в помощи, будучи не в силах понять, как ей вести себя со своими министрами, одолевавшими ее всяческими несбыточными прожектами, за которыми виделась лишь их собственная корысть и выгода. И те, кому пришлось застать раскрасневшуюся и тяжело дышащую Елизавету Петровну, торопливо выбегающую из собственного кабинета, где ей несколько часов подряд приходилось вести спор с государственными мужами, не сговариваясь, принимались жалеть ее и пенять на хихикающих ей вслед индюков-министров. И как было не пожалеть несчастную женщину, не имевшую поддержки в родной стране и сотню, тысячу раз пожалевшую, что согласилась в недобрый час занять отцов престол. Вот ее-то и надо бы, прежде всего, облагодетельствовать, поддержать, научить твердости и решительности.
Вдруг отвлекшаяся в своих размышлениях хозяйка кареты услышала вскрик собеседницы, и мысли ее тут же вернулись к теме их беседы. А та, тыча пальчиком в стекло, горячо произносила:
– Это он! Не иначе, как он! И стать и выправка соответствуют его происхождению…