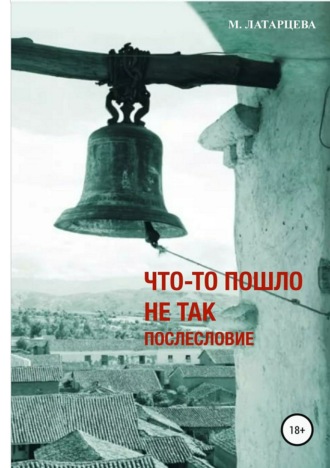 полная версия
полная версияЧто-то пошло не так. Послесловие
– Здесь я – убийца, враг по определению, и никто не спросит – стрелял или не стрелял, убивал или не убивал. Я был здесь – и этого достаточно.
Глубокий вздох, и продолжение:
– А там я, Богдан, дезертир. Да, да, дезертир, хотя свои же раненого на поле боя бросили. И это – все! Больше ничего не надо! Как не в лоб, так по лбу, но все равно виноват – если не с одной, то с другой стороны отвечать придётся, выбора нет, понимаешь? Замкнутый круг получается! Обложили, как бешеную собаку, со всех сторон.
В темноте было слышно, как Иван что-то бормочет, про себя возмущаясь, потом снова глубоко вздыхает, будто определяя границы откровения, после чего, наконец, собирается с духом.
– Я ведь здесь не по доброй воле.
Затяжная пауза, последовавшая за первым предложением, предполагала, что Богдан на эти слова непременно отреагирует, и от его реакции будет зависеть направление дальнейшего разговора, но ожидания Ивана не оправдались, и он снова заговорил.
– Думал, дома отсижусь. Оно мне надо – в моем-то возрасте, да ещё при таком-то здоровье? Я даже в молодости срочную не служил – по «белому билету» списали. В училище пошёл – сначала на штукатура-маляра, потом – на слесаря. А там – женился, дочь родилась. Дом свой практически сам поднял, с фундамента. Ещё один тесть вывести помог.
Мужчина даже оживился немного, повеселел, вспоминая, как в молодости становился на ноги.
– Сделали что-то типа базы туристической – кровати двухэтажные соорудили, кухню со столовой оборудовали, генератор на дизтопливе поставили, баньку… От нас до Говерлы – рукой подать, турист и зимой, и летом в наличии – желающих посмотреть на мир с вершины Карпат всегда хватает, некоторые пару раз в году бывают, привыкают, с детьми приезжают, с внуками. К тому же, в часе езды – источники минеральные, пещеры карстовые, озера соляные, церкви деревянные… Не помню, век какой, но знаю точно, что церкви очень старые. Вот тут-то мы со своими удобствами и подсуетились. Туристам хорошо, и нам не плохо – все довольны, однако. Эх, жизнь была! Работы невпроворот, спать некогда, а душа радуется! – вздохнул Иван с сожалением.
– Знаешь, к нам целыми группами приезжали – из институтов студенты, из техникумов, просто организации – взрослые, солидные люди, и никто не обижался – за чистую постель и прочие условия платили рубль. За сутки – один рубль, понимаешь?
«Тогда это деньги были», – вспомнил Богдан цены, которые девочкам приводил в пример: билет на городской автобус – пять копеек, на троллейбус – четыре копейки, на трамвай – вообще три, а сладкоежку Ксюшеньку ещё и стоимостью мороженого дразнил: в вафельном стаканчике – тринадцать, а пломбир – девятнадцать копеек за сто процентов натурального счастья. Действительно, что там говорить – рубль авторитет имел.
–…И только в колею попал, как тут тебе Майдан, первый. За ним – кризис экономический. Народа резко поубавилось, пришлось стоянку прикрывать, а сейчас и вовсе другой бизнес в ходу – ритуальный, не туристический.
Кровать тяжело заскрипела. Иван вцепился за прутья изголовья, подтянулся на руках и сел.
– А потом жена умерла, вторыми родами. После этого я с Богом и рассорился. Притом так разругаться умудрился, что в реанимации очутился – во время очередного запоя в драку полез, правую руку еле спасли – в ключице наизнанку вывернули, до сих пор маюсь. Хорошо, я леворукий – одно это и спасает. Оклемался, отлежался, вернулся из больницы, а дочки дома нема – у тёщи живёт. Еле вымолил у неё тогда прощения. Теперь вот выросла, красавица – вся в мать, своих уже двое. Обе – девочки, – просветлел Иван лицом, рассказывая о внучках.
– А как началась заваруха, зятю повестку из военкомата принесли. И куда ему, спроси? Кто семью кормить станет? Мы его в поезд и… в Россию, на заработки. Подальше от беды. Я из-за этого с начальством поселковым полаялся. Наши, местные, на такое сквозь пальцы смотрят – уехал человек, да и уехал, значит, надо, а этот приезжим оказался, чужим – взъелся так, что мочи нету. Загреб меня вместо зятя, получается, ничего, что инвалид, – показал он выше локтя покалеченную правую руку. – Теперь вот по его воле ещё и колченогим стал.
Рассказ Ивана не был сенсацией – на заработки уезжали все, кто мог и хотел работать, дома оставались лишь малые дети и немощные старики. Один из центральных телеканалов даже фильм документальный об этом снял. В отдельных сёлах соседней области во время съёмок ни мужика, ни женщины трудоспособной не обнаружилось, все за границей оказались.
И то, что в Россию ехали, тоже не удивительно – работали там на стройках. На Западе украинские мужчины не котировались, все больше женщины – по хозяйству, по дому, по уходу за больными и пожилыми. Польша, правда, спасала – грузчиком можно было устроиться, на поле – ягоду собирать, но это – на сезон, на месяц-другой, не больше – задурно платить никто не будет. Он тоже так работал, хорошо, что язык знал – поляки равным себе не считали, но среди других работников выделяли. Ну, а то, что Иван с инвалидностью на фронт угодил, так это к военкому претензии, да и сам не подсуетился, оплошал, на себя пусть обижается…
Утром, после перевязки и приёма лекарств, Люба включила новости. Показывали подписание Минского соглашения. Только теперь Богдан, который почти две недели жил без информации, понял, что означают слова доктора «выпал из времени», и это – в самом прямом значении.
– Думаешь, война прекратится? – спросил, кивая на экран, Иван. – Как бы не так! Не будь наивным. Видел я, как на прорыв шли, когда в окружение попали, мимо «коридора зеленого». Вооружения сдавать не хотели, боеприпаса. Эти условие поставили – выходить без оружия, а наши рогом упёрлись. Потом действовали, кто как мог, на своё усмотрение, все равно общего руководства не было – командиры ещё в первые дни из зоны боев смотались, ситуацию на самотёк оставили. Многие мужики тогда по дурости своей погибли – напролом колонной двинули, там и полегли, а те, что сумели мимо «коридора» просочиться, пушками неучтенными обзавелись.
Иван задумался, будто ещё раз переживал недавние события, вероятно, непросто было там, где он намедни был.
– Оружие – это, брат, такое – если оно есть, значит, должно выстрелить. А добавь к нему дурь и бухло, и узнаешь, что по чем… Мне две недели на «передке» хватило, чтобы насмотреться, до конца жизни помнить буду. Как заноза в душу – болит, сука, а вынуть – невозможно. Нельзя вынуть, Богдан, с этим и жить буду.
Сосед надолго замолк. Богдан и себе прикрыл глаза, задумался. Вспомнил, как в первый день службы взвод, к которому он был прикомандирован, вывезли в посёлок и бросили. Как слепых котят, бросили – без приказа, без информации, и вообще без малейшего намёка на постановку боевой задачи или хотя бы на примитивный инструктаж. Просто вывезли, выгрузили и велели ждать.
Он так и не понял, что тогда произошло. Помнил только ослепительную вспышку и строгое лицо матери перед глазами, а ещё, что в машине, в которой его доставили в больницу, кроме него, живых больше не было. По позвоночнику внезапно пробежал холодок, будто напоминание о лежавших вместе с ним в кузове грузовика трупах. Интересно, что с остальными его сослуживцами случилось? К тому же, кто ответит за гибель людей?
–…Кто погиб, кто ранен, как я, – донеслось до него из соседней кровати, – а кто на минах подорвался. На своих. Знаешь, я все не пойму, зачем война? Ладно, где-то далеко, на Ближнем Востоке – в Ливии, в Ираке, или в том же Афганистане, за сотни километров отсюда, но дома зачем? Лежу себе, думаю, думаю, а понять не могу. Уже голова полиняла от этих раздумий, – провёл Иван пятерней по седым волосам. – А ещё не пойму, почему с ней, с этой войной, так возятся? Будто доброе что. Ну, чего я доброго сделал, скажи?
«Действительно, носятся с войной, вроде в стране другие дела закончились, и осталось только всем миром взять измором Донбасс. Как же он раньше этого не замечал?!»
После начала антитеррористической операции будто умом люди тронулись. Перед глазами его всплывает светлое пятно – из общей серой массы выходит пожилая женщина, размашисто крестится на образ Пресвятой Богородицы, демонстративно разворачивает клетчатый носовой платок, достает завёрнутые в него деньги и бросает в ящик для приношений. Сложенные вдвое гривны глухо падают на пустое дно. На выходе женщина ещё раз крестится и уходит из церкви. Уходит, высоко подняв голову, ни на кого не обращая внимания, намеренно направляя взор мимо людей.
Он даже вздрогнул, словно снова почувствовал, как сгорал в тот момент от стыда и собственной нерасторопности, как рука его сама потянулась в карман, нащупала купюры, а ноги направились к ящику, к которому вслед за ним тут же выстроилась очередь из других прихожан. Выходил он из храма с чувством исполненного долга, понимая, что совершил благородное дело – помог не кому-нибудь, а самому «воину АТО».
Сейчас ему тоже было стыдно. Стыдно, что поддался чужому влиянию, что пошёл на поводу стадного инстинкта, который недавно ещё игнорировал. И чем он лучше тех, над кем прежде смеялся? Разве только, что они бровки с заборами красили, а он – деньги на войну сдавал.
Странное дело, но размышления Ивана напрямую задели его самолюбие, его гордыню, которой раньше он так кичился, а ещё – направили мысли совершенно в другую сторону, где была не одна, а две правды, и обе они заслуживали на признание.
–…Порядка нигде нет, нет ответственности, – рядом продолжал монотонно зудеть Иван. – Помню, строился. За оформление документов одному «на лапу» дал, потом второму, третьему… В итоге оказалось – «не соответствует разрешению на строительство». Разумеется, отказали во вводе в эксплуатацию, пришлось по новой давать. Так и во всем – никто никого не проверяет, никто никого не контролирует, законы не выполняются, сплошной договорняк. А, представь, оружие на руках у людей появилось – счас отжим, как в девяностые, пойдёт, только ещё пуще – бывшие сидельцы вооружились, так что только держись…
«Действительно, нет порядка». Иногда Богдану казалось, что Украина похожа на семью, в которой родители потеряли контроль над детьми, и каждый живёт теперь, как ему вздумается, ни по каким вопросам друг с другом не пересекаясь.
–…А ещё, не завидую я местным – никто не будет выяснять, кто в референдуме участвовал, а кто – не участвовал. Все под подозрение попадут, не отмоются – Киев им строптивости не простит, – произнёс Иван уверенно, как непреложную истину. – Их жизнь сейчас и ломаного гроша не стоит, особенно там, где добробаты стоят. Я бы на их месте… – Иван подумал немного, потом кивнул на экран. – Я бы на их месте ни на что не надеялся и никому не верил – заварили кашу, знать, должны до конца идти. Может, так и надо – судьба рисковых любит. Да и где гарантия, что потом зачистки не будет, что обе стороны будут соглашение выполнять?
Две недели назад Богдан с этим не согласился бы, но сейчас видел, что стоило Донбассу его несогласие с переворотом во власти в Киеве, и потери эти казались ему непомерно велики, катастрофически велики, и не было ни конца им, ни краю.
– Другие они, Богдан, не такие, как мы. Вроде без клея держались при Союзе, но и тогда не особо дружили, в одной стране, а порознь жили. А нынче такая трещина пошла, что никакой замазки не хватит, чтобы разрыв соединить. Да ещё в регионах князьки доморощенные голову подняли, решили и себе кусок пирога отхватить, всё пожирнее норовят. Законы свои, порядок свой в областях устанавливают, армии придворные собирают, огнестрелом вооружают. Надеются, что потом не спросит никто, а на таких, как мы, внимания не обращают.
При упоминании о частных армиях перед глазами Богдана появились тщедушные мужички с палками наперевес, марширующие между палатками на Майдане. К этим плюгавым «самураям» за месяц настолько привыкли, что даже не заметили, когда у них в руках вместо наспех сколоченной из фанеры и деревянных обрезков защиты, появились настоящие щиты, такие же, как у бойцов «Беркута». На подсознании, правда, возник вопрос, куда девались их владельцы и прочая амуниция, но вслух его никто не озвучивал. Позже бойцы этих отрядов, названные самообороной, возглавили уличные бои, и уже не казалось странным, откуда у них балаклавы и коктейли Молотова, как и то, кому эти люди подчиняются и кто им даёт задания.
К тому же, подобные отряды присутствовали и в каждой области – воздвигали на дорогах блокпосты, захватывали госучреждения и даже охраняли вместе с полицией общественный порядок, что вообще друг с другом не стыковалось, поэтому он был немного удивлён, когда узнал, что причиной начала АТО в Донецке и Луганске было нападение местных на областные госадминистрации.
Все вроде верно: совершили преступление – отвечайте, но, с другой стороны, если быть объективным, то как тогда обьяснить аналогичные захваты, к примеру, у них, во Львове? Честно говоря, он вообще не понимал, зачем захватывать то, что тебе уже принадлежало – и в администрации, и в областном совете в их городе свои к оппозиции люди сидели, а процентов восемьдесят депутатов вообще партийцами лидера Майдана Олега Тягнибока являлись. Что, спрашивается, нужно было менять – шило на мыло или наоборот? Да и зачем?
И по времени тоже как-то не складно получалось – если по факту захвата антитеррористическую операцию начинать, то обстреливать нужно было не Донецк и Луганск, а Киев и Львов, где государственные учреждения были заняты демонстрантами не в апреле, а ещё в январе-феврале месяце – в самом начале года. И то, как это происходило, сами протестующие не ленились выкладывать в интернет – погромы сопровождались пожарами, уничтожением документов, порчей казенного имущества, и вообще – какой-то неестественно дикой радостью, будто ритуальные танцы у костров колдунов и шаманов, но тогда это не вызывало удивления, как и появление вооружённых блокпостов на дорогах, и других революционных реалий по примеру Октябрьской революции семнадцатого года.
У Богдана до сих пор в глазах стояли отблески огня, когда молодые люди с закрытыми балаклавами лицами сжигали документы из кабинетов областного СБУ, а потом бросили в помещение гранату. Но не это даже его смутило – за погромом с восторгом наблюдали школьники, завёрнутые, как в коконы, в сине-желтые флаги, и гордость в их глазах за происходящее пугала…
Михаила он услышал ещё издалека, тот шёл по коридору и громко ругался по телефону.
– О, да вы, доктор, в одном месте их складируете? – присвистнул Миша, окинув взглядом палату. – Когда ни зайду, знакомые все лица!
Мишина реакция на присутствие в палате Ивана была вполне ожидаема, понятное дело – не друзья неразлучные встретились. Все ещё под впечатлением телефонного разговора, Михаил с шумом водрузил на прикроватную тумбочку увесистый пакет:
– Чтоб с голодухи не помер, пока я этих по степи собирать буду. Сентябрь на дворе, днём – жара, смердеть начнут. Хотя, о чем это я – они и так не шибко ароматно пахнут, даже живые. Ты напарника своего спроси, он тебе расскажет.
По поведению Михаила было видно, что он чем-то сильно расстроен и возмущён, хотя изо всех сил пытается держать себя в руках. С их последней встречи он сильно изменился – страшно похудел, осунулся, одни глаза остались на лице.
– Да ладно, Бог с ними, ты-то как себя чувствуешь? Скоро на ноги встанешь? Как твоя спина? Только что доктора допросил, с пристрастием, говорит, нерв какой-то важный задело, время нужно, покой. А где его взять – этот покой? Может, тебе надо нервничать перестать? Слушай, а давай, я книжку тебе принесу? Про любовь, к примеру, для успокоения. Хочешь книжку про любовь, а? – полюбопытствовал Миша, но тут же вспомнил о травмах глаз Богдана. – Тю, ты, олух царя небесного! Как же я мог забыть! Какие книжки?! Извини, брат, совсем замотался – вторую неделю практически без сна. Иловайск, Дебальцево, аэропорт… Всё вместе. А ещё переговоры эти, соглашения, договора… Наши навскидку прикинули – по «коридору» близко трёх тысяч пропустили, грех на душу не взяли, правда, там все равно не оценили. Ребята говорят – знали бы, что остальные на прорыв пойдут, сразу бы соображали не «котёл», а «жернова».
Миша скрипнул зубами и совсем по-детски сжал кулаки. Его негодование выплеснулось наружу смесью обиды, досады, злости и какой-то щемящей вселенской боли, доселе живущих у него внутри:
– А сколько они народу положили! Просто так! Будто напрочь мозги им отшибло – по-другому не скажешь! Чтоб идти напролом – большого ума не надо! Да что там ума! Иногда, чтобы выжить, достаточно элементарного инстинкта самосохранения! А тут, понимаешь, все наоборот – все себе в убыток, все себе во вред! Включи они хоть каплю разума, знаешь, сколько потерь можно было бы избежать?! С обеих сторон. И за что пупы, спросить бы, рвали?
Из разрозненных Михайловых предложений Богдан понял, что произошло что-то необъяснимо трагичное, чего не должно было случиться, и избежать беды не удалось единственно по воле противной стороны, точнее, из-за нежелания этой противной стороны выполнять определенные условия по ранее достигнутым договорённостям.
– А оставили после себя! Описать не могу – слов не хватает! Такое впечатление, будто варвары прошли! Хотя, каюсь, варвары, наверное, постеснялись бы подобный погром после себя оставить. Они же в школах базировались, в домах брошенных, и даже в больницах. А прижали мы, не просто уходили, а, как эсэсовцы в Отечественную – камня на камне после себя живого не оставили, понимаешь? Все, чем воспользоваться не успели, разрушили. Уничтожили все, до чего руками дотянуться смогли. Кресты медицинские на машинах малевали, боровы, чтобы их без обыска пропускали. Оружие, суки, прятали, «Красным крестом» прикрывались, упыри…
Иван, казалось, врос в кровать, боясь привлечь к себе внимание, но Миша больше в его сторону даже не взглянул.
– Детям в школу не сегодня-завтра, а получается – некуда. Там, где эти стояли, сплошные руины – ни мебели тебе целой, ни сантехники, ни пособий учебных, ни литературы. Даже стены исписаны свастиками и трезубцами, а ещё, прости господи, язык не поворачивается назвать, что они там делали и что покинули. До такого плачевного состояния помещения довели, что тебе не передать!
Понемногу Михаил перекипел, успокоился.
– Ну, да черт с ними, они своё получат, ты извини, не со зла ругаюсь, по необходимости. Ты, давай, лучше о себе расскажи. Тебе Наталья звонила? Нет? Странно… – озабоченно нахмурил он брови. – А мне показалось. Ладно, проехали, ещё позвонит. Ты, главное, брательник, поправляйся, на ноги станешь – другой разговор пойдёт. Короче, об этом потом, а сейчас мне бежать надо – не ровен час, опять чего-нибудь замутят, им верить – себя не уважать.
Миша ушёл, на ходу вынимая мобильный из кармана, а в душе Богдана опять, как когда-то во Львове, поселилась безотчётная тревога. «Что же такое ему показалось?» – думал он, так и этак прокручивая в уме ситуацию. Неужели Михаил общался с Натальей? Почему же тогда она ему, своему мужу, не позвонила? Горечи добавило его нынешнее неприглядное состояние – беспомощность и беззащитность, связанные с потерей подвижности.
В последнее время спина его уже не только не болела, но даже не зудела, хотя двигаться он по-прежнему не мог. Доктор грешил на повреждение двигательного нерва, которое вызвало нарушение функции мышцы, и опасался, что возобновление её работы в настоящих условиях невозможно, да и сам процесс восстановления слишком длительный по времени.
Богдан и сам понимал, что повреждение, нарушение – это да, это больше по врачебной части, и от него самого ничего не зависело, а вот что до времени, то время для него уже давно не существовало – просто было остановившееся пространство, в котором он чувствовал себя неподвижным остывающим бревном, обузой, чужим и лишним по определению. А ещё его беспокоило, с каким терпением к нему относились окружающие – ощущение было, что даже мысли о разнице между ним и своими у них не возникало, и это напрягало, заставляло чувствовать себя, по меньшей мере, должником.
Сегодня ночью, впервые после второго ранения, к нему приходил серебристый ворон, и впервые он только беззвучно открывал рот, будто потерял голос. Птица по-прежнему звала его за собой, а когда он отставал или сбавлял ход, ворон возвращался и больно клевал его твёрдым, как гранит, клювом, подгоняя вперёд.
«Что бы это значило?» – думал он, связывая молчание птицы с молчанием Натальи, которую в разговоре упомянул Михаил, а утром как-то неуверенно, бочком, в палату заглянула Татьяна Ильинична. Присев возле Богдана и удобно уложив на коленях перемотанную бинтами руку, коротко пояснила:
– Осколок.
Потом окинула взглядом сначала Богдана, затем – Ивана, и вынесла приговор:
– Украина превратилась в сплошной лазарет с тремя отделениями – хирургия, психиатрия и морг. Большинство уже здесь, а те, что ещё на свободе – все равно попадут, не отвертятся. Хирургия в этом списке – самый достойный вариант, страшнее, что пациенты психиатрии у власти.
Краем глаза он заметил, как дернулся Иван, но тут же возвратился к традиционно сонному состоянию, повернув, правда, голову так, чтобы лучше было слышно разговор.
–…И тебе не везёт, дорогой, – пожалела женщина Богдана. – Не успел из одного выбраться, как в другое попал. Как твои глаза, не болят?
И только после этого вопроса Богдан вдруг понял, что совершенно забыл, когда его беспокоили глаза. Мало того, в последнее время и зрение было намного лучше, чем даже день назад – исчез из глаз грязно-молочный туман.
Из рассказа Татьяны Ильиничны Богдан узнал, что супруг её, Володя, при последнем обстреле не пострадал, но «еще прошлого не расхлебал», что «девочки и дети – в школе», и что сама она по-прежнему сидит дома, а вот сейчас пришла на перевязку.
– Ой, да что же я все о себе, да о себе, а о главном сообщить совсем забыла! – всплеснула женщина руками, и просто расцвела на лице. – Третьего дня нам Дмитрий звонил, Олин сын, представляешь! Поздоровался и сразу: «Как вы, тётя Таня, поживаете? Мы о вас беспокоимся!» А ещё о себе, о детях, об Ольге рассказывал. И о наших расспрашивал. Я целых пятьдесят секунд с ним беседовала, почти минуту, теперь сердце не болит – знаем, что все у них в порядке! Представляешь, так и сказал: «Мы о вас беспокоимся, тёть Тань!» – с удовольствием повторила она ещё раз слова племянника.
«И сколько человеку для счастья нужно? – подумал Богдан. – Чтобы родные были живы и здоровы. И все». Неожиданно в висках застучало, и что-то сжалось внутри, как всякий раз, когда он вспоминал свою семью, связи с которой по-прежнему не было. Мобильник сначала отвечал «абонент вне зоны», а потом и вовсе разрядился. Можно было, конечно, кого-нибудь из персонала попросить, чтобы зарядил его, но зачем? Пусть лучше будет так, как есть – соблазна не будет ещё раз позвонить, чтобы в очередной раз расстроиться.
–…Осень уже, – продолжала Татьяна Ильинична, – ночи холодные, а многие люди практически остались без жилья. Хорошо, если дом после обстрела сохранился, или малыми потерями обошлось – дыры заделать можно, и даже крышу перекрыть, хуже, когда вчистую разрушен, или выгорело полностью внутри. Власти, конечно, как могут, помогают – и материалами, и, если надо, людьми, но все равно много окон пленкой затянуты, или досками зашиты – нет стекла. Да и обстрелы продолжаются – что снарядами разносит, а что взрывной волной. Нередко – по второму кругу…
Женщина на мгновение задумалась, будто что-то решала про себя, потом безрадостно отметила:
– Доски, понятно, гораздо теплее клеёнки, только в доме солнца недостаёт.
Богдан вдруг отчётливо увидел и многоэтажки со слепыми рамами, и черные от копоти руины, и дома-подранки с заколоченными крест-накрест окнами и большими амбарными замками на дверях, но чужое – не болит, поэтому на слово поверил, что доски теплее и лучше клеёнки, ещё бы пропускали солнечный свет.
С недавних пор разрушения и трупы на дороге он больше не сравнивал с декорациями к фильму, но в голове его не помещалось, как нормальные люди, зная о результатах, могут продолжать обстреливать и убивать? И вопросы его имели точных адресатов, которые сидели, как ни странно, совсем не на Донбассе.
– …Савва – в городе безвылазно, дома вообще не появляется. Иногда, правда, звонит, отмечается. «Работы невпроворот», – объясняет. Мы, конечно, понимаем, но все равно беспокоимся, переживаем: дитя – оно и в сорок лет дитя, тем более, время больно опасное – днём и ночью стреляют, не затихая.
Татьяну Ильиничну позвала на перевязку медсестра. Уже на выходе из палаты женщина на мгновение задержалась и тихонько призналась:
– Уже почти полгода стреляют, а я… а я всё не могу поверить, что к нам пришла война.
Богдан вспомнил первую встречу с Татьяной Ильиничной, её уверенный зычный голос – настолько звучный и густой, что в первый раз услышав его, он не сразу сообразил, что происходит. Потом её: «Ложись!», когда снаряд летел прямо на больницу. Сейчас же многое изменилось, и не только слабее люди стали, поменялись сами обстоятельства, изменилось всё вокруг. Время будто разделилось на «до» и «после», и трещина эта разрасталась на глазах, с каждой минутой уменьшая шансы вернуть страну обратно, вернуть в ту территорию, что была до февраля, и он всё больше убеждался, что процесс разрыва – необратим.





