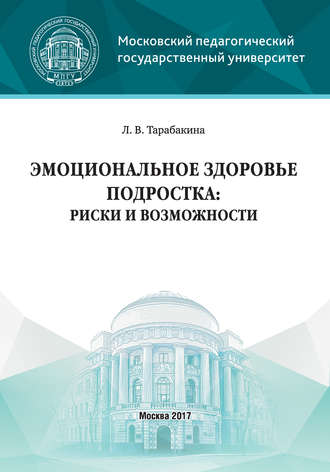 полная версия
полная версияЭмоциональное здоровье подростка: риски и возможности
Негативные эмоциональные эффекты в группах, возникнув, в дальнейшем трудно поддаются изменениям, а позитивные – недостаточно оцениваются и используются в организации работы с группами подростков.
Эмоциональные эффекты групп обсуждаются, прежде всего, в контексте задач воспитания в работах А.Н. Лутошкина [132], А.С. Макаренко[133]. Термин «эффект» трактуется как сильное впечатление, производимое кем-то или чем-то; как действие какой-то причины, силы; как результат, следствие. Согласно С.Л. Рубинштейну, эмоциональные эффекты возникают в определенных жизненных ситуациях. При этом, по мнению автора, динамический аспект и страстность эмоций преобладают над смысловым содержанием конкретной ситуации и ее разрешением. Наряду с интенсивностью и силой проявляемых эмоций отмечается их последействие. Вновь пережитые эмоции неожиданно переносятся на другие ситуации, объекты, других людей, группы[134].
Эмоциональный эффект обнаруживает себя как ярко выраженное изменение текущих характеристик эмоций и отличается как силой проявления (ярко выраженное воодушевление или апатия, аффект или эмоциональная анестезия), устойчивостью эмоциональных взаимоотношений (позитивная или негативная эмоциональная идентичность), стилем взаимодействия (сотрудничество или обособление), последствиями отношений (дружба или месть). Эмоциональные эффекты могут иметь широкий размах в рамках крайних проявлений социального поведения: от конструктивного
творческого настроения и эмоциональной креативности субъекта, группы до агрессивных действий или безучастного присутствия наблюдателя в публичных эпизодах.
В психологической литературе понятия «эмоциональный эффект» и «эмоциональный феномен» одни исследователи чаще отождествляют. Другие – рассматривают его то как в качестве феномена, то как в качестве эффекта. Между тем разведение этих понятий, несомненно, продуктивно для понимания механизмов эмоционального функционирования и социального поведения. Вновь возникший эмоциональный эффект может отклонить движение от стратегии, которая уже была задана ранее сложившимся этапом развития системы. Это позволяет отходить от линейной схемы «действие – результат» и признавать возможную нелинейность связи действия и результата (следствий функционирования).
Механизм эмоционального функционирования каждого человека в социальном пространстве предполагает устойчивую позитивную эмоциональную направленность. Социальное взаимодействие возможно лишь на основе позитивно окрашенных эмоций и доверительных взаимоотношений с окружающими людьми. Между тем известно, что коррекция поведения и деятельности необходимо предполагает рефлексию и встречу с отрицательной информацией о допущенных ошибках. Это противоречие и необходимое единство разнонаправленных эмоций способен принимать лишь человек, достигший психосоциальной и эмоциональной зрелости, уровня и опыта которых подросток чаще всего еще не достиг и не освоил[135].
Все события жизненного пути человека всегда эмоциональны, однако неоднозначность и дальнейшие переживания зависят от того, на какие аспекты ситуаций направляются эмоции, в какую структуру настроения они встраиваются, и какими жизненными смыслами открываются. Б.Д. Парыгин, вслед за С.Л. Рубинштейном, настроение рассматривает как самое сильное переживание или «строй» мироощущения личности. Он пишет: «…настроение вообще можно определить как многогранное, локализованное или разлитое эмоциональное состояние личности, окрашивающее или даже определяющее в данный момент все другие проявления ее психики»[136]. Настроение личности индивидуально, так как является переживанием конкретной личности, но оно одновременно и социально, так как является индивидуальной формой проживания содержания межличностных отношений и взаимодействия. Б.Д. Парыгин обобщил работы по исследованиям социального настроения, определяющие характер и направление активности личности, микро- и макрогрупп, общества, а также исследовал возможности эмоционального «заражения» и «резонансного» распространения настроения.
В работах Г.М. Андреевой показано, что фактор настроения занимает одно из ведущих мест в социальном познании, в освоении которого рядовой человек выступает как «наивный психолог». Человек не просто осваивает получаемую извне информацию, но становится «архитектором собственного социального окружения»[137]. Единение с окружающими людьми и их эмоциональная поддержка особенно необходимы подростку, когда неожиданно в новой ситуации актуализируются его страхи, мгновенно утрачивается общий фон благополучного настроения. Подростковую субкультуру в целом отличает общий фон повышенной жизнерадостности и доверительного восприятия других людей, позитивный настрой межличностных отношений. В то же время именно у подростков могут мгновенно возникать страхи, присутствие которых может вначале изменять и порождать депрессивное настроение, а далее порождать различные варианты социально-психологической дезадаптации, агрессивного поведения, которое в крайних случаях могут преобразовываться, в том числе, в разрушительные действия против себя – в суицид. Момент активности в эмоциях составляет самую важную особенность их функционирования.
Как совершенно справедливо отмечает Л.В. Куликов, исследование тематики настроения позволяет получить новые данные о социально-психологических рисках происхождения суицидально опасной активности Разговоры о смерти у подростков вызывают живой интерес как к самой большой тайне жизни. У взрослых не принято обсуждать тему внезапных событий смерти с детьми, а потому у них может сложиться парадоксальное понимание ее психологической сущности[138].
И.И. Завозяев исследовал социально-психологические причины роста количества наркозависимых подростков и механизм вхождение подростков в наркокультуру на основе изначально заданной и скрытой мотивации повысить свой социальный статус в группах сверстников. Присутствие в неформальной группе, несомненно, обладает особой притягательной силой, повышает значимость бытия каждого члена группы. Однако взаимоотношения в группах могут складываться неоднозначно и непредсказуемо, определяя те или иные следствия возникших эмоциональных эффектов. В частности, в новых обстоятельствах наркогенные мифы перестают восприниматься как угроза здоровью. Кроме того готовность подростков для вхождения в наркокультуру предопределена социальной изоляцией, низкой устойчивостью к манипулятивному воздействию криминогенных групп, эгоистической центрацией и искаженной системой ценностей, примитивным стилем времяпрепровождения и отдыха[139].
Целью нашего исследования выступил анализ социально-психологических оснований суицидально опасного настроения как эффект защитного поведения подростков.
Выборку исследования составили 43 подростка в возрасте от 15 до 16 лет. Участие подростков в опросах было анонимным и добровольным и было организовано на базе политехнического техникума.
Использовались эмпирические методы: опросник О.А. Идобаевой и А.И. Подольского «Лист жизненных событий подростков» (ЛИЖИСП) в нашей апробации; опросник «страх выглядеть смешным» В. Руха и Р. Пройера в русскоязычной версии Е.А. Стефаненко и Е.М. Ивановой); шкала Спилбергера-Ханина для измерения личностной тревожности; методика исследования самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева. С помощью частотного анализа ранжировались ситуации, определяющие тип настроения; на основе рангового коэффициента корреляции Спирмена устанавливались связи между переменными.
Как свидетельствуют полученные данные на основании методики ЛИЖИСП, текущая жизнь подростков на нашей выборке характеризуется высоким эмоциональным напряжением. Предлагалось по 10-ти балльной шкале оценить настроение, сопровождающее то событие, которое произошло с подростком, указывая его тональность: положительную или отрицательно окрашенную. По частоте событий на первом месте оказались подростковые драки. Лишь одна треть состава нашей выборки не участвовала в подобных событиях. У 30 % подростков групповые драки закрепляются в их эмоциональной памяти как события особой психологической ранимости. Более того групповую драку, где «причиной избиения оказался я сам» указали 61 % подростков от всей выборки. Средние значения негативных оценок оказались высокими -8,25. Показательно также, что предельно высокие негативные значения (10 баллов) имеют «поступки, повлекшие административное наказание» (15 %), в том числе «исключения из школы» (3 %). В числе значимых (с отрицательными переживаниями) указываются «ссоры с родителями», «ссоры со сверстниками», «невозможность занятий в кружках по интересам», «беременность или отцовство до совершеннолетия» (всего 7 %).
Депрессивные состояния подростков имеют свои специфические особенности. Если традиционно депрессия представлена триадой эндогенных факторов (нарастанием психосоматических заболеваний, эндогенизации, патохарактерологических изменений), то депрессия в подростковом возрасте отличается активностью в форме протестного поведения, готовностью подростков принимать крайние способы разрешения сложных жизненных задач: переживать вину,
самоустраняться из социальной ситуации, изолироваться от всех. Эмоциональный мир зависит от эмоциональной памяти и прошлого опыта, оценок и воздействия окружающих людей. Более того, включаясь в игровой контекст общения, подросток может утратить грань между игрой в «смелые поступки» и реальностью настолько, что помимо своей воли оказаться на грани суицидального поступка под влиянием «ведомого» извне.
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о существовании проблемного поля условий для становления эмоционального мира подростков: казалось бы, самый жизнерадостный период жизни вместе с тем содержит противоречивые тенденции. Подростки встречаются с угрозами для эмоционального самочувствия и ростом депрессии, угнетенного настроения. Школе необходимо взять под особую ответственность категорию подростков, которым судьба не приготовила никаких «подарков». Именно они все более погружаются в виртуальное пространство, где оказываются под влиянием манипуляторов, вовлекающих их в игры со смертельными исходами и подготавливающих к смысловому обесцениванию жизни. Новое время приносит новые социально-психологические риски, изменения задач воспитания, ориентированные на решение практических проблем, соответствующих реальным потребностям общества и взрослеющего поколения.
А.А. Реан и Я. Л. Коломинский обсуждают социально-психологический механизм, почему отчаянные попытки взрослых – педагогов и родителей – вырвать подростка из «нехорошей компании» обречены на провал. По их мнению, подростка пытаются лишить социальной опоры, предполагая вернуть в первично отторгающую его группу. Принадлежность к асоциальной группе удовлетворяет потребность во внешнем признании за счет сверстников, не входящих в избранный круг. Работает следующий механизм: внутри группы – «я – шестерка», а для окружающих – «я – авторитет»[140].
Как отмечает В.С. Басюк при организации даже самых комфортных жизненных условий, но не одухотворенных межличностными отношениями и социально значимыми ролями в группах сверстников, искажение личностного развития подростков неизбежно. Неспособность противостоять неблагоприятным условиям жизни сущностно характеризует личность подростков, проживающих в неблагоприятных условиях и, в частности, в интернатных учреждениях. Как показали результаты данного констатирующего эксперимента, почти половина выпускников интернатных учреждений не заканчивают обучения в учреждениях профессионального образования, не получают специальности. Они имеют проблемы в вопросах создания семьи и в поисках работы. Именно среди этой категории населения фиксируется самый высокий процент правонарушений.
В экспериментальной группе данного исследования, включенной в авторский проект психологического сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, были пятнадцать подростков, совершивших правонарушения различной тяжести и состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних управления внутренних дел. В отношении девяти подростков шло уголовное производство по различным статьям уголовного кодекса (грабеж, разбой, кража). Движение к личностному росту может произойти как открытие принципиально нового отношения к себе и погружение в особый социальный статус в реальном пространстве и времени. Большинство подростков в данном социальном проекте и в его трудоемкой реализации, принявшие участие в профильной военно-патриотической смене, изменили свое отношение к воинской службе и изъявили желание обучаться в кадетских корпусах. Лонгитюдный анализ показал, что респонденты данной выборки достигли совершеннолетнего возраста, уже оканчивают или окончили учебные заведения, строят планы и ориентированы на высокие притязания в своей карьере[141].
В.А. Лисицын свое исследование посвятил прояснению социально-психологической специфике процессов межгрупповых отношений и взаимному восприятию ученических сообществ. Он исследовал в рамках официальных учебных групп неформальные микро-группы «своих» и «чужих» одногруппников. Согласно гипотезе исследования предполагалось, что специфика межгрупповых отношений обусловлена уровнем социально-психологического развития этих сообществ. Было получено, что подростки склонны к личностной идентификации с членами своей неформальной микро-группы в рамках своей же ученической группы – класса, а личностно-конфронтационную позицию занимают по отношению к членам чужих неформальных микро-групп в рамках своей же ученической группы – класса. Достоверно подтверждено, что подростки чаще используют негативные характеристики в оценках «чужих» в неформальных объединениях. Студенты старших курсов не дифференцируют своих одногруппников в связи с фактом их принадлежности к неформальным микрогруппам или к другим официальным учебным группам[142].
Н.С. Булгакова совершенно справедливо обращает внимание на необходимость разрешения противоречий между потребностью социально-психологической практики в разработке программ и эффективных технологий психологического сопровождения процесса интегративного образования и недостаточной разработанностью проблемы оптимизации межличностного взаимодействия его субъектов. Цель исследования состояла в разработке модели оптимизации межличностного взаимодействия субъектов интегративного образования, обеспечивающей детям с ограниченными возможностями здоровья успешную включенность в современный социум. В качестве критериев межличностного взаимодействия были выделены характеристики эмпатии, доверия, групповых интересов. Показано также, что организующую роль в межличностном взаимодействии субъектов интегративного образования занимает учитель. Его фрустрированность, сниженное настроение, формальная позиция в общении с детьми и родителями имеют связь с неблагоприятным эмоциональным настроем класса. Негативное отношение учителя к идее интегративного образования имеет связь с конфликтными отношениями со всеми субъектами учебного процесса[143].
Н.А. Голубева и Т.Д. Марцинковская отмечают, что для современных подростков интернет-пространство оказалось ведущим средством общения и стилем жизни. Подростки не только имеют возросшие возможности быстро получать всестороннюю информацию, но обрели новые социальные практики общения: они получили возможность высказывать свою точку зрения и получать обратную связь. Подростки развиваются в совершенно новой социальной ситуации развития, в которой «информационная культура» и «цифровое поколение» оказались реальностью, а не абстрактными понятиями. Авторы отмечают, что за последние три года возросла степень критичности у подростков ко всем видам информации[144].
На противоположных аспектах влияния интернет-пространства на личностное развитие подростков в своем исследовании сосредоточился С.В. Будыкин. Статистические данные 2014 г. свидетельствуют, что 61,4 % россиян-пользователей Интернета не превышает 15-летнего возраста. Российские дети опережают европейских сверстников в плане самостоятельного освоения и использования Интернет-сетей. В 2010 г. в РФ принят закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. С.В. Будыкин вслед за У. Беком рассматривает риски «нового типа», обусловленные техническими и экономическими возможностями развития общества. К ним он относит следующие риски:
✓ выход за временные границы настоящей ситуации, что способно порождать новый тип идентичности и воздействовать на развитие будущего поколения;
✓ преодоление пространственных границ и выход за различного рода национальные границы;
✓ отсутствие социальных границ и «вторжение» в судьбы большого числа разных людей, изменение границ между публичной и частной жизнью.
Наряду с рисками «нового типа», должное освещение в современной литературе получили риски общего плана. Представлены убедительные эмпирические данные, свидетельствующие о выходе в сеть как распространенном способе избавляться от эмоционального дистресса. Получено, что эмоциональная зависимость имеет связь с рисками общего характера, включающего следующий их перечень:
✓ Доступ к информации, несущий вред развитию, здоровью подростков (насилие, самоубийства, наркотики, секс и др.). В обществе растет экстремизм, а наиболее уязвимыми для пропаганды оказываются дети.
✓ Риск опасных знакомств, так как в Интернет-пространстве используются дискуссии, чаты, форумы, а возникшие и не всегда безопасные знакомства могут иметь продолжение в реальной жизни. Подростки могут оказаться объектами манипулятивного воздействия, жертвами кибербуллинга. Расширился круг наблюдателей буллинга, так как материалы, помещенные в Сети, продолжают сохраняться в ней длительное время.
✓ Риск, связанный со скачиванием материалов, которые могут иметь негативные коммерческие следствия, в том числе, для семьи.
✓ Риск, связанный с непродуманным предоставлением персональных данных. В обмен на доступ к информации подростки готовы дать информацию о себе и своей семье[145].
Глава IV
Условия становления и функционирования эмоционального здоровья подростка как саморазвивающейся системы
4.1. Теоретико-методологические объяснения в происхождении дифференциации систем эмоциональной самоорганизации человека
Рождение личности происходит не в результате прямого воздействия заданных внешних условий, а в результате того, что их наличие инициирует проект потенциального развития, а затем и преобразование его в актуальный, действенный план функционирования. Деление развития на два плана – потенциальный и актуальный (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) – позволяет осмыслить динамику и закономерности становления эмоционального мира человека. Если преобразование потенциального в актуальное сдерживается, то человек неизбежно оказывается перед проблемой необратимости задержек в своем развитии. Вот почему явления необратимости должны ориентировать человека на своевременное использование всех возможностей. Своевременность – индивидуальная способность и отношение человека к жизни, к времени, к собственному развитию. Под своевременностью понимается наибольшее соответствие между событиями и рисками упущенных возможностей, готовность начинать то или иное дело, трезво оценивая свои шансы, умения, риски и вероятность упущенных возможностей.
Если преобразование потенциального в актуальное сдерживается, недостаточно осознается, неправильно моделируется, лишено оснований для реализации, то человек оказывается перед проблемой необратимости своего же развития и достижений, что интегрируется в целостную кризисную (конфликтную) систему эмоциональных переживаний и целостный образ себя как «неудачника». В нашем понимании, в таких обстоятельствах происходит становление личности эмоционально разбалансированной. История развития такой личности (или ее «хронотоп»), несомненно, представлена устойчивым новообразованием; однако таким новообразованием будет уже не эмоциональное здоровье, а эмоциональный мир с противоположными смыслами своего существования. Это личность малоактивная, с ипохондрическим развитием, высоко-тревожная и испытывающая страхи перед новыми ситуациями, с устойчивым депрессивным фоном настроения.
У личности, избегающей намерения преобразовывать опасную ситуацию, слабо развито самосознание: слабая структура представлений о себе, недостаточно развитые процессы когнитивного оценивания, низкая мотивация достижения. К этому типу относятся люди с приобретенной (выученной) беспомощностью, сформировавшейся в раннем детстве, когда ребенок не получал необходимой поддержки, участия и одобрения. Пассивные формы самоконтроля основаны не на преобразовании изменившейся ситуации, а на приспособлении к ней. Возможны две стратегии пассивного поведения:
1) предвосхищение наступления негативных событий, стремление заранее уйти, замкнуться, предохранить себя от новых разочарований;
2) подчинение могущественным другим, чтобы пользоваться плодами их усилий и полагаться на их умение предвидеть развитие событий.
Личность проектирует себя и свою жизнь, деятельность. Способы проектирования могут быть различными: неосознаваемыми и осознанными, стихийными и целенаправленными, пассивными и активными.
Высокие резервы сопротивления критическим ситуациям, развитые механизмы самосохранения и преобразования обусловлены особой диспозицией человека, которая включает три компонента:
1) принятие на себя безусловных обязательств, ведущих к идентификации с намерением выполнить действие и с высоким результатом;
2) контроль – субъект контроля действует, чувствуя себя способным господствовать над обстоятельствами и противостоять тяжелым моментам жизни;
3) вызов – опасность воспринимается как сложная задача, знаменующая собой очередной поворот изменчивой жизни, побуждающий человека к непрерывному росту.
Регуляция эмоциональных состояний обеспечивает четыре взаимосвязанные сферы: физиологическую, эмоциональной, познавательной, поведенческую.
Кризисная модель функционирования эмоционального мира определяется идентификацией личности с возможными опасностями и регулируется системообразующим переживанием тревоги. Системообразующее место переживания тревоги задает содержание, которое направляет процессы функционирования всех четырех взаимосвязанных сфер – физиологической, эмоциональной, познавательной, поведенческой:
Физиологические изменения представлены мышечным напряжением, расстройством сна, изменением химического состава крови, быстрым утомлением и другими соматическими расстройствами.
Когнитивные изменения представлены своеобразными фантазиями и предвосхищением отрицательных событий, искаженным обобщением опыта конкретной неудачи, завышенными ожиданиями и требованиями к другим и своим эгоцентрическим видением события, психологической зависимостью в решении задач.
Аффективные изменения представлены раздражением и страданием, гневом и чувством вины, паникой и сгораниями, скукой и злой иронией, местью и агрессией.
Поведенческие изменения представлены ложными жизненными выборами, «лакировкой» и сокрытием своих проблем; конкурентными отношениями с окружающими, повышенным контролем за другими, трудностями принятия ответственности и проявлений инициативы.
Активно-преобразующая модель функционирования эмоционального мира определяется идентификацией личности с инновациями в окружающем мире и интересом к ним, открытостью к новым событиям и людям, участвующим в них. Системообразующее место переживания интереса определяет направленность:
Физиологические изменения представлены повышением работоспособности организма, активизацией нервной системы, «безаварийным» функционированием соматических процессов в критических ситуациях.
Когнитивные изменения представлены компетентностью в управлении деятельностью, ориентацией на высокие достижения, децентрацией позиций личности в социальном познании, творческим характером решений, дивергентным мышлением, психологической самодостаточностью, зрелой рефлексией достижений.
Эмоциональные изменения представлены воодушевлением в работе, чувством понимания переживаний другого и ситуации, интересом к новизне, заботой и бескорыстным поведением, любовью, культурой смеха, использованием психологически сложных метафорических образов.
Поведенческих изменения представлены открытостью и ответственностью, готовностью к анализу фактов и к их различению, гибкостью решений и достижением высоких результатов деятельности.
Две альтернативные модели выделены для различения участия личности в обеспечении сложности и самостоятельном функционировании разных вариантов и стратегий эмоционального регулирования. Взаимосвязи с другими психическими процессами, в частности, с памятью, обеспечивают устойчивость той модели эмоционального регулирования, которую личность уже освоила. Для одних людей изменения среды продолжают ассоциироваться со страхами перемен, с неудачами, снижающими самооценку, что, безусловно, рождает кризисные состояния и конфликтное поведение. Для других – изменения среды порождают интерес, открывающий горизонты новых смыслов бытия, с апробацией новых способов деятельности. Вопрос об осознании собственных переживаний и улучшении эмоционального отношения к собственной стратегии жизни является ключевым для личностного роста и эмоционального здоровья.



