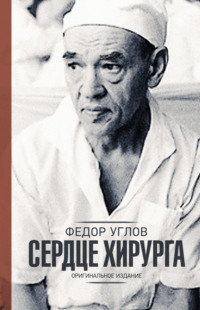Полная версия
Будни хирурга. Человек среди людей
Был у моего учителя Николая Николаевича Петрова помощник – уролог М. У него были на редкость плохие хирургические руки, и они сочетались с какой-то патологической страстью делать операции. Он был немолодой, много старше Н.Н. Петрова, но никогда не упускал случая прооперировать больного, особенно если больной лежал в его палате. Много раз больные и их родственники просили меня, чтобы я сделал операцию. Но я был на положении доцента и не имел права брать больных без разрешения врача, ведущего палату. Он же никогда не соглашался на это и обязательно оперировал сам. Я часто ему ассистировал. И это были для меня поистине мучительные минуты. Душа разрывалась на части при виде его неловких, опрометчивых движений. Нередко вырывал у него из скальпель и спасал больного от неминуемой катастрофы. После таких операций я сам ходил больной и несколько дней вынужден был приходить в себя от этих душевных мук и потрясений. Мне такие хирурги непонятны. Я никогда не «жаждал» делать операцию. Я всегда хотел лишь одного – помочь больному, избавить его от недуга, спасти его, каким путём – это неважно. Если надо делать операцию, я легко иду на это. Если можно сделать все без неё – мне ещё лучше. Я решительно не понимаю хирургов, которые любят делать операции. Не знаю, чего тут больше: неосознанного стремления удовлетворить жажду риска или плохо скрытого желания «блеснуть» хирургическим талантом и тем самым возвысить себя в глазах окружающих. Так или иначе, но в этом стремлении нет главного: заботы о больном, естественной для врача потребности излечить недуг, облегчить страдание.
В нашем случае врач Н. руководствовался именно этим противоестественным для врача стремлением во что бы то ни стало сделать самому операцию. Предосторожности же старших товарищей относил к робости, желанию перестраховаться, тянуть время. Затяжка с операцией его раздражала. Он всё больше укреплялся в намерении доказать свою правоту.
Итак, во время своего дежурства, взяв в помощники студента 6-го курса, Н. стал делать операцию под местной анестезией.
Во время операции установил, что отросток запаян в какой-то конгломерат. Попытки выделить отросток ему не удались; он нервничал, кричал на своего ассистента, на сестру, на больного, который «дуется и не даёт оперировать», и под конец, видя, что ему не справиться с операцией, вызвал заведующую отделением. Та приготовилась, надела перчатки и, только коснулась конгломерата, сразу же сказала: «Здесь рак слепой кишки. Надо делать расширенную операцию – удалить половину толстого кишечника. Здесь нужен наркоз и хороший наркотизатор, нужен целый набор инструментов, которые не подготовлены, и их надо готовить и стерилизовать, здесь надо не менее 1–1,5 литра крови – они тоже не приготовлены. Нужен дополнительно хороший ассистент».
Заведующая отделением вызвала старшую операционную сестру, доцента и попросила приготовить все необходимое.
Приехав в клинику, доцент убедился, что над больным нависла смертельная опасность. С большим трудом ему удалось спасти человека.
Я потом много думал над поступком врача Н. Передо мной по-новому предстала вся линия его поведения. Он всегда отличался излишней самоуверенностью, опасной для хирурга категоричностью выводов и суждений, при этом на редкость ленив и малоспособен. Ложь в его характере развивалась от наличия у него этих двух противоположных качеств. Как говорят в народе: не мытьем, так катаньем, не трудом, так обманом.
У нас иногда наказывают не лжеца, а того, кто ему на слово поверил. Нет более порочного метода воспитания, чем этот. Человек обязан верить другому человеку, и тот, который не верит, сам должен рассматриваться как непорядочный человек. Но в то же время лжец всегда должен нести наказание за ложь, где бы и в каком бы виде она ни проявлялась. Справедливое общество нужно строить на полном доверии и в беспощадной борьбе с ложью.
Будучи во Вьетнаме, я был свидетелем такого забавного инцидента. Инженер из одной европейской страны, обращаясь к вьетнамцу Нгуен Ван Хо, сказал:
– Пойдите, пожалуйста, на стройку и проверьте, кончили ли там возить песок.
Вьетнамец пошел, но посреди дороги встретил рабочего стройки Го Хин Лина, который ему сказал, что песок возить кончили. Вернувшись, Нгуен доложил:
– Да, кончили, мне сказал Го.
– А вы сами проверили?
– Да, – отвечает Нгуен. – Проверил, мне Го сказал, что кончили.
– А вы сами видели?
– Нет, не видел.
– Тогда сходите и проверьте сами.
Нгуен был поражён. Среди них услышать от товарища о том, что сделано, не менее надёжно, чем увидеть самому, настолько невероятной для них казалась возможность неправды.
Бывая за границей и наблюдая за обычаями, я в некоторых странах заметил, что там очень часто в строго официальных, в том числе и денежных, документах верят на слово, сказанное даже по телефону.
В Хьюстоне мне был выдан именной чек на 500 долларов. В банке у меня попросили «идентефикешен», то есть удостоверение личности. Но мы, приехавшие из России, все свои документы оставляли в Нью-Йорке, в консульском отделе, так как внутри страны паспорта там никто не спрашивает. Я ответил, что у меня удостоверения личности нет. Менеджер задумался. Как же быть?
Я звоню секретарю профессора Де Бэки и говорю: «Вива! Мне деньги не дают, потому что у меня нет «идентефикешен». Она сказала: «Дайте трубочку менеджеру». Тот взял трубку, и я слышу, как секретарша Де Бэки ему говорит:
– Это профессор, хирург из России, находится у нас в клинике при Бейлор-университете. Пожалуйста, выдайте ему деньги.
– Хорошо, – сказал менеджер и, не требуя от секретаря даже письменного заверения, по одному телефонному звонку выдал мне наличными 500 долларов.
В Америке, например, берут налог, исходя из тех данных, которые напишет сам клиент. При этом не требуется никаких документов. На чистом листе бумаги клиент пишет весь свой доход, а также тот расход, который не подлежит обложению. Например, на жену и на каждого ребёнка по 600 долларов в год, какую-то сумму на секретаря и другие расходы. После этого клиент подводит итог и ставит свою подпись. С указанной итоговой суммы и берётся налог.
– Но ведь вы можете какие-то доходы утаить и какие-то расходы написать зря.
– Да, конечно, и мне поверят. Но мы этого никогда не делаем. Почему? Если инспектор вздумает проверить правильность моих записей не только за этот год, но и за предыдущие годы и установит, что я какую-то сумму скрыл от налога и преувеличил необлагаемый расход, то с меня: 1) взыщут эту сумму, 2) взыщут проценты за всё это время, 3) наложат на меня большой штраф и 4) обязательно посадят в тюрьму.
Или, например, у профессора Рандала, онколога из Нью-Йорка, у которого я был гостем, украли машину. Она была застрахована. Он позвонил в страховую компанию, заявил о пропаже, и ему в тот же день выдали новую. Я спросил его: «Но ведь вы же могли сказать неправду?!»
– У нас это исключено. Если страховая компания установит, что я сказал неправду, то с меня: 1) взыщут стоимость этой машины, 2) проценты с этой суммы за всё время, 3) наложат большой штраф и 4) обязательно посадят в тюрьму.
Такое строгое взыскание за ложь очень дисциплинирует людей и даёт возможность в обычной жизни и в деловых отношениях беспрекословно верить сказанному слову.
3
Рядом с правдивостью стоит другое красивое свойство человеческого характера – верность слову, умение выполнять обещание.
Во все века все народы с глубоким уважением относились к данному человеком слову. Нарушение его считалось самым низменным поступком, а человек, тот, кто изменил своему обещанию, считался ничтожным, достойным презрения.
Честерфильд в своих письмах к сыну об элементах нравственности ещё в XVIII веке писал: «Ты, несомненно, знаешь, что нарушить слово – безрассудство, бесчестье, преступление. Это безрассудство, потому что тебе никто потом не поверит, и это бесчестье, а равно и преступление, потому что правдивость – первое требование нравственности, и никто не подумает, что не выполняющий своё слово человек вообще может обладать каким-либо другим хорошим качеством. Поэтому он навлечёт на себя ненависть и от него отвернутся люди». (Выделено мною. – Ф.У.)
Среди русских людей во все века считалось, что нарушивший слово покрывает себя и свою семью позором. Поэтому в среде порядочных людей считалось неприличным брать расписки или письменные обязательства.
А насколько русские люди ревностно к этому относились, показывает следующий факт, описанный Н.А. Некрасовым.
Один зажиточный крестьянин, Ермил Гирин, стремясь помешать купцу-живоглоту купить мельницу, что явилось бы несчастьем для всей округи, обратился на ярмарке к народу с просьбой одолжить ему тысячу рублей, которые он обещал вернуть в следующую пятницу. Так как ни у кого из присутствующих столько денег не оказалось, решили собрать со всех, кто сколько может. Крестьянин брал деньги, но ни списка не составил, ни расписок не давал. В следующую пятницу крестьянин принёс деньги и стал возвращать долги. Каждый подходил и говорил, сколько он одалживал. Столько он и получил. Ни один человек не спросил лишнего. Наоборот, кто-то не спросил свой рубль. И крестьянин долго ходил по ярмарке, призывая получить одолженные ему деньги.
Этот пример показывает, насколько правдив и честен русский народ в своей натуре, насколько обязателен он в выполнении данного слова. Чем воспитаннее человек, чем выше ставит он своё человеческое достоинство, чем благороднее он, тем строже относится к своему слову, независимо от того, кому оно дано.
К сожалению, встречаются ещё люди, которые мало ценят своё слово. А если такой человек окажется во главе государственного учреждения? Ведь в этом случае человек даёт слово не только от себя лично, но и как руководитель учреждения. Тем самым он как бы ручается не одной своей честью, но и честью своего учреждения, честью власти, которую он представляет. Вот почему слово, данное директором или начальником какого-то учреждения, должно быть не менее авторитетно, чем подписанный им документ.
В жизни очень трудно иметь дело с людьми, которые бесцеремонно относятся к своему слову.
Помню, как мы строили клинику. Четыре года напряженной работы всего коллектива – мы всеми силами старались помочь строителям, устраивая субботники и воскресники, – завершались созданием клиники, которая отвечала элементарным требованиям кардиологического хирургического учреждения. Оставались некоторые недоделки, которые хотя и были не очень значительными, но для персонала клиники служили непреодолимым препятствием к началу работы. Казалось бы, ещё месяц-два, и клинику можно принимать. К сожалению, недоделки оставались, а рабочие уже «перебрасывались» на другой объект.
Я – к начальнику строительства.
– Фёдор Григорьевич, не беспокойтесь. Мы вашу клинику сдадим в срок и в полном ажуре.
Однако срок прошёл, а недостатки остались. Приходят строители, прорабы.
– Фёдор Григорьевич, надо подписать акт о приёме здания.
– Но я не могу подписать и принять здание с такими недоделками!
– Фёдор Григорьевич, обещаю вам, что через месяц все недоделки будут устранены. Вы только подпишите, иначе план не выполним, ребята премии не получат. Они обидятся, не захотят хорошо работать. А примете, мы через месяц подготовим клинику и сделаем её как огурчик.
– Ну нет, товарищи, мы в таком помещении работать не сможем.
Начались звонки с разных сторон:
– Гарантируем: через месяц все недоделки будут устранены, клиника примет должный вид.
Я сдался и подписал акт приёма здания.
Вспомнил свою поездку в Бразилию. Страна очень бедная и отсталая. Там в моем присутствии в столице принимали больницу. Десятиэтажное здание было подготовлено так, что хоть сейчас начинай операцию в любой комнате. Все было в абсолютной чистоте и приведено в готовность. Выключатели вмонтированы так, что стены можно мыть, не боясь короткого замыкания, а чтобы в темноте их не надо было отыскивать, кнопка светилась, и её легко можно было увидеть. Мы спустились в подвальный этаж. Ни соринки. Ни одной обнажённой трубы. Все они покрыты жаронепроницаемым материалом и пропитаны лаком, а краны краской, так что их можно мыть. Пол всюду имеет закругленные углы. Стены и пол сделаны из такого материала, что легко моются с помощью шланга, и сток воды идеальный, почти не требует применения тряпок.
Мы пришли вместе с администраторами, принимавшими эту больницу. Осмотрев здание, поднялись наверх, который предназначался для жилья нескольких хирургов-аспирантов, прикомандированных на три года. Комнаты со всеми удобствами, с холодильниками, уже стоящими у стен, были готовы для жилья. Но мало этого. Один общий коридор со стеклянной стеной был предназначен для оранжереи. И там уже были посажены цветы.
Разумеется, я ни на минуту не забывал, что нахожусь в капиталистической стране, где все блага создаются для имущих. Может быть, и в этой клинике будут лечить только состоятельных. И хозяева больницы, создавая для них удобства, рассчитывали на свои выгоды. Но почему бы и нам не отделывать с такой тщательностью все новые больницы, школы, жилые дома?.. Взяв курс на высокие темпы, мы подчас забываем о качестве, о добротности, о красоте. В годы первых пятилеток у нас был лозунг: «Догнать и перегнать Америку». Мы тогда открыто говорили: учиться у капиталистов, все хорошее перенимать у них!.. Теперь же во многих областях мы догнали и перегнали Америку, другие передовые страны капиталистического мира. Может быть, потому и считаем зазорным учиться у капиталистов. А между тем это неверно. Я часто бываю за границей, вижу там много хорошего – особенно в сферах производственных, технических, научных. Почему бы нам не перенимать у них все их достижения?..
Но что с нашей клиникой?
Прошёл месяц. На объекте ни одного рабочего. Здание стоит, мы работаем в старом. Звоню.
– Да, Фёдор Григорьевич, виноват, немного задержались. Через месяц клиника будет готова.
Прошло ещё три месяца. В клинике за это время не побывало ни одного рабочего. Пошёл я к главному начальнику над всеми строителями.
– Что ж, Фёдор Григорьевич, придется въезжать вам в клинику с недоделками. Когда клиника начнёт работать и будут видны все недостатки, нам будет легче заставить строителей доделать.
– Но нам и так видны все огрехи.
– Все же советую въехать в клинику. Иначе она может простоять целый год. Вы же подписали акт о приёме.
– Но ведь вы же настаивали, обещали. Давали слово.
– Ну знаете… Что было, то было. А вот приняли. Работайте.
Начальник проявлял нетерпение. Получалось, что виноват не тот, кто обманул, а тот, кто поверил. Хорошенькая «философия».
Рядовые строители, конечно, тут ни при чём, а вот руководители их посмеялись над моей доверчивостью, наказали меня за веру в их слово, их обещание.
Как-то я прочитал книгу современного сибирского писателя В. Шугаева «Деревня Добролет». Там тоже описан подобный факт.
Автор спрашивает заместителя директора по хозяйственной части крупного фарфорового завода в Сибири:
– …И крупные были недоделки?
– …Почти в каждом цехе… Приёмочный акт изо всех сил сопротивлялись подписывать.
– Плохо сопротивлялись.
– Нет, брат, хорошо… Заставили подписать.
– …Как можно заставить?
– А вот… вызовут в район или сюда приедут: «Товарищи, срок пуска под угрозой срыва… Ваши претензии обоснованы… недоделки можно устранить во время освоения».
Приезжают строители: «Ребята, заверяем, клянемся… Вы только примите».
…Приезжает областное начальство: «Вы подпишите, а строителям никто не собирается спуску давать».
Мы упорствуем… У начальства всех рангов иссякает терпение – грозовая атмосфера…
– Отстранить и разжаловать, что ли? – Примерно в этом духе…
– И вы, значит, дрогнули?
– Дрогнули.
– И дальше что?
– Строители на другой день в глаза смеялись: «Ну и губошлёпы, – говорят. – Теперь подождёте, походите».
– И во что же вам эта «дрожь» обошлась?
– На полтора миллиона продукции недодали.
Тот факт, что в нашем примере за спиной лжецов и обманщиков стояли люди, которых поставил народ для того, чтобы они защищали принципы справедливости, невольно вызывает мысли о том, что, по-видимому, в вопросах очковтирательства у нас кое-где заходят слишком далеко. А надо ведь так: «Не давши слово – крепись, а давши – держись», то есть в полной мере отвечать за данное слово вне зависимости от того, кому это слово дано.
Мне было особенно удивительно слышать о таком безответственном отношении к данному слову у сибиряков. Я рос в Сибири и знаю, как там относились к слову: невыполнение его было самым постыдным поступком. У нас в семье даже в шутку не говорили неправды.
Для благородного, культурного человека сказанное даже вскользь слово является законом. При этом он его считает таким же обязательным, как клятва, и выполнение его считает обычным, само собой разумеющимся делом.
Почти полстолетия я работаю врачом, и у меня не было ни одного конфликта с больным. А если и были жалобы и заявления со стороны больных или их родственников на клинику, то чаще всего это вызывалось нетактичным отношением к больному со стороны того или иного врача. Но и такие заявления были исключительно редки. И это в условиях большого размаха хирургической деятельности, большого числа новых, неапробированных операций, которые нам приходилось делать. А тут ещё и частая сменяемость врачей, проходящих ординатуру и аспирантуру.
Как правило, больные уходили спокойные и часто удовлетворённые вне зависимости от того, сделали ли им операцию или нет.
Тяжёлое чувство неопределённости и беспокойства остаётся у больного, когда ни ему, ни родным не объясняется сущность заболевания, характер предполагаемых или осуществлённых мероприятий.
Я всегда считал, что больной должен принимать активное участие в борьбе за свою жизнь и здоровье.
В самом деле. Человек болен. Он требует лечения. Участие больного в этом лечении – важный фактор, и не использовать его в помощь врачу просто недопустимо. Между тем больной, если он понимает в основных чертах сущность болезни и своё положение, более энергично будет помогать врачам в борьбе с недугом.
Я всегда ставил себя в положение больного. Разве был бы я спокоен, если бы мне сказали: вашу болезнь лечить – дело врача, а не ваше.
Умный хороший врач с глубоким уважением относится к каждому больному. Он никогда не скажет ему неправды. Иногда в интересах больного врач не может сказать всей правды. Но солгать больному бесчеловечно и часто опасно.
Задача состоит в том, чтобы сказать правду, изложить дело так, чтобы у больного остались от разговора не страх и уныние, а вера в благополучный исход.
Правдивость и честность – основа поведения хирурга как с больными, так и с товарищами по работе. Нельзя быть правдивым с одними и лжецом с другими. Как нельзя быть проходимцем и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди. То есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем.
Несомненно, что со временем твёрдое слово начальника заменит многие документы и вера на слово поведёт к упрощению в делопроизводстве, к вытеснению бумажной волокиты и бюрократизма.
Кстати сказать, в армии и на флоте свято поддерживается сила присяги.
За всю свою жизнь я видел ложь в разных её проявлениях, и всегда на сердце оставалось от неё тяжёлое, долго не проходящее чувство. И вот что ещё характерно: с ложью всегда соседствует лесть, качество, которое идёт у нас от рабства, от нищеты, нужды и угнетения, от тех времен, когда человек, чтобы спастись от голода, от смерти и унижения, вынужден был прибегать к последнему средству – к лести. В сущности, лесть – та же ложь, но ещё со стремлением добыть для себя и близких своих различные выгоды и привилегии.
В детстве своём и затем в отрочестве, начиная жизнь среди мужественных и сильных сибиряков, я научился ненавидеть всякое проявление рабства, презирал лесть и обман. И может быть, от этих людей, не склоняющих ни перед кем головы и добывающих хлеб праведным трудом, пошло моё уважение к людям смелым и независимым, моё презрение к людям, с лица которых не спадает притворная улыбка. А такие люди встречаются – и нередко. И подчас даже умные почтенные люди не могут установить им подлинной цены, не замечают, как ловко устраивают они свои делишки за их широкой спиной.
Расскажу такой эпизод.
Однажды у меня на даче зазвонил телефон, и я услышал в трубке бодрый и приятный мужской голос:
– Фёдор Григорьевич, позвольте передать вам привет от моего шефа Петра Петровича. Вы знаете, как я вас обоих уважаю, и мне приятно выполнить это поручение.
То был москвич-архитектор, сотрудник учреждения, которое возглавлял мой старый друг, известный архитектор Пётр Петрович. Мне не однажды приходилось бывать в учреждении моего друга, видел я и этого архитектора. Он был высок ростом и, разговаривая, склонялся к нам, неизменно улыбаясь. «Вот приятный человек!» – подумал я, знакомясь с ним. Правда, настораживали его глаза – они не останавливались на одном месте, а всё время куда-то уплывали, но деталь эта, едва пришедши на ум, тут же забывалась. И сейчас, заслышав его голос, я живо представил улыбающегося москвича и сказал:
– Где вы остановились? Может, приедете к нам на дачу? Приезжайте, право, посидим за чаем, потолкуем.
Москвич не заставил себя упрашивать, и вскоре всей семьей мы сидели за столом, угощали гостя.
Он, как всегда, был корректен, наклонялся к каждому говорившему, согласно кивал и ворковал грудным низким голосом: «Да, конечно, вы правы, очень мило с вашей стороны».
Он, хоть и неохотно и с оговорками, но рюмки осушал до дна, и очень скоро лицо его, а затем и шея покраснели, глаза увлажнились, возбуждённо заблестели.
Москвич много рассказывал из жизни архитектурной мастерской, давал меткие характеристики и хоть прямо о себе не говорил, но из рассказов его как-то так ловко выходило, что все добрые дела замыкаются на нём и что от него идут все прогрессивные начинания в мастерской Петра Петровича и чуть ли не во всей отечественной архитектуре.
– Вам повезло, – сказал я, увлекшись приятной беседой, – Пётр Петрович большой души человек и авторитет, можно сказать…
– Э-э… – махнул рукой москвич. И глаза его как-то нехорошо блеснули. – Прошло время, Фёдор Григорьевич! Ваш друг Пётр Петрович – вчерашний день архитектуры…
Этой его фразой я был оглушен. Как?.. Это Пётр-то Петрович – вчерашний день? – хотел возразить гостю. Но возмущение было так велико, что мы не нашли никаких слов для возражения, а только переглянулись молча да плечами пожали. Я смотрел на москвича, ожидал разъяснения только что слышанному. Авторитет моего друга был общепризнанным, его даже явные противники признавали, а тут… его сотрудник и ученик!..
Видимо, и гость наш понял, что сболтнул лишнее, лицо и шея его покраснели ещё более. Неловко как-то и виновато заговорил:
– Вы меня правильно поймите: шеф наш авторитет большой, школа его всеми признана, я только хотел сказать, что даже такие авторитеты ныне опровергаются.
– Кем? – спросил я с излишней строгостью. И хотел добавить: «Такими, как вы?.. Но ведь сами-то вы пока ещё ничего не создали…» И хоть возмущение своё против гостя я сдержал, но беседа наша расстроилась, нарушился тот доверительный дружеский тон, с которым все мы садились за стол. И как ни старался москвич загладить неприятное впечатление от своих слов, беседа не клеилась. А я ещё в душе досадовал и на друга своего, Петра Петровича, который не однажды характеризовал мне в радужных тонах своего сотрудника, расхваливал твёрдость его характера, принципиальность, нетерпимость к проявлениям модернизма в архитектуре, голого рационализма и безвкусицы. «Ну, погоди, – мысленно обращался я к другу, – вот приеду в Москву, расскажу тебе о твоем любимчике».
Но «любимчик» опередил меня, он сам первый рассказал Петру Петровичу о беседе, происшедшей у нас на даче. Только автором фразы «…вчерашний день архитектуры» он выставил меня, а не себя. И когда я приехал в Москву, Пётр Петрович со своей неизменной добродушной шутливостью укорил: «Что же это ты своего старого друга в запас списываешь?..» И, видя моё недоумение, пояснил: «Вчерашним днем архитектуры меня называешь?..» Я был ошеломлён, обескуражен. Овладев собой, сказал: «Змею же ты пригрел у себя на груди. Мерзавец он, этот твой любимчик! И ты в другой раз приветы мне с такими людьми не посылай».
И рассказал, как было дело. Пётр Петрович выслушал меня спокойно. Потом сказал:
– Я, Федя, знал, что ты не мог обо мне говорить такое. Догадывался и о том, что это он меня так характеризует, а потом одумался и начал путать следы. Мелкий человечишка – чего и ждать от него. Недаром из него и архитектор не вышел. В архитектуре как в поэзии: в сорок лет поэта нет и не будет. Так и тут. А ему уже скоро пятьдесят стукнет.