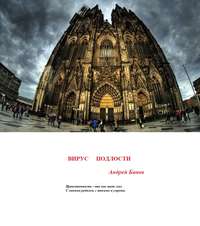Полная версия
Небесная станция по имени РАЙ
Но прерванная мысль Вострикова как раз шла в правильном направлении – шепот сестриц Авербух, звенящий в темном коридоре, выдавал подлинные цели профессора Свежникова, хотя и шептались сестрицы даже не подозревая об этом. Просто они выполняли требование профессора: никому ни слова! Они расценили его как скромность и решили перешагнуть через данную ими клятву. «Омерта» – называли они ее, смеясь, и торжественно-иронично поднимали вверх по два сомкнутых пальца, безымянный и указательный. Скромность такого видного человека, как Свежников, подлежала воздаянию. И самое малое – это доведение доказательств ее до его заблуждающегося противника, то есть до Сашки Вострикова.
Но дело на самом деле было куда более серьезным и повод к таинственности куда более глубоким. Искренние сестрицы не могли додуматься до этого, потому что такого рода вещи лежали за пределами их психологии и никогда бы не уместились в ее рамках, как невозможным для хирурга было бы внести в операционную грязную вещь. Святость замкнутого пространства охраняется не столько законами, но душами преданных святилищу непорочных, искренних людей. Поэтому в шепоте сестриц было то, что свидетельствовало об их духовной стерильности.
Свежников, неплохой психолог, это понимал, и доверился своей второкурсной «лаборатории» без всякого страха быть разоблаченным в чем-то неприличном, грязном.
А дело, оказывается, заключалось в следующем. Его позвали к одному высокому и влиятельному московскому чиновнику, о котором ходила недобрая слава как о «личном кошельке» своего могучего шефа, и тот вполголоса поведал профессору о возможности присвоить огромный грант на роспись не просто одного из офисов ЮНЕСКО в Париже, а на графическое и дизайнерское оформление большой международной выставки, проходящей под эгидой того же самого ЮНЕСКО и еще какой-то важной службы ООН.
Было оформлено предварительное соглашение, что работы поручаются исключительно российской стороне и никакой другой. Этой же стороне достанутся и гранты, и все позитивные преимущества, которые эти самые гранты сопровождают. Русские чиновники, склонные к намеренным искривлениям в пространстве и нередко даже во времени, не стали копаться в подробностях проекта и даже не пожелали заметить, что он предварялся конкурсом. Их собственные конкурсы обычно управлялись ими же, и поэтому такой мелочи они никогда не придавали большого значения. Профессор Свежников, новоиспеченный академик, педагог, заметный творец парил над всяким конкурсом на недостижимой для других высоте. Его авторитет был уже очень давно и щедро оплачен властями, и никто, по общему мнению, не мог превзойти его.
Но совсем иначе считали другие чиновники, те, что назначали гранты и свои привычки приобретали не во внутреннем пространстве России, а на упорядоченных территориях остального цивилизованного мира. И в этом они были так же последовательны, а в каких-то конкретных случаях непреклонны, как их русские коллеги в своих привычках.
Сразу после заявления имени Свежникова последовало благодарственное письмо за столь авторитетный выбор на все работы, но тут же было приписано, что, по условиям конкурса, гранты хоть и достаются русской стороне, но ею должны быть представленно не менее пяти соискателей. Иначе конкурс будет сорван и ЮНЕСКО передаст гранты другой стране. Следующей на очереди стояла Англия. Так говорилось в том приветственном, но исключительно, по-европейски, холодном письме.
В Москве наконец вчитались во все условия, записанные в договоре, и всплеснули руками: почему это деньги и слава должны достаться англичанам! Как тут быть?
Решили обратиться к Свежникову. Он сначала явно испугался потери грантов, потом на несколько минут заметно расстроился и вдруг просиял.
– А что, не сказано ли там, что участники конкурса должны быть в равной степени титулованы? – спросил он с лукавинкой в глазах и с легкой улыбкой, обнажившей его ровные белые зубы, которые он теперь с удовольствием демонстрировал, потому что вставил совсем недавно какую-то фантастически дорогую керамику.
– Ни слова об этом! – ответил тот самый чиновник, которого подозревали в нечистых делах и помыслах под дланью всесильного, могущественного шефа.
– Так это же меняет всё, товарищи! – воскликнул профессор Свежников. – Хотя, простите старика, никак не привыкну – господа!
– Что же это меняет? – удивился чиновник, говоривший с легким кавказским акцентом. Он всегда, когда волновался, терял над собой контроль и начинал говорить так, как это делал еще в студенческие годы, когда только-только приехал в Москву из Закавказья на учебу в строительном институте.
– Да всё меняет, дорогой вы мой! – теперь уже широко улыбался профессор. – Привлечем к этому их дурацкому конкурсу всю мою младшую «лабораторию малых талантов». Вдумайтесь!
Чиновник начал понимать профессора и ответил ему сдержанной улыбкой. Во рту блеснул золотой зуб.
– У некоторых мудрых японских мастеров боевых искусств, то есть у высших учителей специальных школ, – рассуждал Свежников, – есть такая практика: обучить нескольким видам боя своих учеников так, чтобы дотянуть их до своего уровня. Однако они всегда оставляют один из видов, способный превозмочь все остальные, в тайне от учеников. Это их гарантия, их защита. Ученики это знают и стараются на учителя хвост не задирать.
Он потер ладони одну о другую и покачал головой, не отрывая взгляда от чиновника.
– Вы считаете меня мудрым педагогом или сомневаетесь во мне?
Чиновник, как и многие в московском правительстве, в профессоре Свежникове не сомневался. Вот так было решено, оставив в секрете многое, привлечь к конкурсу «лабораторию малых талантов». Профессор был убежден, что, несмотря на многие успехи его учеников, им учителя не одолеть, как бы они ни тужились.
В штаб-квартиру ЮНЕСКО полетел список конкурсантов: на первом месте мастер, то есть профессор Свежников, далее – Эдик Асланян, Гарик Семенов, Сергей Павликов, Иван Большой, Рая Тамбулаева и сестрицы Авербух. Причем последних было рекомендовано засчитать как одну творческую единицу в силу специфичности их способностей. Это, последнее, очень заинтересовало и даже позабавило устроителей конкурса, и список соискателей был торжественно утвержден. Теперь необходимо было ознакомить всех с требованиями и предложить составить собственные проекты и эскизы. На всё давалось полгода. Время, как понимали стороны, явно недостаточное. Но слишком долго русская сторона топталась на месте, прежде чем решить проблему безопасного для профессора Свежникова соискательства.
В «лаборатории малых талантов» закипела работа. Все соискатели стали уединяться, надежно прятать свои чертежи, расчеты, начальные эскизы. Это захватило даже сестриц Авербух, хотя они очень страдали от вынужденной скрытности и оттого стали невеселыми, нервными. Если бы не цейтнот, в который они попали наравне с другими, то их поразила бы одна депрессия на двоих, в этом случае не делившаяся, а умножавшаяся вдвое. Но времени на такие нежности не было. Пришлось их отложить на потом, на после конкурса.
Несмотря на старания, никто из «малых талантов» на успех всерьез не рассчитывал – ведь они впервые оказались на одной стартовой черте с самим Свежниковым. Но каждый был благодарен ему за шанс принять участие в общем с ним забеге и, чтобы не подвести старого учителя, рвались из кожи вон. Их приз, как считали все они, был уже получен: они удостоены признания профессора и допущены до конкурса с ним лично.
Разве лишь сестрицы Авербух допускали некоторую вольность в оценке своих способностей и считали, что уступить без боя, из одной только благодарности Свежникову, оскорбительно не столько для них, сколько для него самого. Он должен победить (и он, скорее всего, победит!) если уж не в равной борьбе, то хотя бы в достойной по напряженности. А для этого им нужно выложиться полностью, отдать себя делу до капельки, до последнего рыжего или черного волоска.
Их отец, сильно состарившийся за последний год мастер-портной Лев Авербух, еще больше подогревал амбиции близнецов.
– Девицы! – говорил он сурово, строго. – Вы должны уважать учителя. Покажите всем, чему он вас обучил и как он талантлив. Работа ученика говорит об учителе куда больше, чем его собственная работа. Это я вам заявляю, портной Лев Авербух, учитель без учеников.
Заключительную фразу он произнес скрипуче, с печалью. Он вообще в последнее время очень печалился, потому что его подводило здоровье: непривычно, очень недобро шалило всегда крепкое сердце, раздражающе непоправимо галопировало взад-вперед давление.
Он торопился увидеть успехи дочерей, видя в этом главный, заключительный аккорд всей своей жизни. Поэтому он и наставлял их, даже немного нервировал, и часто, когда они работали дома, выглядывал из-за их спин, ревностно, придирчиво пытался разглядеть то, что они сосредоточенно делали. Он расчистил для них свою мастерскую, отказал на полгода всем клиентам, говоря с высокомерием, что его дочери выполняют важный планетарный заказ.
Остальные соискатели работали также напряженно и даже отчаянно. Гарик Семенов выжил из личной мастерской деда, решительно сдвинул в стороны его монументальные произведения: от постаревших и пожелтевших девушек с веслами до бюстов всех величин узнаваемых и неузнаваемых моделей, и, не обращая внимание на брюзжание старого скульптора, установил прямо у огромного окна гигантского размера мольберт, рядом на видавшем виды, испачканном засохшим гипсом ломберном столике разместил полированный, светлого дерева этюдник с красками, большой металлический стакан с остро заточенными карандашами, три разного размера рейсфедера и пару баночек с китайской тушью. К ножке столика он прислонил картонный планшет с набором различной фактуры белых и голубоватых листов. Еще на столике, на его исцарапанной мраморной крышке, располагалась жестяная коробка с акварелью и гуашью.
Выбор Гарика пал, как и ожидалось, на монументальное изображение тем, связанных с покорением космоса, со строительством гигантских промышленных объектов, с полетами устрашающего вида авиалайнеров, больше похожих на межконтинентальные ракеты – в разных вариантах. Было там еще что-то очень монументальное, веское, претендующее на вечность, на приметы эпохи.
Эскизы работ Гарик несмело показал Максимилиану Авдеевичу. Тот удовлетворенно прищелкнул языком, сделал несколько дельных замечаний, в основном касающихся композиции, и работа закипела дальше.
Эдик Асланян осел в мастерской, которую очень давно для него снял и оплачивал его отец Гермес Асланян. Здесь же иногда организовывались выставки молодого дарования, разбавленные бледными полотнами еще каких-то безвестных художников. На этот раз всё подчинялось главной идее – конкурсной работе.
К Эдику были приставлены два брата Карапетяна – Карапет и Ашот, которые никого лишнего в мастерскую не допускали и круглосуточно заботились о том, чтобы сын их властного шефа ни в чем не нуждался. Карапет, огромного роста, волосатый мужлан с темным, звероподобным лицом сидел у входа на табурете и нехотя отпирал дверь в мастерскую, если кто-нибудь туда невзначай наведывался. Слышалось только его сиплое: «нэт, нэт», и дверь вновь неслышно запиралась. За поясом у Карапета вороным матовым крылом, не скрываясь, отсвечивал тяжелый пистолет. Это не удивляло Эдика, потому что он считал оружие таким же инструментом профессии Карапета, как кисть и краски для себя. Такова была его суровая роль в жизни семьи.
Ашот занимался внешними связями. Он был выше и тоньше брата, хотя так же волосат и хмур. На черном, лаковом «мерседесе» он привозил завтраки, обеды и ужины, туалетную бумагу, ватманы, краску, кисти всех существующих видов с цельнотянутыми «обоймами», держащими волосяные пучки. Ручки у этих кистей были изготовлены из твердой древесины лиственных пород деревьев: бук, ясень, береза. Волосяные жала – круглые, контурные, плоские, ретушные, типа «кошачий глаз», шрифтовые, линейные и даже какие-то веерные, больше применяемые для макияжа лица женщинами, чем художниками в их творчестве. Но пригодиться, по мнению Ашота, должно было всё. В мастерской Эдика появился тайваньский компрессор с ресивером и набор необыкновенно сложных аэрографов, по большей части немецких. Эдик усмехнулся, подумав, что его готовят к делу так, словно он хирург, занимающийся сложнейшими нейрохирургическими операциями. Во всяком случае, никель и алмазные ребра купленных Ашотом инструментов, превращали художественную мастерскую в солидную операционную, ожидающую важных пациентов. Стоило всё это страшно дорого, да еще не везде можно было достать тот или иной предмет, но Ашот проявлял чудеса настойчивости и, переплачивая, покупал и покупал.
Словом, дело шло, Эдик работал почти без сна. В мастерской установили несколько рабочих мест, и он переходил от одного к другому, а братья неслышно, незаметно убирали за ним мусор, грязь, пыль, стирали масляные и акварельные пятна, смывали с пола разлитую тушь. Они аккуратно складывали в стопки изрезанную и просто сорванную Эдиком с мольберта бумагу, покрытую акриловыми красками для фона, и собирали это в огромные планшеты с тесемочками и замочками. Им жаль было выбрасывать бумагу ровных, сочных и нежных тонов. Она казалась им почти завершенной работой. Все, что бы ни делал Эдик, имело для них особую ценность и должно быть сохранено бог знает для чего.
Гермес появлялся раз в день, к полудню, задумчиво рассматривал эскизы и, поглаживая сына по кудрявой голове, говорил всегда по-русски:
– Делай, делай, сынок! Пусть все знают! Твоим консультантом будет дядя Шарль. Его послушаются…
Шарлем в кругах, близких к семье Асланянов, звали иногда самого Азнавура. Но чаще называли его именем, полученным при рождении – Варенагом Азнавуряном. Родственниками ему не были, но уважали его и как соплеменника, и как творца, и как влиятельного, богатого человека.
Эдик не обращал внимания на папины слова, потому что догадывался о том, что конкурс в Париже будет проходить не так, как проходят конкурсы на его большой родине, когда-то называвшейся СССР. Там не будут иметь значения ни родственные, ни племенные связи, ни даже деньги. Всё дело в таланте исполнителя, в его оригинальности, в качестве эскизов. Поэтому Эдик старался из-за всех сил. Рефреном стала библейская тема, изложенная в национально-художественном ключе. Это было и рождение Христа в ясельках, и первое крещение, и его мать, и впечатляющие встречи с апостолами, и воскрешение Лазаря, и распятие.
Эдик искренне переживал за своих героев, которые были героями почти половины человечества; его волнение чувствовалось в трепетных, талантливых линиях, начертанных на бумаге его юной рукой. Духовная нетленность и злободневность их образов возбуждало его сознание, приобщая молодое дарование к тому, казалось бы, ясному и простому, что в своем взаимодействии, в конце концов, убеждало его как раз в обратном: в сложности, многоликости единого и в то же время трагически разобщенного христианского мира. Абсурдность, противоречивость этих ощущений властно владели его кистью, его мыслью. Из-за кажущейся плоскости изображений, будто сдвинутых, скошенных в мрачных тонах кривого зеркала, в тенях вечной тайны бытия, проглядывало око национального гения его народа, одним из первых пришедшего к Истине Нового Завета. Будто из глубокого, холодного колодца прошедших тысячелетий поднимались в виде легких, теплых ладанных испарений так и непонятые человеком легенды Христовой трагедии и, преломившись в свете изумленного мира, застывали на талантливых полотнах Эдика Асланяна.
Максимилиан Авдеевич один раз, без предупреждения, заехал в мастерскую Асланянов, но не был допущен внутрь неумолимым, скупым на слова Карапетом. Профессор обиделся и гордо удалился, блестя старческими, давно уже теряющими первоначальный цвет глазами.
О его неудачном визите стало известно Гермесу Асланяну, и он лично, с охраной, с небывалой помпой заехал за профессором Свежниковым и привез его к сыну. Гермес яростно блеснул глазами на верного стража Карапета, и тот, побагровев, будто бы сдулся.
– Извините моего родственника, – волнуясь, но всё же твердо сказал Гермес профессору. – Он еще молодой, горячий. Не понимает… Он вас не узнал. Деревенский парень, какая у них там культура в горах!
– Ничего, ничего, – почему-то испугался упоминания о горах и об их, как ему казалось, несколько мрачной культуре Свежников. – Я не в обиде! Мальчик работает, ему не следует мешать.
Свежников высоко оценил руку своего ученика и даже как будто расстроился, во всяком случае, выглядел печально притихшим. Возможно, он впервые задумался о том, что кое-кто из соискателей может доставить ему беспокойство своим упрямством и настойчивостью.
Сергей Павликов работал, как и другие, не покладая рук. Он и его супруга-натурщица, та самая модель, по семейному прозвищу Гусонька, вытащили из снимаемой ими кухни всю мебель, оставив лишь газовую плиту и холодильник, и устроили там удобную мастерскую. Гусонька купила мужу новый мольберт, набор всех видов красок и прочую художественную «снедь» и даже высокий, треногий табурет для себя, на котором она позировала ему в обнаженном виде, покрываясь крупными пупырями гусиной кожи.
Это вовсе не означало, что на всех эскизах изображалась Гусонька. Однако ее молочное, гибкое тело необыкновенно вдохновляло мастера, и даже время от времени некоторые его округлости, его угадываемые контуры вливались в общий хаос линий и абстрактных сюжетов.
Работа Павликова выгодно отличалась от работ других его коллег по «лаборатории» тем, что она не имела притяжения ни к национальным, ни к конфессиальным, ни к амбициозно-монументальным доктринам и концепциям. Это было поистине абстрактное искусство, нисходящее к идеям шестидесятых годов и в наши дни вновь приобретающее более или менее свежее дыхание. Сергей Павликов обнаружил удивительное чувство цвета, теней, форм. Возможно, последнее ему было подсказано его милой моделью, не слезавшей с треноги целыми днями.
Когда приехал с инспекцией Максимилиан Авдеевич, Гусонька нехотя соскользнула с высоченного табурета и с еще большим нежеланием накинула на себя черный китайский халатик с желто-красными алчущими драконами на спине. Свежников впервые рассмотрел Гусоньку вне привычного студийного пространства и с волнением подумал, что и натурщица, оказывается, может взволновать воображение не только художника в работе, но и мужчину вне всякой его социальной деятельности.
Свежников смущенно заалел щеками, блеснул глазом и уставился в эскизы своего не самого талантливого, как он считал, ученика. Однако и здесь волнение лизнуло его сердце. Что-то в работах Павликова насторожило: вроде бы эту «песню» он уже где-то слышал, вроде бы она уже звучала когда-то, но это ощущение не порождало досаду, какую вызывает плагиат, а напротив, возвращало к уже забытым приятным вкусам, к старым ощущениям легкости, свободы, будущности. В этом была и своя монументальность, и удивительно уживающаяся с ней камерность. Всё вместе звучало наподобие радостной цветной кантаты, а в каждом фрагменте сохранялся интимный уют, эротическая, сладкая, нежная фантазия.
Это было открытие для профессора! И не только новой концепции, но и таланта ученика. Вновь взгрустнулось учителю, но вида он постарался не подавать.
Спокойнее его ревнивая душа оказалась в домашней мастерской Раи Тамбулаевой. Родители освободили ей свою спальню, переехав на время к сестре отца за город. Рая увлеклась флористикой. Из набухших эротичных бутонов торчали агрессивные на вид тычинки, с которых стекала вниз не то слеза, не то что-то молочное, а может быть, то и другое. Цветовая гамма всех без исключения эскизов была кричащей, наглой, бесцеремонной. И в этом состояло что-то волнующее, острое! Цветы притягивали взор, заставляли слегка краснеть и волноваться. Они действовали на подкорку наблюдателя, и, пожалуй, Фрейд всплеснул бы удовлетворенно ладонями, увидев в изображениях Раи Тамбулаевой подтверждение своим самым смелым гипотезам.
Приехавший с визитом Максимилиан Авдеевич и сам готов был заволноваться, но почему-то подумал, что такая интерьерная концепция вряд ли заинтересует высокое жюри, и успокоенно погладил Раино колено своей всё еще сильной жилистой рукой. Колено ее даже не вздрогнуло, и это почему-то расстроило профессора. Для продолжения его фантазии и для страстного развития естественного мужского, хоть и стареющего, импульса требовалось некоторое сопротивление встречного материала. Так и уехал Максимилиан Авдеевич ни с чем – ни в душе, ни в теле не было облегчения.
Иван Большой удивил профессора Свежникова неожиданной концепцией. Известный тягой к портретной живописи он решил украсить интерьеры помещений, предложенных ЮНЕСКО, галереей великих личностей нескольких веков – от позднего Средневековья до наших дней, называемых «новейшим временем». Работа предстояла титаническая, но эскизный вариант предполагал лишь изложение самой концепции и демонстрацию двух или трех фрагментарных рисунков. Для этого решения Ивану не понадобилась большая мастерская, и он с успехом воспользовался привычным для себя пространством и средствами: у окна в своей комнате, на старом, измазанном краской мольберте, на обыкновенной, принятой в училище бумаге, масляными красками. В этом тем не менее ощущалась оригинальность хода, потому что удивляло сочетание сложности доктрины с простотой ее исполнения. Что-то здесь было от синтезированного решения Павликова с его абстракциями и в то же время опровергалось известным консерватизмом жанра.
Профессор уехал от этого ученика несколько озадаченным: соискатели имели шансы обойти друг друга, но имели ли они шансы обойти и своего мастера? Сердце неприятно, тревожно вздрагивало, и идея привлечь к конкурсу всю «лабораторию малых талантов» теперь уже не казалась ему столь же здравой, как раньше.
Последний визит он попытался нанести сестрицам Авербух в портняжную мастерскую их отца Льва Авербуха. Но тут его не впустили обе девицы. Они встали перед ним на пороге двумя разновеликими шахматными турами и, хитро подмигивая, в один голос заговорили о том, что хотели бы сделать ему сюрприз, а потому не должны уступать его естественному желанию увидеть их эскизы раньше, чем их увидит высокое жюри. Сестрицы были так искренни, так веселы в своем стремлении угодить вкусам как общественности, так и своего милого учителя, что он разом успокоился и, смешно покачивая головой, удалился. Сестрицы Авербух были совершенно безопасны.
Пожалуй, думал профессор Свежников, сидя на кожаном диване в служебном черном «линкольне», выделенном ему лично столичным руководством, привлечь к конкурсу надо было лишь сестриц Авербух и, быть может, еще и Гарика Семенова. Ну, возможно, еще и Ивана Большого… или Раечку Тамбулаеву. Хотя, конечно, и Раечка, и Иван имели кое-какие шансы…
Душа была спокойна только за близнецов.
– Однояйцовые милые дурашки, – улыбался профессор.
Он ехал в свою большую, трехэтажную мастерскую рядом с храмом Христа Спасителя, до седой своей макушки заполненный идеями, почерпнутыми из работ учеников. Решение пришло разом: он должен замешать их концепции в одну, повторив их во фрагментах и заключив в свое идейное «яйцо». Тогда убиты все их шансы, а его – возрастают ровно на их суммированный коэффициент, многократно помноженный на его признанный талант мастера.
Профессор Максимилиан Авдеевич Свежников взялся за кисть с необыкновенным для себя воодушевлением. Ведь он учитель, педагог, а это дает ему несомненное право повернуть вспять те спокойные, тихие ручьи и те бурные горные потоки, которые он когда-то направил из своего сердца, из многоопытного ума к маленьким пристаням своих последователей и учеников. Вот ведь великий Тициан когда-то пользовал кисть не менее великого Эль Греко, да и других своих учеников. Говорят, критянин работал у старого мастера, растирал для него краски, выписывал порученные ему фрагменты на тициановских полотнах по заказам дома Габсбургов, а старик беззастенчиво эксплуатировал чужестранный талант. С чего это было критянину, безвестному тогда греку, сбегать в Испанию? Захотелось воли? Надоел старый брюзга-учитель? Но ведь творчество взаимно обогащает. Если на Эль Греко оказал серьезное влияние Микеланджело, то это ведь не значит, что критянин был склонен к такому смертному греху, как плагиат! Это всего-навсего естественное перетекание творческой мысли из одного талантливого сердца в другое! Что это, как не продолжение великого рода, пусть не кровного, не клеточного, но духовного?! Происходит сие действо не только от учителя к ученику, но и в виде справедливой оплаты за потраченные усилия, за волнения, за утекающее безвозвратно время, от ученика к учителю. И дает блестящие плоды, которые идут на пользу всему человечеству так же, как полезен сад, обработанный заботливыми руками десятков людей, но задуманный с архитектурной точностью и изысканностью одним большим садовником, одним талантливым архитектором.
Успокоенный этими мыслями Свежников отправил с шофером в училище заявление о творческом отпуске до конца конкурса. В училище благодарно вздохнули, и ректор с легкой улыбкой подписал заявление.