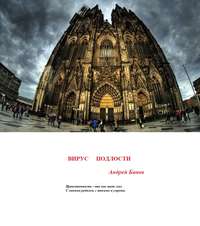Полная версия
Небесная станция по имени РАЙ
Все остальное вокруг этих рабочих убеждало в том, что картины посвящались одному и тому же цеху. Получалось, что реализм был лишь в интерьере, а красило его в революционные цвета, то есть преображало в «социалистический», несколько важных деталей: взгляд обоих рабочих, угнетатель-мастер или хозяин на первом полотне и молодой специалист-современник на втором; отсутствие спасительных варежек на революционной картине и их наличие в наши светлые дни. Это и был тот самый «социалистический реализм», в котором по своей еще юношеской горячности художник Максимилиан Свежников дерзнул усомниться.
Потом было много успехов, как на поприще творческом, так и в сопровождающей то самое творчество общественной карьере. Пришла слава, известность, признание, материальные средства, расширялись мастерские, двигаясь всё ближе к центру Москвы, и вообще, жить стало лучше, жить стало веселее. Реалистичнее с социалистической, жанровой, точки зрения, стало жить!
По этому поводу сейчас, конечно, каждому вольно иронизировать, можно вспомнить, горячась, «бульдозерную» выставку с ее «не нашим» абстракционизмом, и спившихся, либо сбежавших на Запад «несоциалистических» реалистов и грубиянов-натуралистов, но отрицать того, что и тот период был славен своими мастерами, которых не испортил, а многих даже и воспитал постреволюционный жанр, никак нельзя. Максимилиан Авдеевич Свежников относился именно к этой достойной когорте. Несомненно!
А по количеству выставленных картин, всех размеров, колеров и тематики, с ним не мог сравниться не только какой-нибудь обыкновенный плодовитый художник, но и даже вся вместе взятая самая талантливая и признанная часть Союза художников страны, органа весьма конфликтного и злопамятного.
С уходом «социалистических» жанров творчества в стыдливо скрывающееся прошлое профессор Свежников сначала растерялся и даже несколько опустился: он перестал выглядеть Первым Петухом в большом хозяйском курятнике, не часто появлялся на мятежных теперь заседаниях Союза, стал немногословен и даже сух в своей преподавательской деятельности в училище. Однако со временем он, пересмотрев очень немногое в своем творчестве, решил, оставив всё там почти без изменений, начать новую социальную карьеру.
Выглядело это в его творческом сегменте так: со старых полотен, которые он сумел с трудом собрать в своей мастерской на Верхней Масловке, исчезли признаки узнаваемого прошлого, то есть были заново прорисованы те фрагменты, где раньше реяли красные флажки или лозунги, в лицах героев появились новые хищные черты времени, обновились трактора, ползающие на заднем плане по встревоженным полям. Например, его знаменитая дилогия преобразилась в свою противоположность, а для этого он лишь внес коррективы в выражение лиц белоусых металлургов, в первом случае одел натруженные руки рабочего в варежки, а мастера или хозяина превратил в большевика с красной повязкой на руке. В первой картине лицо белоусого рабочего осталось прежним, но косился он уже не на эксплуататора, а на того, кто лезет в его рабочую душу с диктаторской идеологией. На второй картине лицо рабочего уже изменилось – из добродушного, доверчивого оно превратилось в раздраженное, мстительное, а вот молодой специалист за спиной рабочего остался прежним. Таким образом, «социалистический реализм» в этих своих осовремененных формах нисколько не понес урона. Даже, напротив, доказал свою тончайшую управляемость: оказалось, что достаточно внести коррективы в выражения лиц и пририсовать алую повязку на руку вчерашнему эксплуататору и всё меняется на противоположный знак с идеальной точностью.
Дела Свежникова вновь пошли в гору, что не замедлило отразиться и на восторженных критических отзывах. Профессора пригласили к сметливому московскому руководству и щедро обласкали. У него появилась еще одна гигантская мастерская в Староконюшенном, которая очень скоро превратилась в солидный художественный салон, ремонтирующийся и обставляющийся за счет того же самого московского бюджета. Были, правда, завистники, недоброжелатели, да и многие газеты выражали свое недоумение по поводу загадочной щедрости московских властей, но, как любил говаривать Свежников: «Собака лает – караван идет».
Поддерживали финансовую сторону жизни Свежникова в наибольшей степени, прежде всего, государственные заказы на росписи панно и фресок в крупных общественных центрах, даже в соборах и восстанавливаемых церквях. Вот тут Свежников выставлял вперед свою «лабораторию малых талантов», поручая в основном старшекурсникам за небольшие гонорары оформление почти всех фрагментов таких панно. Он и готовил их с самого начала для этого дела, поэтому и подбирал самых «бесперспективных» еще при их поступлении в училище. Профессор разработал собственную методику обучения, направленную именно на такую «командную» работу. Свежников вполне справедливо полагал, что любой самодостаточный талантливый художник рано или поздно взбунтуется и потребует воли для себя, станет настаивать на своем собственном стиле и вполне может испортить общее впечатление от какого-нибудь гигантского художественного заказа, прорисовав свои фрагменты так, что они притянут внимание зрителя и изменят всю профессорскую концепцию. Поэтому уход, например, Матвея Наливайко для профессора Свежникова был прагматичным сигналом к тому, что следует тщательнее отбирать студентов в свою «лабораторию», но к тому же и принес профессору облегчение, потому что, не вмешайся в это дело Сашка Востриков, неизвестно, чем всё могло бы кончиться. Скорее всего, бунтом гиганта Наливайко и каким-нибудь нехорошим скандалом. Тихий омут и черти в нем… Вот что это было!
Профессор стал пристальнее приглядываться к сестрицам Авербух – а не опасны ли они так же, как Наливайко? Но их искренность, легкость, доброжелательность во всем успокоили его.
Востриков обо всем этом знал, потому что здесь не требовалась особенная проницательность, тем более, это было известно всем, вплоть до ректора училища. Но профессор Свежников держал всех тут на коротком поводке, потому что ни одно бюджетное отчисление в Художественное училище из московской казны не производилось без консультации с ним. Через него негласно утверждались и заведующие кафедрами, мастерскими. Максимилиану Авдеевичу в тиши богатых кабинетов в столичном руководстве не раз предлагалось заменить собою ректора, но он видел в этом для себя определенный риск и неудобство. Будь он на этой должности, пришлось бы ограничить свое влияние Художественным училищем, да еще нести за всё, как принято было выражаться, персональную ответственность. Сейчас же он пребывал в училище в чине незаменимого оракула по совместительству с авторитетным влиянием на куда большее пространство – на формирование бюджетов в области культуры столицы, на контроль за крупными заказами, на определение новой творческой стратегии не только в Москве, но и в государстве в целом. Он справедливо считал, что ректорское кресло от него никуда не уйдет и по существу, в самом удобном смысле, оно под ним и находится.
Единственное, на что согласился скромняга Свежников, да и то после продолжительных уговоров, так это на то, чтобы принять на себя почетную полуобщественную должность личного советника по культуре главы города. Однако и тут без его подписи ни один рубль из казны не уходил. Советник, он же главный эксперт Совета по культуре, решал, на что следует тратиться в искусстве и в монументальном украшении столицы, а что может и подождать. Очень многие суетились вокруг столичного любимца, очень многие готовы были дать отсечь себе палец лишь за то, чтобы получить по его милости кусочек от бюджетных средств на свое прибыльное дело. До таких жертв дело не доходило, но конкурс тем не менее был жестокий. Приз всегда делили на несколько неравных частей, большую часть которого профессор отдавал выше, почти равную с ней оставлял себе, а остатки делили победители того тайного конкурса.
Так что, как видно, дела действительно шли.
Свежников давно бы стер в порошок смутьяна Вострикова, но житейский опыт подсказывал ему, что без иного полюса, пусть даже ослабленного (и это конечно же лучше, что ослабленного!), конструкция не выдержит, даст крен и в конце концов распадется. Единственное, что требовалось, так это держать мятежника в узде и не выпускать его за пределы училища. Востриков, собственно, и сам не стремился туда, где хозяйничал с наивысшего соизволения Свежников, но контроль над ним был необходим. Жизнь не раз доказывала Свежникову, что самые неприметные, самые скромные личности рядом с ним вдруг выскальзывают из-под контроля и потом отнимают много сил на их подавление и даже на растерзание, если дело дойдет до этого.
Из студентов второго курса в «лаборатории малых талантов» Максимилиан Авдеевич выделил выходца из семьи известных монументалистов, в основном скульпторов, Гарика Семенова. Его дед состоял со Свежниковым в столичном экспертном совете, а отец занимался распределением государственных заказов на крупные монументальные проекты. Имел свою долю в этом деле и отец Эдика Асланяна – небезызвестный в столице предприниматель Гермес. Многие средства содержались в его двух банках, а часть мастерских и салонов, в которых работали нанятые под эти проекты художники, принадлежали ему.
Свежников не лез во взаимоотношения между родом Семеновых и родом Асланянов. Они сами решали свои проблемы и дружно, мирно объявляли о достигнутых соглашениях Максимилиану Авдеевичу. Он же выносил это на суд первых столичных боссов и после короткого обсуждения за плотно закрытыми дверями ставил свою подпись на очень дорогостоящие документы.
Гарик Семенов уже руководил небольшой группой студентов, занятых заказами от Свежникова, а Эдик Асланян участвовал на правах его товарища в оформлении важных фрагментов в коммерческих заведениях, куда неожиданно поступали столичные бюджетные средства.
И тот и другой были в меру способными молодыми людьми, мечтающими о собственной творческой карьере, но, имея перед глазами такой пример, как их родители, как профессор Свежников, готовы были набраться нужного терпения и ждать своего часа. Это удовлетворяло Свежникова, хотя и несколько беспокоило из-за их молодости, а значит, и большей продолжительности жизни в сравнении с отпущенным ему временем. Но детей, внуков, племянников у него не было, а потому приходилось на кого-то опираться и доверяться кому-то молодому и сильному.
В общей сложности в его «лаборатории» обучалось сорок семь человек. Они тоже выстраивались Свежниковым по ранжиру – «комиссары» и исполнители. Никто не оспаривал общее руководство, исходившее от Гарика Семенова и, частично, от Эдика Асланяна.
На одной из устроенных профессором Свежниковым дружеских (и воспитывающих, по мнению профессора!) встреч со студентами своей мастерской, он, мягко улыбаясь и даже время от времени демократично балагуря, сказал:
– Вот вам и долгожданное возвращение чудесного нашего прошлого, нашей боевой молодости, светлых мечтаний старых, проверенных бойцов: да здравствуют комсомольские строительные отряды! Сколько сделано было нами… дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Вот и пришел заново приказ… на запад, а то, может быть, и в противоположном направлении. Это не нам с вами решать, как и раньше не мы решали! Но то, что вы все теперь объединены в один, можно сказать, почти комсомольский студенческий отряд, комиссарами в котором наши с вами общие любимцы Гарик Семенов и Эдик Асланян, уже говорит о том, что не все старое следует корчевать… Ну, не будут сейчас называть эти новые стройотряды комсомольскими! Да что ж с того! Суть-то остается прежней! Так что, дерзайте, молодые! Покажите себя!
Сестрицы Авербух очень удивились услышанному. Они засмеялись слитно, будто в один голос.
– Да как же дерзать, если не знаем, куда и зачем, Максимилиан Авдеевич! Не то на запад, не то на восток… Мы-то дерзнем! Да понравится ли?
Максимилиан Авдеевич опять с испугом, как это уже было однажды, посмотрел на сестриц, но они так искренне рассмеялись, что он успокоился. Ну что, мол, с них взять! Глупышки милые! А поручить им можно многое – в четыре руки горы свернут.
Замечание Свежникова о том, что возрождается традиция так называемых «комсомольских строек» была основана не на пустом месте. Дело в том, что накануне он присутствовал на одном из заседаний влиятельной партии, стоящей у власти или делающей вид, что стоит там, и крупный чиновник из самого Кремля авторитетно заявил: решение о возрождении такого молодежного течения принято на самом верху. А то прямо-таки не знают, чем занять нашу юность, которая уже устала от постоянных соборных митингов, выездных демонстраций и шумных летних лагерей. А тут, пожалуйста! Работы сколько душе угодно! Не готово, правда, еще ничего для этого, заявок серьезных как не было, так и нет, потому что государство стало другим, и теперь до этого руки не доходят (совсем другие, мол, заботы!). Но всё же, вещал чиновник – человек, между тем не старый, но в свое время в комсомольских отрядах преуспевший и в заработке, и в карьере, – как видно, откроются новые энергетические ветки, которые надобно тянуть аж до Китая. А это не шутки! Раньше, не то сокрушался, не то просто констатировал чиновник, работали за идею, на государство, теперь же заказчик частный. Правда, заметил он, тоже ценный, потому что тому же государству это нужно. И раньше-то люди не знали, как именно распределялись доходы, так чего им теперь надобно знать!
Свежников вспомнил, что комсомольские отряды не только железнодорожные ветки и газовые трубы прокладывали в его молодости и зрелости, но и в реставрационных работах участвовали, пусть в качестве дешевой рабочей силы, но дело-то делали! Он прямо на совещании, пользуясь особым расположением столичного начальства, взял слово и предложил: мол, пока нет прямо поставленных задач, не попробовать ли ему занять своих студентов на росписи двух крупных соборов и одной частной технической выставки? И опыта, мол, наберутся, и пользы, даст бог, принесут. Это было принято немедленно всеми, и чиновник, перемигнувшись с градоначальником, предложил даже выделить новые бюджетные средства на это начинание, а профессора Свежникова назначить главой комитета или комиссии по возрождению удобного для всех течения. Дадут и студентам заработать копеечку, и сами в стороне от прибылей конечно же не останутся. А как важно это с идейной точки зрения!
На следующий день, очень кстати, профессору Свежникову присвоили звание член-корреспондента Академии художеств и пообещали, что в самом начале будущего года его изберут академиком. А это крайне важно, считали в верхах, потому что возрождающиеся отряды нуждаются в авторитетах.
Чиновник рассмеялся, с наглецой глядя в глаза:
– Молодых прохиндеев там хватает, нужны и старые.
Надо бы было обидеться, но столичное начальство предостерегающе сжало губы. Обиду проглотил и постарался быстро ее забыть. Какой в ней толк, если она, кроме неприятностей, ничего не принесет? А дело понравилось, во всех отношениях оно работало на него.
Потому-то и балагурил весело профессор Свежников со своими студентами. И еще он рассчитывал на то, что не только его птенцы примут участие в работах, потому что это дело заразительное, доходное для многих.
И он не ошибся в расчетах: в стройотряд полетели заявления от студентов и из других мастерских, даже из мастерской и. о. доцента Вострикова. Но выходцев оттуда брали на особых условиях: только неквалифицированная занятость, соответственно и оплачиваемая. Это была своего рода показательная месть мятежным умам: надо знать, с кем общаться и на кого надеяться в будущем. И делать для себя выводы, пока не поздно!
Востриков ходил печальный, а Свежников с лукавой усмешкой, так, чтобы тот слышал, вопрошал громко:
– Не в лыко новое государственное дело некоторым? Индивидуализм давит на социальное сознание? Генетика, видишь ли, протестует… А по мне, так ретроградство это! Причем странное какое-то: без оборота к здравому консерватизму. Очень уж эгоистичное, очень уж сомнительное!
Это было уже почти политическое обвинение. Востриков краснел от возмущения, но ничего не отвечал. Его студенты, нанимавшиеся в профессорский стройотряд (его так и называли – «профессорский стройотряд»), прятали от Вострикова глаза, будто чувствовали, что предают его, но шли все же: денег на жизнь не хватало, и это бытовое явление становилось всё острее и оттого всё горше.
Матвей Наливайко, тужась от финансовых сложностей, все же удержался от соблазна. Он в глубине души страдал из-за явного конфликта между двумя своими кумирами, а ведь оба сыграли в его жизни позитивную роль, без того и другого он не ощутил бы себя сильным, умелым. Не копошились бы идеи в его голове, зовущие вперед, наверх, а были бы только самые мелкие, лишь удерживающие на плаву в затхлом прудике старых самооценок. Но и демонстративное пренебрежение Свежникова к Вострикову он тоже стерпеть не мог. Ему казалось, что он, Матвей Наливайко, мостик на той дороге.
Таких страдальцев, как Наливайко, было еще несколько. Они не были раньше в мастерской у Свежникова, но, так или иначе, конфликт затягивал и их в свой гнойный оборот, потому что зависели они от Свежникова во многом, а Вострикова искренне уважали и ценили.
Так в Художественном училище образовались два теперь уже устойчивых, антагонистичных центра, две враждебные фракции, которые не видели никаких шансов примириться друг с другом. Это сказывалось и на взаимоотношениях студентов. Казалось, что внутри училища кто-то невидимый протянул провод высокого напряжения и к тому же оголил его. Знавшие об этом опасном проводе старались держаться от него подальше, но образованное им электрическое поле серьезно влияло на их нервную систему, не давая покоя ни на минуту.
Страдали от этого и сестрицы Авербух. Они не скрывали своих чувств и даже часто обращались то к Свежникову, то к Вострикову с мольбой прекратить ненужный конфликт. Востриков упрямо молчал, поджимая губы, а Свежников только прозрачно улыбался и постреливал на них холодными глазами.
Но так получилось, что именно они, сестрицы Авербух, Сара и Евгения, и стали тем инструментом, что прорвал нарыв и очень многое изменил в напряженной повседневной жизни училища.
В начале следующего года, уже после того, как первые стройотряды под идейным управлением Свежникова продемонстрировали свою творческую мощь в реставрации и росписях соборов, церквей, торговых и увеселительных центров, двух банков и даже нескольких частных вилл в ближайшем Подмосковье, член-корреспондента Свежникова избрали академиком Академии художеств и даже выдвинули на должность председателя.
Дело чуть было не забуксовало из-за какой-то ревизионной проверки, устроенной одним излишне инициативным подмосковным прокурором. Сразу обнаружилась утечка бюджетных средств на частные заказы, выявлен был преступный непорядок в документации, подложные ведомости на выплаты студентам зарплат; оказалось, что куда-то исчезали тоннами строительные материалы, без позволения властей изменялись архитектурные проекты, поглощались земли, находившиеся поблизости от строительств.
Пожаловались и из патриархии, когда проверили качество работ на своих «божеских» объектах. Так их называл всуе профессор Свежников. Церковь тратила, оказывается, куда больше средств, чем требовалось. А куда все же девались эти средства, никто вразумительно объяснить не мог.
Но прокурора вдруг самого нежданно-негаданно поймали на взятке, а несколько критических материалов в небольших скандальных газетах, где трепалось имя Свежникова, были признаны клеветническими, «заказными». У двух из пяти газет отняли лицензию, одного главного редактора уволили за хищение редакционных средств, а второго так избили какие-то залетные и не пойманные хулиганы, что он превратился в безразличное ко всему «растение» – то есть в потребляющий пищу и непроизвольно испражняющийся безумный биологический организм.
Дело конечно же прекратили, и карьера Свежникова не пострадала. Он, правда, возмущался тем, что происходит на его глазах, но, как он божился, без его малейшего участия, посетил больного редактора и сделал несколько продуктовых передач в следственный изолятор, в котором содержался бывший прокурор.
Востриков скрежетал зубами, лютовал. Сестрицы Авербух уговаривали его посмотреть на всё другими глазами и не считать Максимилиана Авдеевича виноватым в этой грязной, многослойной и многосерийной истории.
– Да как же он смог бы! – воскликнула Сара и погладила Вострикова по руке. – Подумайте сами, Сашка! Он же старик уже… и такой заслуженный!
– Да вы же сами в его строительных шайках работали летом! – нервно отдернул руку Востриков.
– Работали, – кивнула Евгения, – расписывали храм, обе. Что ж с того! И даже заработали немного…
Она широко улыбнулась и прищелкнула языком.
Востриков вскинул на нее глаза и тут же, не удержавшись, весело рассмеялся: столько было искренности и бесхитростного задора в черных глазах Евгении и в зеленых – Сары. Он отмахнулся от девушек и повернулся, чтобы уйти. Разговор состоялся вечером в опустевшем коридоре училища, рядом с его мастерской.
– Право же, Сашка! – сказала вдруг серьезно Сара. – Максимилиан чудесный старикан. Знаете, что он нам всем предложил, всей его мастерской на нашем курсе?
– Что он еще вам предложил? – недружелюбно бросил Востриков.
– Не думайте, – продолжала улыбаться Женя. – Ничего неприличного. К сожалению…
Сестрицы захихикали и даже притопнули ногами, будто плясали ту самую мазурку со своей первой графической работы.
– Что, у него даже приличные предложения бывают? – скривился Востриков.
– Перестаньте, Сашка, – покачала головой Сара. – А то мы вас по имени-отчеству звать станем.
Сестрицы теперь уже серьезно переглянулись и согласно кивнули друг другу головой.
– Мы в конкурсе участвовать будем. От ЮНЕСКО, – прошептали они вдруг хором, – только это тайна, Сашка!
– Какой еще конкурс! При чем здесь ЮНЕСКО? – остановился в темном коридоре у стены Востриков и даже сделал шаг в сторону сестриц. В сумерках опять весело блестели их глаза.
В темноте, как известно, все кошки серы и глаза у них светятся одинаково. Почему-то именно это сейчас подумал Востриков.
– А вот такой! – вновь притопнула ногой Женя. – Вы только никому!
Она погрозила маленьким, коротеньким указательным пальчиком.
– Могила! – усмехнулся Востриков.
– Московское правительство рекомендовало профессору Свежникову принять участие в конкурсе на огромаднейший грант в одном из парижских офисов ЮНЕСКО. И еще – выставочный центр… Мы точно не знаем, – зашептала Сара так звучно, что лучше бы уж, если она хотела сохранить это втайне от чужих ушей, сказала это обычным голосом, – но дело, похоже, серьезное.
– Он и нам предложил, – также шипящим шепотом подхватила Женя, – всем из мастерской.
Востриков ничего не слышал об этом конкурсе, потому что о нем в училище никто не говорил. Получалось, что Свежников скрыл это. Но одно то, что он всё же проявил заботу о своих птенцах-второкурсниках, вину с него как-то снимало. Во всяком случае, делало ее не такой уж тяжелой. Востриков растерянно пожал плечами и буркнул что-то вроде того: «Ну, удачи вам, ваятели!» и быстро исчез в темном тоннеле длинного гулкого коридора. Он решил больше об этом не задумываться, решил, что сестрицы действительно искренне хотели мира между ним и Свежниковым и рассказали о конкурсе лишь для того, чтобы пролить мягкий добрый свет на образ своего профессора и подвигнуть Вострикова к размышлениям, будто не всё так плохо в этом человеке, как он думает.
Однако Востриков был человеком упрямым и в этом смысле последовательным. С одной стороны, думал он, профессор проявил благородство и заботу о своих студентах, дал им, пусть и незначительный, пусть даже фантастический, но все же совершенно определенный шанс проявить творческие способности и, в случае невозможной удачи, заработать немалые деньги, не говоря уж о мировой славе. Всё же проекты ЮНЕСКО стоили того, чтобы забыть обо всем остальном и увлечься только ими.
С другой стороны, Вострикова смутил шепот сестриц Авербух, бесхитростных девиц, на лицах и особенно в глазах которых всегда были написаны все их цели. А цели оказались следующими (и в этом Востриков ни на секунду не усомнился) – примирить между собой хотя бы ненадолго Вострикова со Свежниковым, побахвалиться своим шансом участвовать в большом планетарном конкурсе и, главное, что особенно отметил Востриков, сохранить всё это в тайне по исключительному распоряжению профессора Свежникова.
Именно это последнее и беспокоило Вострикова. Оно перечеркивало все позитивные предположения, потому что не было похоже на повадки Свежникова: тот никогда бы не стал скрывать своего педагогического благородства, которым очень кичился, если бы за этим не стояли какие-то другие, тайные цели. А все тайные цели профессора Свежникова, по глубочайшему убеждению и. о. доцента Вострикова, попахивали мерзостью. Но тут Востриков остановился и решил дальше не копать. Очень уж отвлекало всё это от работы, от того, что он всегда считал для себя не просто главным, но даже единственным – от поиска и творческого оформления уникальной генетической сокровищницы, художественных талантов своих студентов.