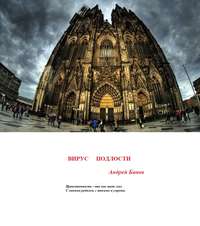Полная версия
Эстетика убийства
Вот и весь набор, кстати, довольно скромный по некоторым масштабам. Средненький такой! Чиновничий. Не высшего ранга, разумеется.
Потому что высшего ранга – охрана, как какой-нибудь чекистский Главк; яхта побольше, чтоб океанская, непотопляемая, с вертолетной площадкой и с маленькой подлодкой (может, и не одна даже яхточка!); парочка личных воздушных лайнеров; штук двенадцать автомобилей по типу «роллс-ройс», «бентли», «майбах» и чего-нибудь еще непроизносимого с первого раза. Акции какие-нибудь на полмиллиарда евро, не меньше; заводики свои, фабрики, салоны моды, весомая доля в банковском гиганте; средневековый дворец в Австрии, в Англии, в Германии, во Франции; островок свой вблизи итальянских берегов, можно и недалеко от Африки где-нибудь, или Новой Зеландии; роскошные квартиры во всех солидных столицах мира; тайное американское или израильское гражданство, в качестве второго, конечно, можно и французское; свои гольф-поля от Петербурга до Стокгольма, или, по крайней мере – с членскими билетами на триста тысяч евро в год в каждом; стадион в Европе и в России, команда своя футбольная или баскетбольная; роскошная домина в Калифорнии, чтоб рядом голливудские звезды шлялись и ширялись, и еще много чего сладкого. У совершенства нет границ.
Эти последние атрибуты счастья – для очень богатых и наглых пузанов. Для любимцев нации. Доля высшего сословия. Таких человек триста в стране, или чуть больше.
Но вернемся к нам, к «нищете» среднего класса. Что еще нужно? Ага! Вот, что нужно.
Независимую престижную бабу побогаче на каждый день и парочку глупеньких моделек на воскресные дни или на праздничный отдых в Чехии или в Швейцарии.
Не говорю уж о количестве и качестве костюмов, обуви, рубашек и тому подобного барахла. И лейблы у этого барахла должны быть из узкого набора! Обувь, портмоне, часы, ручки – всё в стоимость средненького автомобиля для преуспевающего менеджера в Москве. Английский следует знать лучше русского, а ругательный сленг английский лучше самого английского. По-французски говорить с акцентом и с легким презрением. И еще (чуть не забыл, черт возьми!) хотя бы снимать приличную квартиру в Лондоне (это обязательно!) и вечно учиться там на каких-нибудь дурацких управленческих курсах за безумный гонорар.
Вот тогда ты принц! Не король еще, но уже принц!
А то – однокомнатная кооперативная конура на окраине и «жигуленок» на стоянке у дома! Прошли те времена, безвозвратно, как кажется многим, канули в вечность! Всё это было необыкновенно ценно, когда народная масса прозябала в коммуналках, а ездили все на электричках и в битком набитых потным быдлом автобусах. Да еще по телефону говорили за «двушку» из телефонной будки, а очередь на домашний, персональный телефон тянулась от рождения до смерти.
Впрочем, большинство и сейчас недалеко ушли. Но это уже их личное дело!
Вот в тех социальных условиях я и стал следователем московской городской прокуратуры. Я был на голову, нет, на две выше всей остальной публики. А сейчас смотрю на себя того, самоуверенного, и думаю, что счастливыми бывают только дураки. Это потому, что тогда я себя чувствовал по-настоящему счастливым. Я делал карьеру, я добывал легкую руду на самой поверхности, я рвал во весь опор на общественных бегах, я трясся в своей персональной телеге. Далеко должен был уехать, высоко. От того, да еще от молодости, чувствовал себя баловнем судьбы, любимцем богов.
Но телега моя теперь отчаянно отстала от бешеной лавины варварского налета современности, я вдруг очутился почти в самом хвосте толпы себе подобных, и в нос мне ударила пыль из-под копыт неведомого мне племени наглых захватчиков новой жизни.
Карьера кончилась (сбита на излете!), счастья нет, три бывшие жены требуют уважения, двое детей, взрослых и никчемных сосунков мужского пола, денег, а я, дурак, всё чищу до блеска свою немногочисленную модную обувь, меняю иногда костюмы, раз в три года – машины, отчаянно коплю на квартиру в центре и на дачу хотя бы в дальнем Подмосковье, суечусь, подрагивая всеми своими стареющими мышцами и пергаментирующей кожей всё еще привлекательного лица. Желаю еще прикупить квартирку где-нибудь на болгарском черноморском побережье или, может быть, под Ригой. Я – разведен, бобыль, неудачник и дамский угодник. Вот что я такое!
Припоминаю, как-то разомлел в компании своего старого приятеля, человека теперь уже очень небедного, и, глядя в томные глаза его уже взрослой дочери, студентки какого-то изящного учебного заведения в Бельгии, стал вслух вспоминать, как мы при зарплате в 150 рэ покупали с рук джинсы стоимостью в 200, а то и больше рэ. Мечтательно так вспоминал! Как будто ностальгией мучился, идиот!
«Вы, говорю, молодняк, не знаете, что такое счастье, потому что не умеете вычитать из малого большое! А нас этому жизнь учила. Мы романтиками были!»
А она смотрит на меня эдакими изумленными глазками и восклицает:
«Не представляю, как это – джинсы за большую часть доходов! Сдурели, что ли!»
А я как хлопну ладонью по столу. Посуда аж подпрыгнула. И папаша ее, мой приятель, тоже в унисон хлоп! Мы зенками своими вращаем и шипим:
«Всё вам на блюдечке! Всё вам даром! Вы машину от нас получаете, да еще ухмыляетесь – недостойна она вас, у сокурсницы лучше, дороже! А у самих на руке часы стоимостью в четыре колеса от той машины в лучшем случае. Вы даже не пытаетесь что-то из чего-то вычитать, а глазки раскрываете с возмущением: вон, мол, какие глупые, за джинсы две зарплаты отдавали!»
И тут я понял, что постарел. Я потерял себя, я ору на юность, которую сам же развращаю своей суетой. И еще я подумал, что хочу быть таким, как они – не вычитать, а складывать, складывать… И ничего не помнить про дорогие джинсы и дешевую жизнь.
Напились мы тогда с моим приятелем, а его дочь смотрела на нас жалостными такими глазищами и думала, наверное, что мы напрасно прожили жизнь, что мы не умели делать дела. Она не знала, что именно эти дела и привели ее, в конце концов, к изящному ВУЗу в просвещенной Европе, к маленькой гламурной машинке, к дико дорогим часикам и прочее, прочее, прочее.
Но назад всё равно не хочу, как некоторые! У таких телег, как я, обратного хода не предусмотрено.
Мне когда-то здорово завидовали. Женщины падали в мою постель, как созревшие ягодки, жизненные блага облепляли мое спортивное тело, как теплый, морской воздух, а будущее поглядывало на меня мерцающим блеском голубых глаз. Оно было вечным, как и молодость! А как на мне сидели костюмы, джинсы, дубленки и ондатровые шапки! Как я смотрелся в «Жигулях», а один год даже в «Волге»! Ее потом пришлось срочно продать, потому что в прокуратуре тогда началась какая-то мерзкая кампания по поводу мздоимства, взяток, собственности. Могли здорово наехать! И всё равно, я был тогда счастлив и необыкновенно перспективен.
Конечно! Ведь счастье – это и есть перспектива, то есть ее ощущение. Поэтому и говорят: когда народ, или хотя бы амбициозную его часть, лишают долгосрочной перспективы, он отчаянно несчастлив, и такая власть непременно рухнет.
И жизнь рухнет! Как моя…
…Я сидел на пуфике посередине комнаты, положил на колени черную кожаную папку и привычно записывал в протоколе осмотра то, что бесстрастно диктовал старый бородач – немытый, усталый судебный медик по прозвищу Ланцет, неисправимый библиофил, нищий, как церковная крыса.
В комнату нарочито лениво вошел сыщик Максим Мертелов. У него на роже была написана всё та же старая обида на меня. Ну и пусть! Пусть себе мучается своей добродетелью! Добродетель тоже бывает жестокой и мстительной.
Подумаешь, подставил я его! Смотрю вот на Мертелова и думаю: никого ты не бил, ни рукой, ни коленом! Потому что ты вообще никого не можешь принудить к подчинению и к уважению. У тебя духа не хватит!
Яхты, акции, самолеты, виллы и роскошные квартиры не про тебя, брат Мертел! Твое место в тамбуре, в крайнем случае – на боковой полке в плацкартном вагоне. А он всё дует губки, намекая, что он такой крутой: дал, мол, тому кавказцу. Да и дал бы, и что с того! Его вообще убить надо было, ту сволочь, а не руки об него марать!
Меня тогда вызвал прокурор Малов и, бросив передо мной заявление кавказца о мордобое на допросе, сказал важно: «Ты знаком с этим Мертеловым… знаю. Одних девок портите, из одного стакана водку пьете, паршивцы! Проверишь теперь его на вшивость. Если сознается дурак, посажу на восемь лет, чтоб другим неповадно было… откровенничать, а не сознается – молодец, пусть живет!..»
Я искоса посмотрел на Малова и подумал, что тут дело не в воспитании. Я знал не только Мертелова, с которым мы, конечно, что-то и делили напополам, но всё равно носили в разных, так сказать, корзинах, но я знал и самого Малова. О нем ходили разные слухи – поставлен сюда с Кавказа, там родился, там начинал всё с нуля. Какой нации, неясно. Говорят, русский, но какой-то особенный русский, тамошнего посола. Знаю, что сам он из Кизляра, но есть близкая родня в Азербайджане. Меня к нему потому и определили, что свои люди везде. Он мне как-то во время одной корпоративной пьянки шепнул, что мы с ним даже вроде бы родственники. Мы, мол, одно колено, Шутка, конечно! Но за каждой шуткой, как известно, стоит горькая правда.
Я думаю, ему команду дали по тому кавказцу. Его хотели прирезать на зоне, попал к чужому клану, да еще детей грабил, гад! Свои, видимо, заступились и решили устроить показательную порку Мертелову и всем ментам заодно. Малову поручили это дело провернуть, а он, посоветовавшись, как водится, со своими, остановился на мне: во-первых, вроде бы, почти земляк, во-вторых, эффект посадки друга и собутыльника (красиво и унизительно и для меня, и для Мертела!), в-третьих, повязать меня надо было по рукам и ногам, на будущее. Если удастся, впереди много других дел. В стороне не оставят. Это точно! И тогда должность, где надо. А дальше те самые яхты-виллы-акции. По скромной шкале, разумеется. Но может вполне и хватить!
«Слышал, у тебя долги есть? – риторически продолжил Малов. – Поможем. А как же! Земляки ведь! Верно?»
Я испуганно кивнул, потому что у меня действительно были долги за последнюю машину. Подходило время возвращать, а у меня половины не хватает. К родственникам обращаться стыдно, не маленький уже, а отдавать чем-то надо. Иначе, с той стороны прижмут. Потребуют расплаты, а это уже другой клан, не «маловский». Вдруг тут и через него придется перешагнуть. А как? Как, я вас спрашиваю?!
Прокурор сует мне диктофон и говорит:
«Придумай, как заставить Мертелова сознаться, пусть скажет что-нибудь важное по этому делу, пусть вспылит или угрожать станет».
«Но такая запись, – пытаюсь с отчаянием возразить, – не имеет законной силы. Я же следователь, не оперативник».
«Имеет – не имеет, – ворчит Малов. – Не твоего ума дела, Карен Вазгенович. Это кое-каким людям нужно послушать, чтобы на своих внутренних разборках иметь аргумент перед другой стороной о справедливости возмездия. Тут свои законы… Там это законную силу имеет. Не беспокойся».
Не беспокойся? Еще как беспокоился! И очень надеялся, что Максим всё поймёт и будет держать язык за зубами. Он понял! А как же! Опер! Сыщик! Сам так же умеет!
Ну, пусть теперь дуется. Мне тогда пришлось в Баку писать, деньги просить. Стыдоба! Прислали, конечно. Даже больше, чем надо было, но ведь стыдно-то как! Хорош джигит – сам заработать не в состоянии, да еще в столице! Малову кто-то сказал о том моем письме, не иначе как из Баку и сказали. Что же ты, мол, своих не премируешь? В какое положение людей ставишь? Карен, мол, сын уважаемого человека, племянник, можно сказать, гордости рода, а ты его в холодном теле держишь! И это благодарность за поддержку?
Малов, наверное, не знал, куда деться. С одной стороны, те кавказские доброхоты, а с другой – почти родня, Азербайджан. Тогда наши армяне там еще хорошо жили, это потом уже беда пришла.
С одними, кизлярскими, он меня почти подвел под монастырь, а другим, бакинским, надо было что-то объяснять, выкручиваться. Выкрутился. Вызвал, назначил на должность прокурора отдела и дал годовую премию. Я о такой и не слыхивал даже. Потом я от должности отказался… слишком много забот, а воли никакой. А вот деньги принял.
Так что Максим Мертелов мне даже помощь оказал. А он думал, что в той истории он самый умный, самый хитрый. И всё равно он мне нравится. Он меня уважает, а я его. Это редкость, когда искренне.
…Максим покрутился и вышел. Что-то колкое сказал местному сыщику, хитрому, простоватому парню, похожему на оглоблю. Я продолжал писать под диктовку Ланцета.
А жаль всё-таки Игоря Волея. Не скажу, что всё его творчество перечитал, но главные вещи знал. Не врал он, а это и есть главное, в прямом и в переносном смысле. Может, за это и убили? Хрясь томагавком и усё. У нас давно умеют топориком-то!
На лестнице его дружок – Олег Павлер. Проходил у меня еще по какому-то делу… в свидетелях. Там был несчастный случай – то ли перепились в артистической тусовке, то ли обкурились, но кто-то из его приятелей выскочил в разгаре вечеринки из окна. Двенадцатый этаж, без страховки – тут выживет лишь везучий. Я дежурил по городу, мы выехали туда. Все растерянные, все талантливые, а тот уже растекся по асфальту. Тоже был талантливым. Павлер вел себя достойно. Успокоил всех, разумно так, взвешенно дал показания, повинился, что не остановил прыгуна в последний момент. Там в компании не было женщин, одни мужчины. Это неприятно бросилось в глаза. Но за это теперь не наказывают, слава богу, а случиться беда могла в любой компании. И вот сейчас он опять… и Волей – его друг. Павлер говорит, они накануне повздорили.
Ничего, Максим разберется. Потом обсудим. Хорошо, что опером у меня Мертелов. С ним можно обсуждать, он нескучный.
В комнату заглянул Андрей Бобовский. Этого я знаю через Мертелова уже лет пять, не меньше. Морда любопытная, улыбка наглая, глаза веселые. На полу лежит мертвый писатель Волей, а генеральный директор телевидения Бобовский радостно потирает руки. Вот шакал! Рад, что первый у мяса. Даже раньше льва. Ничего, сейчас львы прикатят из государственной компании и шакалов отгонят.
«Каренчик, дорогой! – слышу вкрадчивый голос Бобовского. – Брось ты это свое грязное дело, выгляни в окошко, полюблю немножко!..»
«Пошел вон!» – отвечаю и опускаю голову ниже к протоколу. Библиофил-медик сурово косится на Бобовского.
«Каренчик! – не унимается генеральный директор. – Выйди на крыльцо, почешу твоё… лицо!»
Он уже почти хохочет. Я не выдерживаю и усмехаюсь. Пожимаю плечами и, взглядом извинившись перед Ланцетом, кладу на ковер рядом с собой папку с протоколом, ручку, поднимаюсь навстречу Бобовскому. Мы выходим в прихожую.
«Пару слов для общественности, – шепчет Бобовский. – Заплачу! Клянусь мамой!»
Я смотрю на него безразлично, потому что он уже не раз платил мне за интервью. Поэтому это меня нисколько не оскорбляет, но я раздумываю – во что это ему теперь обойдется. Во-первых, он действительно тут первый, во-вторых, Волей не последняя фигура в нашем грешном мире, а в-третьих, и я не самый дешевый объект внимания.
«Ладно, – говорю я негромко, – договоримся. Но тут, братец, случай особый. Ты это имей в виду».
«Понял, понял, – радуется Бобовский, – всё понял! Выйди на лестницу, там моя Алка Домнина уже вся трепещет, тебя, понимаешь, хочет. Бери, я не жадный! Для друзей!»
Он вдруг понимает, что сказал что-то совсем уж пошлое и добавляет перца: «Ты только не думай, Каренчик, это не в счет гонорара. Это в счет гонореи!..»
И хохочет смехом победителя.
Самую удачную карьеру в жизни делает муха. Да, именно муха! Она способна воспользоваться абсолютно всем, ничем не брезгуя: ни остатками чужой пищи, ни даже фекалиями. Ее карьера совершенно предсказуема, потому что она добивается того, чего от нее хочет природа. Ей главное увернуться от мухобойки или не угодить в липкий капкан мухоловки. Только это способно положить конец ее скромным, естественным потребностям, которые и составляют всю ее жизненную карьеру. Она не должна быть первой, она должна быть одной из многих. И в этом ее счастье и ее удача.
Худшую карьеру делает самое разумное существо на свете – человек. Его амбиции носят самоуничтожающий характер, его жадность превосходит его потребности, и на его пути липких капканов куда больше, чем он выставляет на мух и на других представителей земной фауны.
Стоя на лестничной площадке перед камерой, за которой я вижу кудлатую голову мрачного оператора и рядом – рожицу хорошенькой мартышки Аллы Домниной, я думаю именно об этом.
Мое сходство с мухой лишь в одном – я так же не брезглив, оказывается …
После короткого, но скандального интервью я вынужден запустить в квартиру оператора и корреспондентку. Они краснеют и затихают как в мавзолее. Ланцет смотрит на них и на меня с одинаковой ненавистью и нескрываемым презрением.
Съемка занимает пару минут, не больше. Потом вся группа сворачивает провода и с грохотом высыпает из квартиры, а потом и из дома. Они торопятся сесть в автомобиль и укатить на телевидение, чтобы монтировать кадры, чтобы быть первыми, чтобы схватить свой рейтинг и заработать денег для компании и соответственно для себя. Бобовский доволен, он усмехается и тоже укатывает на черном, опасном, как боевая машина десанта, БМВ, за рулем которого сидит высокий, худой парень, похожий на бывшего костолома из службы охраны первых лиц нашего славного государства.
Я вижу это из окна, и еще я вижу, что около подъезда тормозит автомобиль государственной телекомпании, потом еще один. Наконец и до них дошла информация. Но они опоздали навсегда. Жаждущий зрелищ зритель теперь будет долго еще смотреть «Твой эфир», а к этим относиться с пренебрежительной усмешкой. Они только в Кремле первые, а там какие тайны расскажут! Тайны Полишинеля? То, что действительно стоит внимания, там не скажут никому. А то, что внимания не стоит, никому и не нужно. Одна лишь пропаганда, называемая теперь «пиаром» – Public Relations, всенародная промывка мозгов.
А тут действительно нужна расторопность. И тот, кто здесь скажет свое слово первым, тому и другая вера будет. Коль здесь поспел наш пострел, так везде поспеет. Рейтинг! Деньги, Слава! Опять – Деньги! С большой буквы…
Сажусь опять на пуфик, чтобы закончить, наконец, опостылевший осмотр, заходит Максим Мертелов и начинает шарить глазами по комнате. Я искоса наблюдаю за ним и строчу под сварливую диктовку Ланцета. Максим неторопливо, чтобы не мешать нам, очень тихо и аккуратно, глядя себе под ноги, обходит комнату. Он неслышно открывает ящички, заглядывает в пепельницы, в вазочки, перебирает стопки бумаг. Потом подходит к окну, около которого я только что стоял и наблюдал за тем, как от подъезда уехали победители и подъехали аутсайдеры. Я смотрел вниз, а не на подоконник, а Мертелов смотрит как раз на подоконник. Он проводит по нему рукой, и в следующее мгновение я вижу, как в его ладони шевельнулась бумажка. Я стоял над ней минуту назад и не видел ее, а он прямо к ней шел.
Максим подносит ее к глазам и читает, потом поворачивает и читает с тыльной стороны. Я знаю этого человека, он – не муха, он, как ни странно очень брезглив, поэтому его интерес к бумажке на подоконнике говорит о том, что она того стоит.
История одной женщины
У женщин историй ровно столько, сколько женщин на свете. Их физиологические потребности и физические прелести не уравнивают их, а, напротив, даже разобщают. Женщина – не загадка, женщина – не тайна, потому что у загадки и у тайны есть ответ, а тут ответа нет, тут – бесконечность, которую не объять и не понять.
Мужской пол – экспериментальный. Он создан Господом для того, чтобы поддержать большой эксперимент, чтобы стать его инструментом, чтобы быть его объектом. В нем есть загадка, потому что на эту загадку есть ответ. Это – примитивно.
Мужской пол – обслуживающий и заблуждающийся. Мужчины полагают, что они владеют миром, потому что владеют тайной, а значит, властью. Но их тайна и их власть – земные, ограниченные во времени и в пространстве. Они не владеют главной вселенской тайной – женщиной и ее бесконечностью, не владеют, потому что владеть ею невозможно. Не понимающие этого мужчины жестоко заблуждаются, понимающие – жестоко страдают.
Екатерина Алексеевна Немировская, привлекательная женщина тридцати четырех лет, написала обо всем об этом неплохое эссе в одном глянцевом журнале для эмансипированных дамочек. Сначала она обратилась за консультацией к одному молодому хирургу, который был занят тем, что менял пол по требованию тех, кто этого хотел и кто, на его взгляд, имел на это моральное и физиологическое право.
Филолог Екатерина Алексеевна Немировская, по прозвищу Лисонька
Хирург Арсен Чикобава был человеком аскетической, даже изможденной внешности: высок, неимоверно худ, бледнолиц, с длинными, нечесаными и маслянистыми черными волосами, с вечной щетиной на щеках, с жестко очерченной нижней челюстью и раздвоенным подбородком, с бесноватым блеском проваленных серых глаз.
От него исходил мускусный запах потного мужского тела и спиртного. И еще нечто, что получается не здесь, не в этом измерении. Это – не запах тела, это – запах души. Он неповторим и непередаваем словом.
Я лежала в его постели и сквозь зажмуренные глаза наблюдала за тем, как он поднялся, как матово блеснули в утренних лучах его худые плечи, как анатомически девственно выступили ребра, будто на давно некормленом жеребце, как бесстыдно блеснули ягодицы, узкие бедра и тонкие, длинные, жилистые ноги. У него к тому же выдающееся мужское достоинство, притягивающее мой взгляд.
Арсен щедрой рукой впустил в спальню солнце – резким, привычным движением рук разметал тяжелые гардины. Я зажмурилась еще больше и улыбнулась. Он повернул ко мне встрепанную голову и покачал ею.
«Что, – спросила я, – нравлюсь?»
«Мне нравится всё, что сотворил Господь, – ответил он буднично и серьезно. – И что не надо исправлять мне».
«О! – Я села на широкой кровати и потянулась, намеренно демонстрируя ему свою умеренных размеров, но на редкость правильной формы грудь, нежную линию рук, высокую шею и втянутый, напряженный животик. – Ты близок к Господу? Ты похлопываешь его своей талантливой рукой по плечу или даже придерживаешь за бороду?»
Арсен внимательно… мне показалось, даже слишком внимательно, как это делают скульпторы или художники, осматривая натурщицу, пробежал по мне своими серыми, некавказскими глазами. Он стоял уже лицом ко мне, и я тоже оглядывала его совершенно откровенно. Мне нравилось, то, что я видела, и что чувствовала ночью тоже.
«Ты пришла вчера за консультацией, – сказал он. – Но мы не поговорили».
Я рассмеялась и отвалилась обратно на подушки, разметав по ним свои темные волосы. Я знаю, что это красиво, впечатляюще. Мне об этом говорили мужчины, вкусам которых можно доверять. Они умеют оценить естественные эффекты.
«Мы делали, а не говорили, – ответила я негромко, – я пришла не за лекцией, а за лабораторным опытом, доктор. Но если желаешь… легкий завтрак и конечные выводы».
Арсен кивнул, подошел к стенному шкафу с матовым стеклом от пола до потолка, скрипнул роликами дверцы и тут же облачился в длиннополый девственно белый халат из нежной махры. На груди, на кармашке, золотом был искусно вышит его портрет в профиль и имя на английском: Arsen. Он, не глядя на меня, вышел из спальни. Я подумала, что обидела его своим цинизмом, который сейчас больше походил на недалекое кокетство.
Я поднялась, подошла к шкафу, дверцу которого Арсен, видимо, намеренно не задвинул, и увидела, что на плечиках висит точно такой же халат, но поменьше размером. Я сняла его и осмотрела: на кармашке золотом был вышит большой, изящный знак «вопроса». Рассмеявшись в голос, я нырнула в халат и вытянула из шкафа белые махровые шлепанцы. И халат, и шлепанцы вполне подходили мне по размеру. Наверное, он заранее их подобрал и здесь оставил. Пластический хирург так же точно определяет размер тела и ноги пациента, как продавец джинсов в США размер клиента. Один молниеносный взгляд и всё!
На кухне звякнула посуда, в нос ударил резкий, будоражащий запах свежего кофе. Я подумала, что когда слышу этот запах, мне всё удобно, всё комфортно, так же, как во время оргазма – хоть на голове стой.
«Турецкий, – услышала я, идя по узкому коридору на свет. – Обожаю турецкий кофе. И больше никакой другой! Турки умеют жить, они остро чувствуют жизнь во всех ее проявлениях. Они полноценная нация, они любят себя».
Я смаковала поистине чудесный кофе, который Арсен к тому же варил мастерски. Изящный стакан с ледяной водой, сопровождавший микроскопическую чашечку с густым, душистым кофе, был как нельзя кстати. Вчера, перед тем, как позволить себе уступить пристальному взгляду Арсена, я выпила немало коньяка, и теперь в голове тихо жужжали два назойливых шмеля. Два, потому что от одного из них столько неприятностей не бывает.