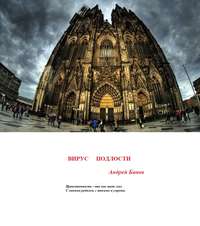Полная версия
Тихий солдат
А вскоре после ноябрьских, месяца через полтора или даже чуть меньше младший лейтенант госбезопасности Кастальская вызвала к себе через дежурного по полку сержанта Павла Тарасова и объявила радостную для него весть, что он назначен в охрану к самому маршалу Буденному.
Представлять нового сотрудника, находящегося на действительной службе, повез невысокий, молчаливый лейтенант НКВД, фамилию которого и имя Павел от волнения не запомнил. Прежде чем ехать в штаб Московского военного округа, что был на углу Комиссариатского переулка и Садовнической улицы, лейтенант критически осмотрел ладную фигуру сержанта и поманил его за собой внутрь управления кадров НКВД. Он провел Павла по каким-то коротким коридорам и вывел на задний двор.
– Вон там, в каптерке, найдете сержанта Кремнева…, скажите, я велел…пусть почистит немного форму, шинель, фуражечку на армейскую поменяет…, сапожки не мешало бы лакернуть слегка… Пусть ремень новый выдаст. Дорогу к КПП найдете? Вот также, через коридор.
Павел торопливо кивнул и даже вытянулся, хотел козырнуть. Но лейтенант устало отмахнулся и, буркнув, что через двадцать минут ждет его в машине перед выездом, исчез в том же коридоре.
Сержант Кремнев оказался молодым человеком с еще более придирчивым взглядом, чем безымянный лейтенант. Он был худой и высокий, с черным, мелкого беса, чубом и выстриженным почти под ноль затылком. Голова смешно торчала кверху огуречным острием.
– Говоришь, к самому маршалу, к Семен Михайловичу, на представление повезут? Ну, тут, брат, надо по-особому. Дай-ка сюда фуражечку-то! Новую я тебе выдам. Вот эту возьми, командирскую…с бордовым кантом. Не любит маршал синие-то! Та-а-к! Ремешок свой давай. Вон тот возьми…, да не этот, на нижней полке. Т-а-а-к! Сапожки ничего еще, ладные! Вакса у входа в каптерку и щетка там…, бархотку не забудь, чтобы блестели как у кота яйца! Э! Э! Где драить-то собрался! За порог давай! Навоняешь тут!
Павел выкатился во двор, оглянулся, увидел приступочек и тут же, разбросав полы длинной шинели, выставил ногу в сапоге. На этот раз он ваксы не жалел, и щеткой, и бархоткой тер так, что заболели руки. Потом аккуратно, тыльной стороной бархотки, обтер почерневшие на кончиках и фалангах пальцы, даже сплюнул на них. Он вернулся к Кремневу распаренный, как будто побывал в бане. Пот от волнения скатывался у него на лоб и виски из-под короткого козырька новой фуражки с армейской звездой впереди.
– Та-а-а-к! – протянул сержант, – вот теперь я понимаю! Боец! Кругом!
Павел развернулся и замер.
– Кругом! – опять скомандовал сержант и так пристально осмотрел фигуру Тарасова, что тот застеснялся, – Ага! Вот теперь порядок. Ты из каковских будешь?
– Виноват…из тамбовских…
– А чего виноват? Из каких есть – из таких есть. Семья-то большая?
– Мать и сестры.
– Такие же, небось, как ты, здоровые?
– Ага! Кроме младшей. Это мы в отца, а мать у нас мелкая…
– А шинелька у тебя, брат, неуставная. Но эта как раз сойдет, на кавалерийскую похожа. Семен Михайлович это любит… Кавалерия, сам понимаешь… Если бы ты конем был, а не человеком, так он бы тебя в задницу даже поцеловал!
Кремнев громко расхохотался собственной шутке. Павел сдержанно улыбнулся.
Лейтенант удовлетворенно причмокнул губами и показал на заднее сидение черной «Эмки». Водителем был пожилой мужчина в полувоенной форме, седой, с густыми короткими волосами и двумя заметными макушками.
– Это правильно, что фуражечку поменяли, – авторитетно сказал водитель и покосился на лейтенанта.
Тот кивнул и криво ухмыльнулся. Павел осторожно заглянул к ним в лица. Для этого даже чуть пригнулся вперед.
Шофер заметил и опять покосился на лейтенанта. На этот раз оба рассмеялись в голос.
– Да ты не тушуйся! – как будто пропел шофер, легко управляясь с резкими поворотами и разворотами то по мостам, то под мостами, то на самих мостах. Машина кружилась как на карусели, Павла даже замутило слегка.
– Когда войдешь, Тарасов, представься как можно более лихо! Ну, знаешь, по-кавалерийски, притопни еще, ногу приставь так, чтобы каблуком грохнуть! И козырни, будто у тебя нагайка на кисти висит. Понял? – наставлял лейтенант, – Семен Михайлович это любит. Звание свое назови, фамилию, потом непременно имя-отчество. Это для маршала обязательно. Такой у него порядок. Казак же! У них так было, говорят. Звание, фамилия, имя, отчество. Чтоб все сразу ясно: кто ты, откуда…, ну, сам понимаешь. К званию не прибавляй, что в НКВД служишь. Можешь сказать, если спросит, дескать, забайкальский округ, да скажи, что пограничный, а то запутаешь… Проверять станет, а ты не в военном округе, а в нашем… Про НКВД, однако, ни-ни! Он и сам все понимает… А главное, слушай его. Уши растопырь, глазами ешь.
Павел уже был напуган так, что стал даже жалеть о назначении. Оставался бы лучше в Забайкалье, а то ведь понесло следом за Германом Федоровичем в Москву! Тому хорошо! Сидит себе в академиях, науку учит, отдыхает…, а тут даже про НКВД нельзя! Почему нельзя-то? Зачем фуражку поменяли? Все остальное-то осталось! Не по форме же!
Тарасов не знал, что в начале лета за Буденным пришли как раз в таких фуражках. Он выхватил шашку и прорычал: «Ну, черти! Кто первый!» Это было дома у него, он даже в наусниках выскочил к непрошенным гостям, а на даче, за городом, история якобы повторилась, только маршал выкатил в окно «максим» и дал прицельную очередь. Попал, конечно. Стрелял он славно, с тачанок еще в Гражданскую. И любил он это громкое и очень приятное дело всей своей мятежной душой! Рассказывают, что позвонил самому Хозяину и заорал: «Коба, контрреволюция! Живым не дамся!». И еще говорят, что кто-то пожаловался Сталину на грубость этого неотесанного казака. А тот ответил со смехом: «Молодец, Семен! Так вас и надо!» Отстали от маршала, потому что Сталин, как будто, прибавил: «Этот дуралей не опасен!»
Так ли все это было или нет, неизвестно. Возможно, это выдумки всё, потому что такие же слухи ходили еще об одном не очень известном комдиве, слушателе академии Генштаба. Тот тоже, вроде бы, из пулемета обстрелял чекистов, а те два часа пролежали в крапиве у него на служебной даче, не смея поднять головы. Обе стороны кое-как добились мира и надолго разошлись. Потом его все равно взяли, уже после войны. И расстреляли. Такое не забывается, разумеется. Обидно же! Приходишь за человеком, а он стреляет. Ведь первым должен по всем правилам ты стрелять, а не он.
Однако такая легенда ходила и о маршале Буденном. Она была также устойчивая, как и название головного убора – «буденовка». То есть, кто придумал, кто сшил, неизвестно, а вот на чьи головы ее надели, и кто командовал этими лихими головами, знали все на собственной шкуре.
Правда, в армии знали, что так называемые буденовки были сшиты еще накануне Первой мировой для лейб-гвардейских полков Его Величества, вместе с ними шили и длиннополые шинели с особыми, фигурными петлями и с высокими, остроконечными манжетами, с небольшими воротниками, зато с широкими отлогами на груди. Но роскошные шинели и остроконечные мягкие шапки, по форме напоминавшие шлем, с узкими матерчатыми козырьками и с застегивающимися на две пуговицы либо на макушке, либо на шее, ушками, по какой-то причине не были введены. То ли их мало было, то ли посчитали не ко времени переодевать армию. Однако склады эти в конце концов достались в восемнадцатом году Буденному. Очень ему пришлась по душе эта удивительная военная мода, не имевшая ничего общего с тем, что носилось до этого. На шлем нашили звезды и с тех пор эти головные уборы стали называть буденовками.
Такая же история была и с грубыми кожаными куртками, которые сначала носили командиры в кавалерийских частях, а потом разобрали чекисты. Куртки эти еще до войны шились для летного состава русской армии, а также для техников, инженеров и некоторых офицеров в бронепоездах, в артиллерии и в колесных броневых частях.
Тарасову все это когда-то, еще на первой неудачной охоте, рассказывал Герман Федорович.
– Нет ничего нового, – усмехался он, – все взято из прошлого и заново перешито. Идеи, правда, новые…, да и то лишь в той их части, которая касается революции. Да и то, скажу тебе по секрету, у французов это еще в прошлом столетии все было и даже в позапрошлом… Я не об одежде…, я об идеях. У нас они заново обдуманы, перекроены по-своему и вот ведь сидят как новенькие! Идеи опять же… Да и песни те же – Интернационал, марсельеза… Слова переписали, своего добавили и вот ведь…поются! Да еще как поются! Флаг тоже… Ничего не ново под луной, Паша!
Павел тогда так и не понял, посмеивается ли над всем этим Герман Федорович или просто рассуждает вслух. Он ведь тогда был хоть и старше Павла, но тоже еще не старый, не умудренный годами человек. Было похоже, что он переосмысливает чьи-то чужие слова. Павел тогда подумал, что Герман Федорович нередко встречался с одним очень пожилым человеком, когда-то бывшим начальником штаба военного округа, кажется, с Крыловым. А этот старик Крылов якобы до этого служил еще при царе и даже преподавал в какой-то академии в Петербурге историю военных походов или что-то в этом роде. Он и подтолкнул Германа Федоровича к учебе в Москве. Возможно, оттуда, от него у Германа Федоровича эти странные мысли.
Но сейчас Тарасова все это не интересовало, как тогда, в Чите. Лейтенант НКВД, сопровождавший его, крепко напугал всеми своими напутствиями.
Павла от волнения и тряски тошнило. Наконец, еще какой-то мост и вот впереди Штаб Московского военного округа, а справа, похоже, комендатура. Уж больно много там машин и суетливых красноармейцев. Да и несколько молодых комвзводов покрикивают, пинками разгоняют и без того расторопных служивых.
Эмка въехала во внутренний двор штаба округа, в котором стояли под парами три черных, лаковых, огромных лимузина, с длиннющими капотами и таким количеством начищенного хрома, что его хватило бы, по мнению Павла, на шесть двухведерных самоваров.
– Запоминай, Тарасов, – повернул голову водитель с двумя макушками счастливчика, – Это вот авто Семена Михайловича. Все три. Он их никому не уступает, как и своих лошадей. Всегда работают, чадят. Он не любит, когда конь не волнуется, а техника не дымит и не разогрета. Говорит, паровоз на то и паровоз, чтобы пар из трубы валил, а так это груда металла. Автомобиль для него тот же паровоз.
Он подумал немного и отрицательно покачал головой:
– Неа! Не паровоз, а конь! Железный конь, вот что для него автомобиль. А потом уж паровоз.
Павел густо покраснел, потому что окончательно понял, что тут уже деваться ему некуда. Когда ехали, думал, что какая-нибудь случайность на дороге и все пойдет вспять. Но теперь впереди была только задняя дверь в углу двора, узкая лестница за ней, длинный изогнутый коридор и, наконец, огромная, светлая приемная маршала. Была еще парадная лестница, с набережной, но на нее таких как он не пускали.
В приемной маршала за четырьмя столами, похожими по размерам на ворота в крестьянском дворе, сидели двое ладных, франтоватых командира-кавалериста, даже со звонкими шпорами на отливающих антрацитовым блеском сапогах, пожилая сухая женщина с седым плотным коком на макушке, похожая на старорежимную учительницу, был здесь еще и пустой стол. Перед женщиной стоял чугунный, огроменный «Ундервуд», который настойчиво конкурировал со звоном звездочек шпор и даже с молодцеватым грохотом подкованных, словно лошадиные копыта, сапог. Этот «ундервуд» с его старой, проверенной пулеметчицей, как сразу окрестил ее Павел, мог бы соперничать даже с «Максимом», а не то, что со шпорами и каблуками. Грохота от него было столько, что казалось, будто тут самый что ни на есть революционный штаб где-нибудь в Царицыно и усатый атаман Первой Конной раздает свои боевые приказы, которые его верная «пулеметчица» переносит на бумагу, пробивая железными знаками и буквами ее невинное, белое тело, словно пулями.
Со стен свисало под углом несколько крупных картин, написанных маслом. Был тут и Сталин во френче, с погасшей трубкой, склонившийся над картой, и Ленин в кресле с развернутой газетой, и какие-то военные, смотрящие на одном из полотен друг на друга с гордостью, с молодцеватым достоинством, перед ними также, как и на картине со Сталиным, стелилась карта, чуть загнутая на углу, а за спинами, в небольшое приоткрытое окошко заглядывал светлоусый кавалерист в буденовке чуть набекрень, смеющийся, даже как будто подмигивающий. Павел успел заметить, что смотрит этот веселый боец на военного с широкой грудью и угадывающимся солидным брюшком, в зеленом френче, с огромными черными усами, с двумя боевыми орденами на красной подложке. Этим военным мог быть только сам Буденный. Рядом с ним стоял с карандашом в руке, крепко задумавшись, Ворошилов, тоже в зеленом френче, а еще один из военных определенно был похож на Фрунзе. Был там еще кто-то, но Павел не успел тогда его рассмотреть. Главным в картине все же был откровенно восхищенный взгляд веселого кавалериста, направленный на Семена Михайловича. Вот увидишь бойца и сразу переведешь взгляд на Буденного, а остальных только потом станешь разглядывать.
Лейтенант исчез так незаметно, что Павел, оглянувшись вокруг себя, вздрогнул. Но сначала они вдвоем вошли в приемную, и навстречу им поднялся невысокий, но кряжистый, крепкий, кривоногий комполка, один из тех двух командиров в антрацитовых сапогах и со шпорами. Он грохнул подбитыми каблуками, звякнул звездочками шпор и как будто даже прислушался к этой дивной музыке. На лице его эти звуки отразились привычным удовольствием. Лейтенант что-то быстро, негромко доложил ему, тот солидно кивнул и легким движением руки отпустил чекиста. Тот незаметно исчез, и Павел именно тогда и почувствовал себя совершенно одиноким, брошенным. Кривоногий медленно обошел замершего Тарасова и, удовлетворенно хмыкнув, хлопнул его ладонью по плечу:
– Жить будете на территории штаба, тут у нас есть своя небольшая казарма, довольствием и всем, что полагается, обеспечим. Оружие получите. Пограничник?
– Так точно, товарищ комполка.
– Говори, полковник. Так лучше. И Семен Михайловичу больше нравится. Сейчас я тебя ему представлю. Да ты не трясись, Тарасов! Батя у нас казак с понятием, хоть и горячий. Ну, так казак же!
В это мгновение огромная двойная дверь, на которую только теперь обратил внимание Павел, разлетелась в стороны и грохнулась металлическими ручками о стены. Из нее ядром вылетел невысокий, полный военный, немолодой уже, но еще и не старый. Он не удержался на ногах и животом, расставив руки, полетел вперед, прямо под ноги обомлевшему Тарасову. За ним выскочил, будто преследовал врага в конной атаке, распаленный, в распахнутом кителе, в белой, мятой рубахе, с горящими глазами, с подрагивающими тяжелыми брылами в мелких красных прожилках и с неестественно пушистыми черными усами известный всей стране казак. Это он был на картине, правда, там в его темных глазах были умная ирония, мудрость во всем его облике и почти монументальный генеральский покой в фигуре.
– Я тебя в окопах сгною, белый недобиток! – орал усатый казак, – Ты у меня вшей кормить будешь! Учить вздумал маршала! Отца учить, как мамку любить! Пошел вон!
О каких окопах орал Семен Михайлович, Павел не мог понять. Он даже подумал, что пока сюда ехали, началась война. Самураи, наверное! Он только таких врагов знал, потому что почти два года они были очень близко от него. И ими постоянно пугали командиры.
Буденный вдруг остановился, уперся кулаками в бока и, покривив шею, уставился бешеными глазами на Павла. Ноги в генеральских бриджах, с лампасами, с сияющими, как у командиров в приемной, сапогами были широко расставлены и походили либо на две кривоватые колонны, либо на ноги памятника – такими они были надежными, крепкими.
– Это что еще за молодой Чапаев! – вдруг строго потребовал немедленного ответа маршал.
– Это, Семен Михайлович, сержант Тарасов, Павел Иванович, из приданных, так сказать, сил…для охраны. В нагрузку к Пантелеймонову и Рукавишникову. Вот тут, с ружьем…, как у Ильича было, – спокойным, ровным голосом доложил полковник в шпорах, как будто на полу перед ним не валялся всклокоченный человек в расхристанной форме. Он указал широким жестом на дверь, около которой должен теперь стоять на посту сержант Тарасов.
Маршал мгновенно сменил в своих темных глазах гнев на искреннее любопытство и неспеша стал обходить кругом Павла. Когда круг этот завершился, а тот, что все еще лежал на полу, у самых ног, живенько вскочил и бросился в дверь, Буденный, не обращая на него ни малейшего внимания, заглянул Павлу в глаза, снизу вверх, хотя и сам был человеком не низкого роста.
– Каковский?
– Из крестьян, товарищ маршал, – едва не закашлявшись, ответил Павел и вытянулся в такую напряженную струнку, что чуть было не зазвенел.
– Из каковских?
– Тамбовские мы, товарищ маршал. Виноват…
– Кто виноват? – Буденный картинно нахмурился, стрельнул глазами, усы грозно разъехались в стороны, еще больше распушились.
– Я виноват, товарищ маршал Советского Союза…
– Ну, ну! А ты того не знаешь, казак, что есть и другие, по более тебя, виноватые. Слыхал?
– Виноват…, – голос Павла дрогнул. Такого с ним еще не случалось. Даже в драках, даже тогда, когда три жигана хотели вспороть ему живот на пустой дороге. А тут ноги ослабли, затряслись. Ведь какая легенда перед ним стоит, уставив руки в боки и топорща усищи! Да еще спрашивает, слыхал ли он о том, кто поболее Павла, его отца и дядек виноват в том, что случилось в тамбовских степях много лет назад.
– Опять виноват! – Буденный вдруг негромко рассмеялся и привычно провел указательным пальцем по усам, взад-вперед.
От этого тихого смеха Павлу вдруг стало легко и даже самому захотелось засмеяться. И так это было неудержимо, что он не сумел подавить улыбку.
Маршал вдруг резко обнял его за плечи, чуть привстав на цыпочках.
– А ну-ка, казак, отвечай, какое у тебя образование?
– …семь классов, товарищ маршал Советского Союза…, виноват…вообще-то четыре, но я помогал учителю…и училке…то есть учительнице, уроки вел у самых младших …иногда, конечно… Вот мне и написали – семь классов. А так…четыре.
– Я же говорю – молодой Чапаев! И тот учителем был. Грамотный. А! Ну, служить у меня верой и правдой будешь? Не предашь, как другие?
Павлу впору было грохнуться на колени и взмолиться о пощаде. Но у него лишь наполнились густыми слезами глаза, словно расплавленным горячим стеклом. Руки вздрогнули, сжались пудовые кулаки.
– Но, но! – Буденный как будто в шутку опасливо отодвинулся и тут же уважительно пощупал один из кулаков, что был поближе к нему, – Это я так…положено спрашивать… Ну, вот, словно девка! Сейчас и разревется! Кого присылают!
Еще немного и он бы опять вспыхнул гневом. Но, увидев, что у Павла действительно уже дрожат губы, вдруг ласково и нежно улыбнулся:
– Вижу, не предашь! Хоть ты и ихний, но раз погранец, значит, почти наш.
Он повернулся к полковнику и гаркнул:
– Поставить молодого Чапаева на довольствие, как положено… трехлинейку ему, новую, со штыком, и с завтрашнего утра на пост…здесь!
Маршал почему-то указал пальцем себе в ноги. После этого он, оттолкнув Павла плечом, устремился в распахнутый створ двойных дверей своего кабинета. Из-за стола, что был ближе к дверям, выскочил еще один военный, в чине, который Павел от волнения даже разглядеть не сумел, и торопливо прикрыл за спиной маршала тяжелые створки дверей. Этот был молод и худ, с аккуратной, глянцевой стрижкой, синеглазый, с усиками «ниточкой» под тонким, длинным носом. В портупее, ремне, и тоже в сияющих сапогах и со звонкими шпорами.
С этого и началась в самом конце 1937 года служба Павла Тарасова маршалу с героическими усищами. С этого же дня тот стал именовать его «Молодой Чапаев» и никак иначе. Это многих удивляло – и ростом он для Чапаева велик, да и вообще, как будто, совсем ничего общего. Но маршалу, как известно, это лучше знать.
5. Маленький человек
Маша долго привыкала к мысли, что у нее теперь есть любимый человек. Всё казалось, как будто поезд идет, идет, станция за станцией, но все равно рано или поздно придет на конечную, а там вагоны расцепят, паровоз угонят в депо, вот и вся дорога! Вот и вся любовь!
У Маши был лишь один опыт телесной любви с мужчиной. Ей он показался очень неудачным, даже страшно неинтересным. Может быть, поэтому хотелось перепроверить себя или, возможно, его, первого. Тот был старым маминым знакомым по какой-то прошлой работе, хоть был и значительно моложе ее. Как-то пришел к ним на Ветошный (Маша тогда еще в последнем классе школы училась), выпивший, какой-то грустный, подавленный. Мамы не было, но Маша впустила его, потому что неудобно было оставлять за порогом «старого», как ей казалось, человека. А ему было то не больше тридцати семи тогда. Как вышло, что они оказались в постели, Маша так и не смогла вспомнить. То ли уступила по той же причине, по которой впустила, из неудобства или из жалости; то ли от любопытства, что такое происходит у взрослых и старых людей между собой; то ли потому что испугалась его настойчивости, а возразить не посмела. Было не больно, а как-то очень неловко, до тошноты неприятно. Потом произошло что-то совсем уже неясное, слабое, с мгновенным замиранием сердца и со сразу наступившей после этого досадой. Он пьяно пыхтел, от него дурно пахло изо рта, из подмышек, откуда-то снизу, из межножья. Маша подумала, что у него и с мамой такое, наверное, бывает и очень ее пожалела. Но позже мама страшно удивилась ее вопросу о том, было ли что-нибудь эдакое у той с этим человеком. «Да как же можно! – вскричала мама, – Он же гадкий!» И тут же встрепенулась: «А у тебя, у тебя было!» Мамины глаза тут же налились горячей тревогой, готовой вырваться через горло истошным криком. «Нет, нет! – торопливо запричитала Маша и переселила себя, чтобы не отвернуться и тем самым не выдать свою ложь, – Что ты такое говоришь! Он же старый! …И действительно гадкий!» Мама с недоверием покосилась на нее и беспомощно поджала плечами. Больше этот человек к ним никогда не приходил и о нем никто ни разу и не вспомнил. У Маши никаких последствий от связи с ним не наступило.
Так вот теперь она хотела бы знать, так ли бывает со всеми мужчинами или только вот с такими – старыми, смердящими водкой и потом. Ее снедало жгучее любопытство, готовое перерасти в почти неприличное нетерпение. Она очень боялась себя выдать (почти как тогда в разговоре с мамой), потому что даже тайное ожидание «этого» от Тарасова казалось ей оскорбительным по причине его преждевременности. А в глубине души понимала истинную суть того оскорбления: «А как откажет! А как оттолкнет! А как посмеется над ней!»
С Павлом они вновь встретились только уже в конце января 1938-го года, в лютый мороз. Павел сам пришел на Ветошный, с промерзшим насквозь тортом в руках, который купил в коммерческом.
Он сначала долго ходил по переулку, расспрашивая жильцов, где живет молодая женщина Маша с болеющей матерью, ему боялись отвечать, махали руками, выталкивали за двери, хлопали ими перед носом.
В самом центре столицы от этого ветхого райончика веяло жалкой нищетой, какая бывает там, где рушится уютное прошлое, а на смену к нему приходит зыбкое, дырявое настоящее. И это «зыбкое» сразу не умирает, а волочит свои дни мучительно долго, оставаясь не то горькой памятью, не то даже упрямым укором настоящему.
В одной из таких нищенских квартир пьяный небритый тип неопределенного возраста даже обложил его матом:
– Мать твою…чтоб ей…уж и днем ездят! Мало им, чертям, по ночам шляться! Пошел на хер! Торт взяли и думают людей обмануть! На-ка выкуси, морда твоя наглая!
– Послушник он бывший, в монастыре еще тут жил…, – с извиняющейся улыбкой объяснил в соседней квартире старичок профессорского вида в потертой меховой душегрейке и в узбекской тюбетейке на почти лысой, облезлой голове, – Спился! А ведь был приличным человеком, образованным. Некогда в медицинском даже учился, да вот решил постричься, это еще перед мировой … Но принять постриг не успел…, революция, гражданская…, голод потом… Эх-хе-хе! Видите, молодой человек, как в жизни бывает! У него младшего брата увезли в четверг, на прошлой неделе, ночью почти… Арестовали, учинили обыск …, книги на улицу выкинули… Вроде, он заговорщик…, с тайным духовенством как будто был связан… А этот вас за энкаведешника принял с пьяных глаз, вот и ругается.
– А что брат? Действительно враг?
– Кто ж его знает, – старичок вдруг стал серьезным, забубнил что-то себе под нос и тоже стал прижимать дверь перед самым носом Павла, – Сейчас разве разберешься? Раз пришли, так, видимо, за дело… Выселять нас хотят, а он очень даже недоволен был, мол, монастырское общежитие здесь когда-то было, и врачи тут тоже жили, это, дескать, их с братом законное место. Ругаться ходил, жаловался, бумаги писал… Хоть и молодой…двадцати четырех лет, а злой… Справедливости все искал, дурак! Тоже в медицинском учится…на Пироговке, на последнем курсе. У них и батюшка врачом был, а уж дед, будучи молодым хирургом, так еще в Крымскую кампанию в войсках, говорят, даже Пирогову ассистировал… К самому Льву Николаевичу вхожи были, после Крымской… Ночевали у него даже, у графа Толстова, батюшка их, и дед… Там ведь Пироговка рядышком с его, графа, московским имением… Так что, вы на него зла не держите…, нервы все это…и водка… Раздражение…видите ли…, молодой человек…