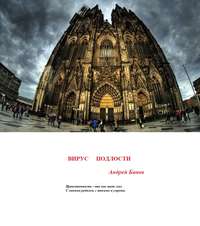Полная версия
Тихий солдат
Павлу почему то припомнились его слова о том, что любой полководец скажет, будто нет крепостей, которые нельзя взять. Именно поэтому, дескать, не существует полководцев, которые бы сказали, что есть крепости, которые можно удержать.
Вот и он не удержал свою крепость, взяли ее и всех ее обитателей.
Маша умоляла Павла быть тише воды, ниже травы, не спрашивать никого и ни о чем, даже ее. Однажды она пришла с работы и сообщила, пряча глаза, что уезжает еще на какую-то учебу в Хабаровск, к той, дальней, границе. Теперь якобы надолго. А Павел может жить в Ветошном переулке, у нее, только не водить никого сюда.
Сначала говорили между собой о том, что надо бы расписаться, а то как-то странно живут. И соседи ухмыляются, и, наверное, доносы кто-то строчит на Машину службу. Хотя, кто знал, где она в действительности служит? Видели иной раз в форме НКВД, да и всё. Но кто хотел, считал Павел, найдет, куда писать.
Маша, вздыхая, покачала как-то головой:
– Пока не надо, Паша… У нас с этим теперь строго. Начнут копать – кто да что… А у тебя там тамбовщина в крови… Сам понимаешь… Пока не проверяют, вроде бы все в порядке, а копнут, непременно придерутся к чему-нибудь. Я-то знаю, как это бывает! Да и Германа Федоровича на западную границу отправили, в стрелковый корпус. Заступиться теперь некому. Его ведь самого вызывали уже, расспрашивали обо всех. Он экзамены в академии сдал и сам же напросился подальше. А тут ведь обязательно копать начнут – почему он тебя из Забайкалья взял, как в охрану к маршалу попал, почему других арестовали, а ты вот остался… А у меня ведь сейчас как раз учеба… Это не совсем по линии кадров, Пашенька. Я тебе сказать не могу, понимаешь? Особенное дело… Так что лучше бы обождать пока. Ты живи у меня. Вроде как квартирант. Я уж и оформила это, в домоуправлении. По запросу, как будто, из кадрового отдела.
Павел сначала загорелся обидой, запыхтел недовольно, но посмотрел на Машу пристально и всё будто бы разом понял. Она не столько себя, сколько его берегла. Начнут вокруг нее пространство расчищать и не перед чем не остановятся. Все окажутся лишними. Может быть, даже и Герман Федорович, которого он с тех пор так ни разу и не видел.
Так Павел остался на Ветошном один. Раз или два поздней ночью, изголодавшись, приводил женщин, но страшно себя за это корил, ругал и утром пораньше буквально выгонял их. Всё боялся, заметит кто-нибудь, донесет Маше, и что тогда будет! Даже подумать страшно!
Она же писала очень редко, раз в два месяца. Намекнула, что учеба закончилась и теперь служит там же, в округе. Но не в кадрах, как будто уже. Однако говорила, что это временно, а потом все равно вернется обратно к своим старым обязанностям, в Москву. Спрашивала о порядке в квартирке, о том, сыт ли, не стал ли выпивать. Он только посмеивался, потому что голод его не мучил, а к пьянству всегда относился плохо – организм не принимал крепкого спиртного, выворачивало всего наизнанку. Многие даже издевались – мол, как девица. Здоровый, крепкий, а выпить по-мужски не умеет. А он не принимал этого и не любил. Вот природа и выталкивала из него все лишнее.
9. Москва
В августе 40-го года Буденный стал первым заместителем наркома обороны, получил еще один орден, очередное подарочное оружие, ему заменили автомобили на новые, расширили квартиру в правительственном доме на улице Грановского, а в довершение ко всему, со всей своей челядью переехал в новое служебное помещение почти там же, только в другом корпусе.
Павел теперь стоял на часах без винтовки, прямо в приемной, у двери. Главной его обязанностью было – обыскивать посетителей и смотреть, чтобы лишние сюда не прорвались. Потом должен был вернуть оружие и не дать задерживаться в приемной ни на секунду больше. Было тоскливо. Но он привык, хотя чувствовал, что тупеет от этой привычки и что Буденный не стал его теперь замечать, проходил мимо, как будто он мебель какая-нибудь или даже простой табурет. Но Павел все равно помнил о том, что именно он его спас, оставив на том холодном заводе под Ленинградом в 39-м.
Незаметно минуло полгода: капризная зима с бесконечными оттепелями, долгая, слякотливо-морозная весна и началось долгожданное лето.
Пришло очередное письмо от Дарьи из Лыкино. Оно несколько успокоило Павла, который не давал себе покоя за то, что так и не поехал туда. Дарья написала, что мать вдруг пошла на поправку, стала есть, даже подняла немного в весе. Вдруг вспомнила о нем, хотя по-прежнему совершенно безразлична ко всему. Болевшая якобы корью сестра Серафима давно выздоровела, но новый врач Аверьян Петрович, который теперь работал в амбулатории на станции Прудова Головня взамен старого доктора Виктора Меркуловича, авторитетно заявил, что не было тут никакой кори, а действительно время от времени возвращалась холера. Все дело было в отравленных этим страшным вирусом колодцах во всей округе. Дарья спрашивала, приедет ли, наконец, к ним Павел. Но он до такой степени уже отдалился от них, так давно привык к их незадачливому общению лишь посредством писем друг другу, денежных переводов и посылок (с его стороны), что и думать не желал о поездках и встречах. Он страшно себя пытал иной раз – а может ли так жить человек, чтобы не иметь теплых чувств к матери или к сестрам. Они ведь ничего дурного ему не сделали, а он сам – их кровь и плоть. Но переселить себя, зажечь хоть каким-нибудь состраданием, не мог. Этот холод его самого пугал, но и успокаивал – тепло он должен был сохранять не для прошлого, а для настоящего и будущего. А их он вычеркнул тогда из своего сердца, когда шагал в распутицу к станции Прудова Головня и навсегда отрывался и от Лыкино и от них.
Но все эти его переживания и беспокойства растаяли без следа, когда они могли стать лишь незначительной частью очень большой, очень общей беды. Тут уж никак не могло быть хороших или плохих сыновей и братьев, а могли быть лишь хорошие или плохие воины, имевшие, по убеждению Павла, только одну мать на всех – Родину, и одного отца – Сталина.
Война началась также внезапно, как и ожидалось всеми. Странное чувство! Это как первые месячные у девушки-подростка – ждут непременно, вот-вот, а приходят нежданно-негаданно. Именно так сказал Стирмайс, постоянно ухмыляющийся начальник личной охраны Буденного. Он всех не любил, всем не доверял. И самому Буденному, думал с раздражением Павел! Но тут он точно выразился, хоть и крайне неприятно. Стирмайс вообще очень настораживал, даже пугал своей холодностью, злой насмешливостью во взгляде. Даже война показалась сначала не страшнее его.
Маршала сразу назначили командующим группы войск резерва Ставки, немедленно после ее образования. Сидел там же, где и всегда, но постоянно гонял в войска. Опять заблажил о нужде в кавалерии, но его не слушали. Какие лошади! Людей кормить скоро станет нечем! И где взять вагоны для перевозки с юга? А тут немцы почти сразу тот юг отрезали, нещадно бомбили железную дорогу. Шли они бойко во всех направлениях. Не успевало радио сообщить о том, что где-то идут упорные бои, как тут же появлялись знающие люди, рассказывавшие о том, что те места давно уже сдали, что наши войска пропали, либо находятся в окружении, либо даже полностью разгромлены. Появились на улицах раненые, в бинтах, хромые, на костылях, в драной, грязной форме, потерянные. Было множество невыспавшихся, небрежно одетых военных всех возрастов, даже старики, седые, с петлицами лейтенантов, с наспех нашитыми шевронами командиров взводов и рот. Они шли к вокзалам с серыми котомками за плечами или, порой, с фибровыми чемоданчиками, без оружия, хмурые, усталые. Вокзалы стали особенно строго охраняться, в залы ожидания пускали только по специальным пропускам.
На улицах, во дворах бесились от нечаянной радости войны одни лишь дети – им все было нипочем, всё вело к захватывающим дух приключениям, которые были бы невозможны в мирное время. Они нередко отрывались от родителей, уменьшившихся по количеству вдвое почти в каждой семье, и бежали на пока еще далекий фронт целыми классами или большими романтичными группами. Их ловили, возвращали обратно, отправляли в специальные детские приемники, но они бежали и оттуда. Однако нервная эйфория первых недель войны вдруг увяла, люди заметно сникли, посерели лицами. Москвичи впервые увидели беженцев – оборванных, голодных и одиноких. Московские дети, уверенные в том, что немцам нужно лишь умело сопротивляться, а для этого достаточно позволить им, смелым и решительным, взяться за оружие, столкнулись на улицах со своими же сверстниками, прибывшими оттуда, куда они так горячо рвались. Это отрезвило всех, не меньше, чем участившиеся бомбежки. От романтики войны не осталось и следа.
Город как будто засыпал, уползал в свои бесчисленные подвалы, испуганно жался к стенам домов. Город дичал той особой дикостью, которая свойственна любой цивилизации, внезапно обнаружившей свою полную беззащитность перед обстоятельствами, выходящими за искусственные (как вдруг оказалось!) рамки всякой цивилизации. На первое место властно выходили все грязные и, в то же время, естественные человеческие пороки, которые по-существу и оказывались главным врагом цивилизации. Притихшее наконец, неестественно повзрослевшее, сильно проголодавшееся за какие-то пару месяцев городское детство, более всего свидетельствовало о растерянности беззащитного и одинокого среднего человека перед бесстыдным парадом его истинной природы. А в той природе были и страх, и голод, и опасение получить меньше других, когда всего не хватает, и недоверие к себе подобным, и пугающее неверие в то, что те, кто сюда рвутся, вообще являются «подобными».
Магазины опустели, обнищали, стыдливо прикрылись сначала тяжелыми чугунными решетками, а потом многие и вовсе перестали открываться. По городу, поджав живот, хромал, точно раненый солдат, голод. Не хватало врачей, пожарных, милиции, слесарей, мусорщиков. Зато в огромном количестве появились крысы – серые, жирные, озлобленные. Видимо, было не до них, никто не уничтожал их, не боролся с их растущей не по дням, а по часам популяцией; вот они и почувствовали себя хозяевами дворов и брошенных домов. Люди шепотом говорили, что это и есть первая примета того, что город будет сдан. Так, мол, было всегда и везде. Это тоже отрезвляло. А общая трезвость замораживала любое романтическое чувство и любую надежду посильнее самого лютого мороза.
Павел это ощущал очень остро, потому что его прошлое в нищем Лыкино как будто разом вернулось к нему и расширилось до пределов огромного города, даже до масштабов целой страны. Он впервые стал думать о том, что все беды рукотворны, что они не имеют географических границ, а постоянно сопровождают всякого человека, и достаточно лишь дать волю его природе, как варварство тут же одолевает все вокруг себя, и его самого в первую очередь.
Все это не удивляло лишь стариков и тех, кто был лет на пятнадцать старше Тарасова, потому что они еще помнили и Первую мировую, и гражданскую войны, и послевоенный голод, и насильственную коллективизацию, и бандитизм, и всеобщее отчаяние. Немцы, которые упрямо расползались по стране, были лишь отвратительным внешним поводом для того, чтобы в каждом проснулась его природная суть. Скрепить, сковать эту животную суть, загнать ее в узду надприродной воли и было самым главным, самым важным теперь, что могло обеспечить победу над чужой армией.
Операция «Тайфун», которую немцы разворачивали уже с конца сентября, заходила в эти и во все последующие дни в свою самую драматическую и опасную стадию. Целью операции была Москва. Город чернел и вымирал, на восток тянулись обозы, ползли эшелоны; массовая эвакуация в Среднюю Азию, на Урал, в Сибирь, на север России шла уже полным ходом.
Москва уже с вечера 14 октября бурлила страшными слухами о том, что власти решили сдать ее врагу. С улиц окончательно исчезли милиционеры, зато появились развязные уголовники, которые почти открыто грабили магазины и лавки. На улицах и на выездных дорогах люди били партийных чиновников, застигнутых во время бегства из города со своим небедным домашним скарбом. Оказывается, приказ о выводе из города всех ценностей и секретных документов, поступил еще накануне вечером, 14 октября.
В грузовиках возили по городу взрывчатку и закладывали на заводах, фабриках, под мостами и даже в каких-то центральных гражданских учреждениях. Холодный ветер гонял по улицам ворохи бумаг, среди которых были и те секретные, что приказано было либо уничтожить в огне, либо вывезти. Но многие чиновники, и крупные, и мелкие, хватали лишь собственное добро и выталкивали с ним на восток из столицы свою родню.
Павел однажды видел на бывшей Владимирке, как выбросили из черной «Эмки» семью какого-то районного партийца, и тут же в машину втиснулось человек пять или шесть с чемоданами и свертками. Но «Эмка» не прошла и сотни метров, как ее вновь остановила разъяренная толпа. Только двое успели выскочить из нее, остальных же не выпустили, а так и катили с крыши на колеса, с колес на крышу под развороченную недавним взрывом насыпь железнодорожных путей. Потом машина вспыхнула, оттуда дико заорали люди, но пламя, бушуя, заглушило всё. Мимо пронесся с воем переполненный состав, на котором гроздями висели черные и серые человеческие фигуры. Вагоны опасно раскачивались на осевшей насыпи, затянутой вонючим дымом от горящей «Эмки». Во все стороны летели, словно пули, острые камни.
Энкаведешники вдруг разом притихли в городе. Рушилось все, что казалось незыблемым до войны. Горели довоенные плакаты, вальяжные портреты вождей с самоуверенными, гладкими лицами. Тарасов видел однажды, как кто-то худой и озлобленный, в длинном сером макинтоше, прямо в переулке вблизи Лубянки жег огромный, праздничный портрет самого Сталина. Сердце ёкнуло, бухнуло в груди, но даже он, большой и сильный, вооруженный человек, не посмел вмешаться. Не потому, что боялся, а потому, что не знал в тот момент, верно ли это, не поделом ли тем, кто, казалось, уже упустил столицу. Потом он корил себя за то, что отвернулся, считал это непростительной трусостью со своей стороны, почти предательством. До смерти своей, пришедшей много позже, в середине девяностых, Павел морщился от тех воспоминаний, гнал их от себя, как стыдный сон. Ему всегда казалось, что это самое большое душевное зло, которое он допустил, самая черная грязь, налипшая на нем, и это несмотря на то, что тогда впереди его ждали тяжелейшие разочарования и беды. Но в тот момент, в те несколько октябрьских дней, все казалось другим.
Метро вдруг заперли 16 октября. Это напугало людей более всего, потому что теперь спрятаться от бомбежек было негде. Кто-то уже в отчаянии ждал немцев, смиряясь в душе с их приходом: «ведь Европа давно уж унижена, а что же мы!» А кто-то решил, что самое время пожить в угаре день-два за счет брошенного добра. Одни лишь бежавшие втайне считали себя счастливчиками. И в то же время по существу глубоко несчастными, потому что бросаемое ими на произвол судьбы прошлое, когда-то и составляло всю их мирную жизнь.
На улицах вдруг опять, после небольшого перерыва, появились старшие школьники и студентки, худенькие, слабенькие, с винтовочками в упрямых цыплячьих руках. Они вновь будто играли в войну (но уже не так, как в первые дни – со слепой романтикой приключений) – оборудовали мешками с песком и брошенной мебелью огневые точки, ложились за ними, как в окопы, и ждали в самом центре помешенного от паники города захватчиков. Военные все еще держались на ближайших фронтовых подступах к Москве. От них сейчас зависело, сколько раз успеют пальнуть в немцев мальчики и девочки, не бежавшие из столицы.
Павел с отчаянием думал тогда о том, что если и Сталин уедет и увезет с собой всех своих людей, то немцев уже никакими силами не сдержать. Они торопились, предчувствуя раннюю зиму и понимая, что в голом поле или в бескрайних лесах им не выдержать русских морозов, о которых в Германии ходили легенды. Да и эта осень выдалась уже необыкновенно холодной, с ранним, колким снежком, с ледяным дождем.
Павел много позже размышлял с удивлением, что если бы не природа, вставшая на сторону русских, все могло сложиться еще хуже.
Штаб Буденного все это время сидел в Москве, там все время внимательно смотрели сводки, выезжали с инспекциями в войска, орали матом в трубки на железнодорожников, которые из Сибири никак не могли пропустить без задержки эшелоны с людьми и с вооружением для Резервной армии.
А немцы тем временем стремительно приближались к Москве.
Маша давно уже перестала писать, будто исчезла совсем. Павел беспокоился о ней, отправлял на ее адрес короткие письма, но не получал ответов. Он решил, что ее обучили там, очень далеко, в Хабаровске, какому-то серьезному, секретному ремеслу и теперь используют за линией фронта. Он стыдился, что сам находится в тылу, что его служба не сопряжена с риском, с опасностью, как будто он прячется, ищет и находит себе теплое местечко, а она там, она воюет вместо него, молодого и сильного мужчины. Павел еще с августа стал настойчиво проситься на фронт, написал три рапорта, один за другим, но ему только показывали глазами на дверь. Как-то раз маршал впервые за долгое время буркнул ему строго, идя мимо:
– Сиди, молодой Чапаев, тут! Еще постреляешь…
Еще в середине сентября Тарасова вызвали в управление кадров и спросили, не хочет ли он в московскую милицию, на оперативную службу? А то, мол, есть нужда: в городе уголовщина. Дескать, если согласится, то они перед маршалом за него похлопочут. Все же, сказали, это дело боевое, важное!
Павел растерялся, не зная, что ответить, а вечером того же дня его вдруг срочно по приказу Буденного отправили в Котельники для сопровождения инспекторов наркомата – нужно было отфильтровать и разместить пришедший наконец из Новосибирска эшелон с людьми. Но во время выгрузки в двух сотнях метрах от платформы (там застряли два эшелона с продуктами и лекарствами) начался мощный налет авиации, сибирский эшелон полностью разбомбили, очень многие погибли. Досталось и тем двум эшелонам, находившимся под разгрузкой.
Над путями вился хоровой стон десятков раненых, как будто кто-то задел высокую струну в огромном струнном инструменте и она резонировала в раскаленном воздухе. Куски окровавленного человеческого мяса повисли на проводах, на столбах, тела буквально разметало по шпалам и по оплавившимся рельсам. Людей убивало все, что было внезапно поднято бомбами – и вывороченные бесформенные куски металла, и свернутые буквально в жгуты с острыми концами обрезки тамбурных лестниц и вагонных перил, и вдруг превратившиеся в мощные снаряды обломки бревен и шпал. Многие пытались укрыться под горящими вагонами, но осколки и мелкие камни с путей, разбрасываемые взрывами с чудовищной силой, метко доставали их и там.
Павел почти сразу получил ранение в левое плечо небольшим горячим осколком, но и довольно тяжелую контузию. Он запомнил лишь могучий взрыв где-то далеко в стороне и тут же ощутил острую боль под шеей, слева. Потом этот взрыв как мячик вдруг подпрыгнул (так ему показалось), осветился бордовым пламенем и что-то необычайно тяжелое рухнуло ему на голову. Он растянулся на развороченных путях, приподнял голову и тут же ясно решил, что это на него упало целое небо. Но оно не задержалось на гулкой земле, а вновь отскочило вверх, будто оттолкнулось, и рухнуло где-то совсем близко, оттуда истошно закричал мальчишеский голос и тут же пропал. Павел изумленно смотрел в низкий дымный потолок над собой, пронизываемый светом какой-то яркой, оранжевой лампы, и вдруг увидел, как с этого потолка прямо к нему, вниз хищным, острым носом, несется громадная черная птица. Она заливается яростным огнем и выбрасывает из себя черные яйца, которые рассыпаются вокруг и сразу расцветают огромными цветками.
«Это не птица! – со спокойным удивлением подумал он и попытался приподняться, чтобы лучше разглядеть стремительно падающую на него тень, – Это самолет! Сейчас – конец! Вот, оказывается, каким он должен быть! Батя не любит чертову технику именно поэтому! В ней нет души…, только железо! Другое дело кони…»
Вдруг стало так тихо, словно в уши забили вату. Но эту странную тишину откуда-то издалека, расширяясь и усиливаясь, прошил высокий звук, который казался острой раскаленной иглой; игла впилась в мозг и стала сверлить его непереносимой болью, как будто тонким сверлом. Сознание рухнуло в удушливую, тошнотворную темноту, разящую пережаренным мясом и дымом.
Он пришел в себя на носилках, около развороченной станции. Вокруг сновали люди и что-то кричали, но он не мог различить их голосов, потому что голова гудела, как колокол, по которому с чудовищной силой ударил тяжеленный язык.
Первое время в ушах стоял лишь этот звон, переросший на следующий день в низкий, надоедливый самолетный гул, в глазах противно двоилось, нестерпимо болели затылок и левый висок. Даже после того, как постепенно восстановилось зрение и слух, боли еще несколько месяцев внезапно возвращали его к той страшной бомбежке в Котельниках. Он ясно видел в своих кошмарах распятые взрывами тела, вывороченные внутренности, распахнутые глаза, в которых стоял смертельный ужас. А главное – падающую прямо на него черную птицу, выпрастывавшую из своего злобного нутра маленькие, твердые яйца. Это видение перечеркнуло для него все то, что он потом принял от войны. Так и осталось ее единственной, безобразной картиной.
Павел уже будучи зрелым человеком, пережившим много горя на фронтах, в холодных окопах, в дремучих лесах, в госпиталях, именно из-за этого считал, что война на самом деле видится не глазами солдат, а – глазами всех тех, на кого падали черные птицы и сыпались из них твердые смертоносные яйца.
Одиннадцать дней провалялся Тарасов в военном госпитале на Госпитальном валу. Из-за этой бомбардировки его перевод в другое ведомство, хоть тоже находившееся во внутренней системе НКВД, окончательно отменился.
Павел вернулся на службу с тугими бинтами под гимнастеркой на левом плече и со стягивающей повязкой вокруг головы. Буденный, увидев Павла на посту в своей приемной, покосился на него и со значением хмыкнул. Павлу вдруг показалось, что глаза его смеялись, рассыпая чертей во все стороны.
Маршал остановился, посмотрел себе под ноги, крутанул ус и выдавил сквозь зубы:
– С боевым тебя крещением, казак! Жить, значит, будешь долго.
На следующий день один из новых адъютантов, невысокий, полный майор, шепнул ему, что Буденный подписал на него приказ на медаль «За боевые заслуги». Павел знал, что их вручали за Халхин-Гол и на финской кампании, видел их у многих. Теперь такая же будет у него. Он растерялся, потер повязку на голове:
– Так я ж просто… под бомбежку попал…, там же все так… Меня шарахнуло и всё, а осколок немного порвал плечо… Я ж ничего не успел даже!
– Что значит, просто! – возмутился адъютант, вскинув ко лбу небольшие карие глазки, – что значит, «все так»! Там что же, все из личной охраны маршала Буденного были? Или только один ты, Тарасов? Тоже мне, скромник нашелся! Бери, когда дают…
В самый разгар московской обороны, в конце октября 41-го, вдруг появилась Маша. Они сумели увидеться лишь несколько раз дома на Ветошном. Маша, обнаружив почти зажившее уже ранение Павла, прижалась к нему и заплакала.
– Ничего, Машенька, ничего! Это все чепуха…, – шептал он, целуя ее в виски, в щеки, во влажные глаза, – Это всё ничего! Там народу, знаешь, сколько побило! Я, …как бы это… в рубашке родился… Врачиха в госпитале так и сказала! И Семен Михайлович говорит…боевое крещение, мол, жить буду теперь долго! Медаль даже вот дали… А напрасно…, я ведь ничего не успел даже. Вот ты как? Где ты-то была? Ну хоть что-нибудь скажи…, родная моя!
– Готовили меня…, туда…в тыл к ним, понимаешь? В отряд… Учили…, я очень старалась… А они меня назад, в Москву. Говорят, я тут нужнее … Может, не доверяют, а? Семь пятниц у них на неделе, честное слово!
И все же через несколько дней она вновь уехала из Москвы – эвакуировались дела главного управления кадров НКВД, их увозили сначала в Куйбышев, а потом еще дальше – в Челябинск. Маша отвечала там за что-то очень важное и секретное.
Пришло письмо от Дарьи из Лыкино. Оно было необычно лаконичным, почти как телеграмма. Она написала лишь то, что все же сестра Серафима отдала богу душу от воспаления легких (видимо, так и не оправилась после тех своих болезней), а мать положили в лечебницу в Тамбове с новым диагнозом «шизофрения». Она хмурая, серая, нелюдимая, никого не желает узнавать и никого не помнит.
Павел на этот раз даже не ответил сестре письмом, а только пошел на почту и отправил ей денежный перевод, написав в уведомительной телеграмме лишь несколько слов: «Извини, Даша, что так и не еду. Не до того. Береги себя и двух оставшихся сестриц. Кланяйся матери. Павел.»
Внутренняя, семейная скорбь Павла и не умолкающие совестливые упреки в его холодности к родным, растворялась без остатка в общей скорби, обхватившей страну и каждого в ней.