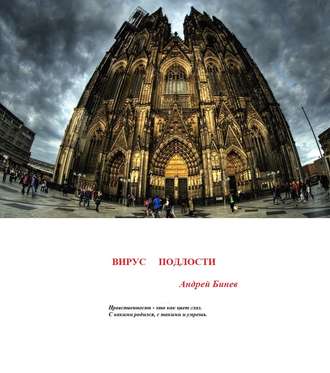
Полная версия
Вирус подлости
Полицейский с удивлением повертел в руках паспорт.
– Это что?
– Дипломатический паспорт, – надул губы Саранский, – Разве не видите?
Штайнер не торопясь переписал имя и фамилию невысокого суетливого человека в свой блокнот, потом внимательно, неторопливо рассмотрел водительскую лицензию и на всякий случай спросил:
– А страховка у вас есть?
Саранский с раздражением, прерывисто вздохнул и достал из портмоне, которое всё это время держал в руках, полис. Но Штайнер только покосился на него и даже не стал брать в руки.
– А кто в машине? – упрямо продолжал он «давить» на Саранского, пригнувшись и всматриваясь через лобовой стекло в салон.
– Моя супруга! – с обидой в голосе воскликнул Саранский.
– Я ее знаю, господин полицейский, – подтвердил Постышев, – Мы виделись несколько раз в Вене.
Вили Штайнер вернул Саранскому паспорт и лицензию и, будто что-то вспоминая, обвел глазами толпу. Он сделал круг около сидящего на асфальте Постышева и почесал ручкой бритый затылок.
Постышев и Саранский не спускали с него напряженных глаз. Они вдруг вновь, как и прежде, до венских событий, соединивших и разъединивших их, почувствовали себя союзниками. Так бывало с людьми даже во время непримиримых гражданских войн, когда противники оказывались в руках у третьего, общего для них, врага, и вдруг чувствовали между собой близкое родство противоположных полюсов. Это удивительное, трогательное и теплое ощущение! В этот момент и понимаешь, что рожден с тем другим, кого готов был только что разорвать на куски, одной матерью и одним отцом. Если бы такие мгновения продолжались подольше, и оба полюса успевали бы привыкнуть к этому необыкновенно родственному чувству, то вернуться к вражде было бы уже для них противоестественно. Но третья сила, их общий враг, как правило, взяв свое, исчезает, и – вновь оскал на злобных лицах братьев.
Так вышло и на этот раз.
Полицейский лихо вскинул к козырьку каски два пальца правой руки – безымянный и указательный и, развернувшись на каблуках своих мягких сапог, исчез в толпе, за которой оставил свой мотоцикл. В тишине взревел мощный мотор и сизый, пахнувший почему-то парфюмом, дымок пробился между ног и тел стоявших людей к все еще сидящему на дороге Постышеву.
– Во запах! – восхищенно, но очень уж ни к месту заметил Саранский, – Это у них бензином называется! Хоть после бритья им душись! У нас вонь, так вонь! Что у одеколона, что у бензина! Ядреное оружие, понимаешь! Разбаловались они тут, Вадик, я тебе доложу!
Толпа вокруг испарилась в это же мгновение с такой скоростью, словно ее выдуло ветром так же, как и дымок от полицейского мотоцикла. Саранский и Постышев заоглядывались вокруг себя и тут же почти испуганно уставились на длинный, молчаливый ряд машин. Андрей Евгеньевич быстро подставил Вадиму руку, пыхтя и покрываясь густой, напряженной краской, помог тому подняться, и оба, хромая и раскачиваясь из стороны в сторону, подползли к автомобилю Саранского.
Лариса Алексеевна, наконец, выскочила из машины, придерживая рукой голландскую вазочку, суетливо распахнула перед извивающимся от боли Постышевым заднюю дверь и помогла ему, стонущему и закатывающему к небу глаза, провалиться внутрь машины.
Оба, Андрей Евгеньевич и Лариса Алексеевна, торопливо вернулись на свои места, громко хлопнули дверцами, и тут же, как только включился зеленый свет светофора, машина сорвалась с места.
Автомобили, стоявшие за ними, медленно потянулись следом. Тот водитель, который выставлял знак аварийной остановки, теперь уже поспешая, свернул его, кинул в багажник и влился на своем голубом, веселеньком «Фольксвагене» в общий поток таких же, как и он сам, дисциплинированных и серьезных людей.
К доктору!
Первое время ехали молча. Андрей Евгеньевич поднимал к зеркалу заднего вида тревожные глаза, а потом скашивал их на Ларису Алексеевну. Их косые взоры встречались под тупым углом где-то между ними, почти на идеальной прямой, и тут же разбегались в стороны.
Постышев кривился от боли, тяжело вздыхал и посматривал в глаза Саранскому в зеркало заднего вида с откровенной ненавистью. Саранский панически убегал глазами и, спустя несколько секунд, все же поднимал их на зеркальце с опаской, воровато, словно подглядывал за чей-то интимной жизнью.
Наконец, Саранский нарушил молчание очень неуместно:
– Рад тебя видеть, Вадим Алексеевич!
– Чего! – возмутился Постышев.
– Я имею в виду, – смутился Саранский, – Не было бы счастья, да несчастье помогло!
– Тоже мне счастье – тебя встретить! – ухмыльнулся Постышев и тут же поморщился от боли, – Где там твой коновал! Вези скорее, мочи нет!
– Так едем, едем! – засуетился Саранский и опять ляпнул неуместное:
– А вы с моей Ларисой Алексеевной почти, можно сказать, родня!
– Как это! – одновременно, в унисон сорвалось у Ларисы и у Вадима.
– Так ведь тезки по отцам! – прыснул Андрей Евгеньевич.
– А! – раздраженно протянул Вадим Алексеевич и отвернулся к окну.
– Скажешь тоже, Андрюша! – почему-то кокетливо, несмело, порозовев, произнесла Лариса Алексеевна. Она впервые за всё время поездки обернулась к Вадиму Алексеевичу и как-то очень понимающе и сочувствующе улыбнулась ему. Постышев вздрогнул и быстро закивал. Ему стало неудобно за свое пренебрежительное «А!».
Столь незначительный, беспомощный повод, однако же, возымел свое неожиданное действие, и напряжение вдруг спало, сдулось. Так бывает в природе – грозно наморщилось небо, потемнело всё кругом – вот-вот явит себя буря, разразится ураган, сорвется с небес всё сметающий водопад, но вдруг вместо всего этого, смертельно страшного, закапал невинный дождик, мелкий, нестрашный. И тяжелые, свинцовые тучи неожиданно расступились, мелькнуло чистое, светлое небо и страх смерти отступил надолго. Всего лишь дождик, а не ливень, всего лишь легкий ветерок, а не смерч. Небо сжалилось над землей и продлило ей жизнь.
Вскоре в одном из ближайших западных кёльнских пригородов показался за невысокой каменной оградкой уютный домик под острой зеленой крышей. Он был почти игрушечным, будто сделанным по описанию сказочника. Не доставало только милых, славных человечков с островерхими, как крыша домика, шляпами, доброго мелкого песика с голубеньким бантиком на шее и серебряного колокольчика над резной дверью.
– Вот, Вадим! – с облегчением произнес Саранский, – Вот тут этот доктор-пивовар и живет.
– Это тот, который «сволочь незабываемая»? – вдруг добросердечно рассмеялся Постышев и тут же застонал от боли в ноге.
– Он самый! – испуганно ответил Саранский и остановил автомобиль капотом к низким деревянным воротам, окрашенным серой, безликой краской.
В белый столбик, на котором держались с одной стороны ворота, а с другой – калитка, была буквально влита зеркально-латуневая табличка: «Доктор медицины Арнольд Арнольд Арнольд».
– Их что трое? – сквозь боль рассмеялся Постышев, – Братья, что ли?
– Один! – довольный произведенным эффектом ответил Андрей Евгеньевич, – Зовут Арнольд, второе имя…, не то по отцу, не то по деду со стороны матери Арнольд, и фамилия у них – Арнольд. Вот и выходит – один человек: пивовар и доктор.
– Человек-пароход! – усмехнулся Постышев, – Товарищ Нетте!
– Кто? – удивился Саранский.
– Да так! Никто! Глупость сморозил! – опять простонал Вадим, – Господи, Андрюша, тащи меня скорее к своему человеку-пароходу, к этому коновалу-пивовару! Мочи ж нет никакой!
Саранский необыкновенно обрадовался панибратскому «Андрюше» и тут же, причитая что-то, выскочил из машины. Он сам распахнул ворота, быстро вернулся за руль и, чрезмерно, от волнения, выжав газ, въехал во двор. Передний бампер со звоном опрокинул тачку, противно хрустнула правая фара.
– Черт! – воскликнул Саранский, – Одна беда не ходит!
– Да черт с ней, с твоей фарой! – возопил от уже не унимающейся боли Вадим, – Скорей давай! Сдохну сейчас! Наверное, перелом у меня все-таки! Надо было в больницу!
Саранские выскочили из автомобиля, осторожно подхватили Постышева и бережно буквально поднесли его к невысокому крыльцу парадного с деревянной дверью и ромбовидным окошечком на уровне глаз. Рядом со ступеньками была аккуратно накатана на подъем к двери бетонная дорожка. Серебряный колокольчик на шнурочке здесь все же был – трогательный, сказочный, наивный. Сквозь растущую боль в ноге Постышев подумал словно в бреду, что сейчас к нему выскочат трое низкорослых Арнольдов в островерхих шляпах, с белыми ватными шкиперскими бородками и в очках в золоченой оправе.
– Видал, – потея от напряжения, проскрипел Саранский, – Даже тут порядок: дорожка для инвалидов-пациентов, для подъема продуктов в тележке и вообще… Еще бы тачки убирали со двора, сволочи! Цены бы им не было! Как я теперь эту фару оформлю? Всю плешь проедят в посольстве хозушники чертовы! Плати теперь свои!
Андрей Евгеньевич бросил через плечо взгляд в сторону своего автомобиля, но расколотой фары не разглядел и даже подумал, что она так, если на нее не смотреть, пожалуй и сама «вылечится». Вроде как и нет ничего! Но потом подумал, что такое само не лечится и неприятности все же будут. Всё это пронеслось в его голове галопирующим бредом и было прервано вдруг распахнувшейся дверью парадного. На пороге стояла средних лет сухая дама в белом переднике на аккуратном черном из глянцевого лаке халате и в белом же кокошнике. Она без слов подхватила подмышки Постышева, мягко выдавив в сторону плечом Ларису Алексеевну, и все разом оказались в довольно широкой прихожей, с небольшим лифтом с открытой, без дверей, кабиной. Около лифта. Словно в ожидании Постышева, стояло инвалидное кресло на крупных, тонких колесах.
– Сюда, господа! – решительно распорядилась дама и сама же осторожно усадила в кресло стонущего, побледневшего Постышева.
Дама обернулась к Саранскому и к Ларисе Алексеевне, смерила их изучающим взглядом и спросила высокомерно:
– Доктор Арнольд с вами договаривался о визите?
– Нет! – заболтал головой Андрей Евгеньевич, – Мы же не знали, что к нам под колеса попадет этот…этот товарищ…, герр то есть…
– А полиция! – подняла взволнованно к верху брови дама в кокошнике, – Герр…м-м-м…
– Саранский, герр Саранский! – услужливо, скороговоркой подсказал Андрей Евгеньевич, – Имею честь, советский дипломат…, журналист… Да вы же знаете, фрау Лямпе…
– Да, герр Саранский! – продолжала высокомерно фрау Лямпе, – Мы будем вынуждены сообщить в полицию о вашем визите. Это ведь вы сами и сбили на машине этого несчастного? Не так ли?
– Он сам…, сам под колеса полез! – неожиданно зло ответил ей Андрей Евгеньевич и метнул в Постышева ненавидящий взгляд, который и не собирался теперь смягчать.
Всё напряжение последних получасов вдруг взорвалось в этом взгляде, в охрипшем голосе, в скрипе зубов. Но если бы фрау Лямпе знала, что и кроме злосчастной аварии и лопнувшей фары, у герра Саранского были основания не любить герра Постышева, то она не стала бы сейчас блестеть на него возмущенным взглядом, а отодвинулась бы на всякий случай подальше от него.
– Господи! – возопил по-русски Постышев и отчаянно изогнулся в кресле, – Да везите же меня скорее к вашему пивовару! К доктору! Сдохну же сейчас!
Фрау Лямпе вряд ли что-нибудь поняла, но как выглядит пораженный болевым шоком больной, она знала хорошо.
– Едем! Едем наверх! – воскликнула фрау Лямпе и ловко вкатила кресло со стонущим, бледным как побеленная стена, Постышевым в кабину лифта. Ей даже удалось развернуть там кресло лицом к Саранскому и к растерявшейся Ларисе Алексеевне.
Лифт вздрогнул, тихо, ровно взвыл электрическим своим организмом и мягко, без толчков, пополз кверху. Когда в пределах видимости оставались лишь стройные, чуть тоньше, чем следовало бы, ноги фрау Лямпе в непрозрачных, плотных чулках, колеса кресла и неестественно изогнутые ноги Постышева с разорванной, грязной штаниной на одной из них, фрау Лямпе выкрикнула:
– Поднимайтесь наверх по лестнице, герр Саранский! И не вздумайте исчезнуть!
Но Андрей Евгеньевич исчезать и не собирался. Его изворотливый, пластичный ум подсказывал ему, что из этой дурацкой аварии, пожалуй, можно и даже нужно (!) извлечь позитивное начало. Жаль только фары! Но тут – сам виноват! Суетится не надо!
Кивнув молча жене и подтолкнув ее под локоть к узкой винтовой лестнице в глубине прихожей, Саранский усмехнулся своим мыслям: все-таки нет ничего такого уж до конца случайного в жизни, нет ничего непредопределенного, ничего поверхностного! Всё уже давно расписано на какой-то далекой, непостижимой, гигантской доске, как план работ небесной канцелярии, всё рассчитано и размечено, лишь только ждет своего часа, и тогда включается механизм с неотвратимостью часового детонатора.
Хорошо бы это знать заранее всякого рода «невозвращенцам», диссидентам, беженцам и беглецам: когда-нибудь наступит час расплаты, и будет та расплата ужасна своей неотвратимостью и бесстрастностью. Тогда, может быть, и меньше стало бы тех, кто поднимает свою гордую голову над серой массой и, негодуя, ищет встречи с взором того, кто этой массой управляет, кто ее замешивает и подпекает. Это взор Горгоны! Окаменеет всякий, кто посмеет пренебречь правилами, не им установленными.
Тонкий расчет судьбы: ехала машина, шел человек…
Венский розыгрыш
Саранский вспоминал тот последний день, в Вене, не без содрогания. Его будоражили не только размытая уже канва событий, но и въевшееся в память острое чувство рисковой игры. Это как воспоминания о далекой, забывающейся мелодии: ее нотного ряда не воссоздать, а сладостные ласки слуха и души помнятся так отчетливо, что живут уже сами по себе, как самостоятельное произведение ума.
Распоряжение Полевого необходимо было выполнять, тем более, что тот уже доложил в Москву об этом специальным шифрованным письмом. Что он там «насобачил» Саранский не знал, как ни подкатывал к шифровальщику миссии – и с обещаниями, и с подарком, и с угрозами. Тот был безжалостен в своей профессиональной скрытности и также сер, как вся его затворническая жизнь за стальной непроницаемой дверью.
Оставалось одно – действовать так, как велел Полевой, но все же постараться разрушить его план какой-нибудь неожиданной, неидентифицируемой им мелочью. Вода спущенного с властных высот рукотворного потока должна была поменять русло и неожиданно обойти приготовленный для нее бассейн.
Пользуясь официальным позволением и даже планом агентурных мероприятий, сочиненным самим полковником Полевым, Саранский приехал домой к Постышевым. Утром, по расчетам Полевого, после вечерней провокационной беседы с Саранским, Постышев должен кинуться за помощью к американскому разведчику Вольфгангу Ротенбергу и попасться. Полевой уже даже представлял приблизительную схему беседы между предателем и вербовщиком – один клянчит, ноет, другой требует, презирает. И – карающий меч. Сначала отрубает одну голову, потом примеривается к другой, к третьей. И вот – великая справедливость восторжествовала! И себе во благо, и другим в пример!
С принципиальной идеей Саранский был согласен полностью, без оговорок, но с распределением ролей – ни в коей мере. Он сам хотел держать в своей деснице рукоятку карающего меча, а не стать его очередной жертвой. Вот тут у него были категорические расхождения с Полевым. Карать им, правда, он никого не собирался, но приятно было осознавать себя могучим героем с благородным мечом в натруженных руках. В Германии он не раз любовался на этот памятник – солдат в плащ-палатке, огромный такой, могучий, и меч острием к носку сапога, а в крепкой, мускулистой руке – немецкое дитя, доверчивое, трогательное. Сила, мощь, благородство, любовь, надежность. Он тоже так хотел – чтобы меч, чтобы мышцы, спокойный взгляд и дитя…, то есть тот, кого следует защитить. Это может и не быть дитём, это может быть взрослый человек или даже целая семья. Ну не на руке, конечно – всех не выдержать, если ты не памятник, а из костей и мяса соткан, но загородить собой, накрыть боевой плащ-палаткой – это возможно! Очень неплохо смотрится! Почти как в Трептовом парке.
А Полевой так не хочет. Он желает всё по-своему – никаких героизмов, никаких памятников! Что бы всё тихо, всё скрыто, всё тайком…
И главное – никакой пощады ни своим, ни чужим. С чужими сложнее – их еще надо обнаружить, разоблачить, а свои…, свои ведь всегда под рукой. А если их щадить, тогда и работы никакой не видно. Всё как в сказке – придумали чудище, его же, придуманного, перехитрили, а потом еще и простили. Так что было то? А ничего! Если же не щадить, а отрубить ему голову, этому придуманному чудищу, то в памяти у общества и останется красивая сказка: русский богатырь с мечом-кладенцом в одной могучей руке и с щитом в другой одолел врага.
Андрей Евгеньевич размышлял и над разницей в словах. Он их чувствовал, как музыку – во всех необходимых нюансах. Вот ведь – враг и недруг. Бессилие и немощь. Что точнее, что впечатляет больше.
«Скажем, враг, думал Саранский, это тот, кто за чертой – видимой, жирной. Его надо сразу идентифицировать, внести в черный список и всем показать. А недруг? Этот может быть ближе врага, до «черты», даже другом может быть, и всё равно он – недруг. Он хуже, он больше, он сильнее, потому что отрицательная частичка в начале его полностью, исчерпывающе перечеркивает корень – друг. С врагом можно заключить мир, временный, хитрый, но всё же – мир. С недругом – нельзя! Потому что и войны не развязывали, и списков не показывали никому, хоть они и чернее черного. Там уж не разберешь – где сказка, а где быль!
Также в бессилии и в немощи. Бессилие может быть от болезни, от усталости, а немощь – от злого духа, от рождения. Что хуже, что больше? Конечно – немощь! Так вот, друзья, бороться надо с недругом и с немощью, а они всегда близко к нам стоят, они на друзей только похожи, на усталых, приболевших друзей. Это они, подлые, за их родными шкурами скрываются. Волки в овечьих шкурах. Вот кто это!»
Но быть таким волком в овечьей шкуре, как того хотел Полевой, Саранский не собирался. Постышев другое дело – он и есть, по мнению Полевого, недруг и немощь, и его надо давить, как гниду. Но с какой стати туда же пришпилили и Саранского? И как теперь всё это разделить? Получается, загубить недруга – загубить и себя. Спасти недруга – спасти себя… Тут предательства никакого нет! Необходимая самооборона – не больше того! Если бы в один роковой ряд Саранского с Постышевым не поставили, то сказка бы сбылась – и меч-кладенец, и голова с плеч. Всё было бы! Но не теперь!
Русская история славна подобными коллизиями. Особенно, последняя, самая новейшая. Путаница из недругов и друзей. С врагами всё было ясно – они иностранцы, рождены далеко отсюда, говорят по-своему, верят в своё, в «ненаше». Их – в список и в Нюрнберг, на процесс! Тут всё ясно, всё справедливо. А вот с недругами, со своими, дело путалось. Они то по одну сторону черной, жирной черты, то по другую.
Именно так, должно быть, и было, когда Ягода из карателя превратился в жертву, и потом, когда та же судьба постигла Берию, Абакумова. Ведь каждого из них переигрывал последующий. Но то был – масштаб! Страна, держава, силища! А тут – всего лишь утонченная Вена, полковник Полевой, репортер Постышев и невесть кто Саранский. Но принцип, принцип-то везде действует один! Что для мухи, что для человека! Одна солнечная система, одни солнечные бури, одни и те же согревающие и испепеляющие лучи.
Андрей Евгеньевич, войдя в этот вечер, впервые, в нескромную служебную квартиру Постышевых, с любопытством огляделся. Всё имело тут временный, рутинный вид, словно хозяева и не намеривались жить здесь долго, а, напротив, ждали лишь распоряжения всё бросить и, собрав свои частные пожитки, переехать туда, куда укажут. Саранский даже подумал, а не прав ли Полевой, и так ли уж безобидно было его собственное сообщение о связях Постышева с Ротенбергом. От кого ждут вызова эти люди? Но Андрей Евгеньевич тут же отогнал от себя эту мысль, как абсурдную, потому что даже теоретически не мог себе представить, какого рода информацию для американской разведки должен был добывать корреспондент советского государственного информационного агентства за границей, на формальной и фактической территории того же врага. То есть почему это «наш» недруг спутался с «нашим же» врагом? Кому от этого польза в настоящих условиях? Это даже на детскую сказку не тянет. Действительно, абсурд! Ну, Полевой! Ну, прохиндей!
Из дальнего коридора, в конце которого угадывались комнаты, выскочила живая, раскрасневшаяся восьмилетняя девочка с задорными, упругими косичками и развязавшимися бантами. Она в растерянности остановилась у расширяющегося горнила коридора и, тяжело дыша, с любопытством посмотрела на Саранского. За ее спиной выросла тонкая фигура ее матери, большеглазой, черноволосой Тани. Она тоже запыхалась – видимо, они играли с дочерью во что-то очень подвижное и доступное в их огромной квартире.
Саранский растерянно шаркнул ногой и как будто виновато улыбнулся.
– Вот, – развел за его спиной руками Вадим, – Танечка! Неожиданный гость! Но мы ведь всегда рады! Правда?
Он тоже, словно извиняясь, искал черных глаз жены. Таня вежливо кивнула и мягко, тепло обняла дочь за плечи.
– Добрый вечер, Андрей Евгеньевич!
– Мда! – ответил Саранский.
В этот момент ему было совершенно ясно, что делать дальше. Возможно, впервые он почувствовал истинный укол совести за то, что сам же и явился зачинателем этой драмы, и еще он подумал, что полковник Полевой не просто законченный прохиндей и негодяй, но также и вредный для родины, для отчества дурак. Смять такого – благородное дело!
В душе Андрей Евгеньевич понимал, что тайно, очень тайно и к тому же очень поверхностно влюблен в Таню, в ее гладкие черные волосы, в ее тонкую длинную шею, в ее руки, пальцы, глаза. Это чувство проваливалось вглубь его, как только Таня оказывалась рядом. И тогда из поверхностного, необязательного оно становилось глубоким и горячим.
Саранскому не раз приходилось изучать на себе подобные ощущения с разными женщинами, и он считал это самым ценным из всех своих способностей чувствовать жизнь во всех ее тонких и трепетных проявлениях. И сейчас он испытывал восхищение даже не столько Таней Постышевой, чужой женой, сколько самим собой, надуманным, классичным образом благородного мужчины, в том его качестве, в котором он оказывался благодаря, правда, ей, тонкой, умной и нежной женщине. Это было странное чувство: тайная, волнующая страсть, обернутая словно отражение в зеркале иной стороной. Гармония ее внешних и внутренних тончайших, нематериальных, миазмов, живших лишь в его воображении, необыкновенная грациозность ее гибкого тела, томность ее глаз, изгиб губ, легкий лен ее негустых, но ровных, глянцевых волос отражались в этом невидимом зеркале и являли в конечном счете образ не той, что восхищала Андрея Евгеньевича, а, неожиданно, его самого – одаренного величайшей способностью оценить прекрасное и соответствовать, как ему казалось, его божественной высоте. Однако же он допускал мысль, что всё это лишь мечта, без которой нет жизни глубокому и тонкому человеку, которым он себя искренне считал.
Саранский отдавал себе отчет в уникальности этой женщины и в необычайности своего к ней чувства, полного бессильного, но в то же время изуверского эгоизма и сладкой волнующей сердечной боли. Таких, как она, на свете мало! Это – редкий психологический тип, феномен прекрасного пола. Потому и «прекрасного»! Свою приспособленность ощущать этот тип и ценить его, он оберегал ото всех более всего. Даже от себя самого! Вся его сущность наливалась благородством, искупая всё то, что в ней содержалось до этого момента и будет содержаться по его истечению.
При удачных обстоятельствах такая женщина могла бы, наверное, стать его женой. Но смог ли бы он удержаться на этом чувстве всю жизнь? Смог ли бы балансировать на тонком канате там, где для других, редких людей, это единственная плоскость жизни, и слететь с нее возможно только в небытие? Должно быть, нет. Не смог бы! Устал бы и озлился, наконец. Быт бы заел, голод, алчность, раздражение. Всё бы противилось в нем, потому что одно дело – тайно любить со стороны и мечтать о тонкости чувств; и совсем другое – дышать этим ежечасно, ежеминутно, и не сожалеть о том, не искать простых, ясных форм на стороне. Пусть грубых, пусть вывороченных наизнанку, но понятных, своих. Нет уж, лучше отдать всё мечтам, и любить утонченную женщину со стороны, играть перед ней и перед собой в умное, сильное благородство и заставлять ее саму тайно думать о себе, как о более надежном, более мужественном варианте существования нежели тот, с которым она тонко сочетается – с ее мужем.
К тому же его останавливала непродолжительность своих ощущений – стоило Тане удалиться с его глаз, как ему оставалась лишь душистая память о ней, а всё то, что должно было возбудить его, взорвать, растерзать ему душу, бесследно испарялось, будто она это носила с собой. Но она была его иконой, прекрасной, манящей святыней, имя которой – «ЖЕНЩИНА». Саранский искренне думал, что именно такой и должна быть любовь – платонической, неревностной, нежной, без ясных образов и без ясных мыслей.









