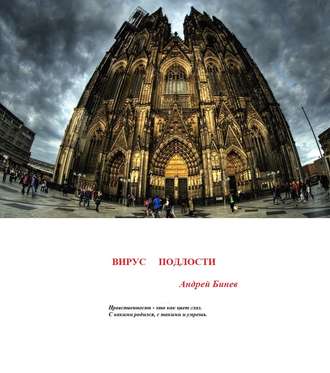
Полная версия
Вирус подлости
В определенном смысле это вполне могло бы стать сложным параметром в вычислении вероятности встречи на узком перекрестке бампера автомобиля Саранского и лодыжки ноги Постышева. Ну, кто бы мог подумать, что все эти тонкости так значительны!
Другим параметром должна была бы стать причина, по которой Постышев оказался именно на этом перекрестке, именно в эту минуту, и в эту секунду, то есть то, как он оказался в той плоскости и в том временном отрезке, создавшем объем их встречи.
Для этого следует вновь уйти далеко назад, оставив автомобиль и ноги медленно разгоняться навстречу друг другу. Иначе многое останется недосказанным, а значит – искаженным.
Венская партия
Первое упоминание нами имени Постышева было связано с тем, что именно он стал участником какой-то венской драмы, повлиявшей на отъезд Андрея Евгеньевича из Австрии в Москву на полгода. Он – а не «индустриально-уральский скандал»!
Всё дело было в том, что некоторые сотрудники советской миссии, облеченные особой привилегией подозревать всякого встречного поперечного во всех мыслимых и немыслимых грехах, как раз Вадима Алексеевича и заподозрили в шпионаже в пользу врага.
Уже потом, много позже, Саранский искренне удивлялся этому, потому что никак не мог понять, какой был смысл в вербовке врагом советского зарубежного корреспондента. Тот видел и знал даже куда меньше, чем видел и знал любой местный житель, а о своей родине, на которой он бывал не дольше двух отпускных недель в году, ему вообще ничего, кроме информации в газетах «Правда» и «Известия» с опозданием ровно на день, известно не было.
Однако же некий полковник Георгий Игнатьевич Полевой, возглавлявший секретную службу в советской дипломатической миссии, собрав своих лучших людей, заявил:
– По имеющимся оперативным данным, которые заслуживают доверия, журналист Постышев был подвергнут вербовочной операции со стороны противника, а точнее, американцев, и …дал слабину.
Все испуганно переглянулись, а полковник, высокий, седой, кряжистый мужик, победно оглядел своих сотрудников. Его взгляд красноречивей, чем любые слова, говорил о том, что всякий, кто «даст слабину» немедленно станет известен ему, как «давший» эту самую «слабину».
На том совещании присутствовал и Саранский. Он не являлся в прямом смысле сотрудником службы полковника Полевого, но по некоторым делам они вынуждены были общаться. Полевой не очень доверял тем, кто увлекался классической музыкой, ездил в оперу на концерты, и даже посещал выставки немецких модернистов и французских импрессионистов. Но обстоятельства, связанные с делом Постышева, вынуждали полковника, крепя сердце, пригласить на совещание и Саранского.
Дело в том, что именно сообщение Саранского о том, что на одном из органных концертов в кафедральном соборе и на выставке французских импрессионистов им был замечен Вадим Алексеевич с молодой женой в сопровождении мистера Вольфганга Ротенберга, известного в советских контрразведывательных службах как один из самых результативных вербовщиков Центрального Разведывательного Управления в Западной Европе.
Андрей Саранский и был тем самым источником «оперативных данных, заслуживающим доверия» Полевого.
Андрей Евгеньевич поначалу не придал своему сообщению серьезного значения, по той причине, о которой уже говорилось (ведь не пациенты же сумасшедшего дома главные вербовщики ЦРУ!), да и потому, что вряд ли вербовщик и объект вербовки будут демонстрировать свои связи так открыто. К тому же, ему было известно, что малолетние дети Постышевых и Ротенбергов (тоже, как и сам Саранский, официально аккредитованного в качестве репортера американского информационного агентства) ходили в один и тот же клуб «маленьких художников», и жены на этой трогательной почве подружились. Эта дружба не имела совершенно никакого отношения ни к репортерской работе Постышева, ни к шпионскому ремеслу Ротенберга. Бывает же такое – между собой дружат врач и больной, причем, врач этого больного в своих пациентах не числит, а больного пользует другой эскулап.
Но для порядка, просто, как говорится, для галочки, на безрыбье, так сказать, Саранский «сигнализировал» Полевому. Тот тут же ухватился за это и начал постепенно «окружать» Постышева. Он составил и утвердил аж в самой Москве план «профилактических и оперативных» мероприятий, направленных на спасение бессмертной советской души Постышева. Но тот, судя по его независимому поведению, уже переступил дозволенную границу и теперь углубился далеко в чужую чащу. Оперативная разработка разбухала до таких размеров, что должна была принести либо победу и награды ее автору, либо – провал и позор в глазах подчиненных, а также раздражение московского начальства. Тут почти в буквальном смысле – «пан или пропал»!
Сам Полевой при первом же прикосновении к делу Постышева понял, что ничего важного и тайного за «концертными и выставочными» встречами русского и американца немецкого происхождения (если судить по фамилии) не стояло. Но это ситуацию лишь обостряло и потому спуску не было ни тому, ни другому. А заварившим этот скандал Георгий Полевой с бычьим упрямством, и не без основания, считал «этого мозгляка» Саранского! Потому и настоял на его привлечении к операции и пригласил к себе на совещание, с которого должна была начаться финальная стадия разработки – то есть захват Постышева, разоблачение, арест и высылка под конвоем на Родину.
Андрей Евгеньевич всего этого в подробностях не знал, но был верным человеком системы, как принято выражаться до сих пор, и правила игры не только принимал всем сердцем, но и следовал им во всем, даже в мелочах. Иначе бы не удержался, не сумел бы стать полезным ни себе, ни начальству, ни родине… Если всё это, конечно, совпадет в целях.
Он понимал, что его избрали «подельником» полковника Полевого, как говаривалось в классово близкой уголовной среде. О классовой близости двух «сред» говорил не он, а сами чекистские власти еще в самом начале своего триумфального шествия по разбитой дороге русской истории. Андрей Евгеньевич рассудил так: лучше быть «подельником» Полевого в Западной Европе, чем Постышева на родине. Об этом же предупреждала и старая веселая энкаведешная пословица, когда в ней упоминалась тонкая разница между родственными понятиями «стучать» и «перестукиваться».
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Тургенев был прав, пожалуй! Саранский в этом убеждался постоянно – все же, он был по образованию журналистом, хоть и не смел поставить это в первый ряд своих обязательств перед державой.
– Вот что, товарищи! – закончил свой лаконичный доклад полковник Полевой, – Будем приступать к завершению, так сказать, нашей оперативной разработки, то есть позволим фигуранту Постышеву проявить свою преступную сущность, после чего изымем его из наших рядов, переправим вместе с семьей, второй по счету, между прочим, в СССР, и рекомендуем предать справедливому народному суду. Предателям и шпионам нет места среди нас!
Он победным взором окинул всех присутствующих, и отметил про себя, что никто не только не отвел глаз, но даже напротив – все, как один, преданно и ясно, буквально с утренней свежестью и чистотой (разговор ранним утром и происходил в здании миссии) прилипли к нему своими взглядами. На мгновение вспыхнули тревогой только глаза Саранского, который явно не ожидал такого разворота от своего старого, казалось бы, ни к чему не обязывающего сообщения о встречах Постышева и Ротенберга. Но опытный Андрей Евгеньевич мгновенно овладел собой и преданно уставился на Полевого. Но тому было достаточно, как истинному контрразведчику, и того мгновенного срыва. Он сразу подумал, что следующим звеном в разработке следует назначить самого Саранского. Тогда получится сложная, запутанная комбинация, которая позволит выявить многоярусную игру противника: сначала подкинули советской контрразведке малоценное звено в лице Постышева, а затем попытались проникнуть вглубь «наших национальных территорий» посредством хорошо подготовленного «крота», который и сдал своего дешевого агента для собственного, еще более надежного, внедрения в советскую разведывательную среду. То есть теперь речь шла о принятии Полевым оперативной жертвы противника, а именно – никчемного (это следует признать теперь с особым удовольствием и снять с себя за это всякую ответственность!) Постышева.
Такой поворот был неожиданным для всех, включая самого Полевого. Но он сулил столь высокие дивиденды, что отказаться от него у полковника уже не было никаких сил. Вот, что значит внимание, что значит школа! Один лишь взгляд, одна лишь вспышка! И не важно, что Саранский давно служит в общей с Полевым системе! Это всё ценные детали, которые лишь укрупняют и усложняют значение новой, грядущей разработки.
Полевой решил окончательно «переиграть» противника, войдя с ним в близкий, одуряющий все стороны, контакт. Поэтому он и принял следующее решение: оставить после совещания Саранского и поручить ему главную скрипку в изобличении его же жертвенного агента. В том, что всё это раскрытая им вражеская комбинация Полевой уже никак не мог сомневаться, иначе рухнет вся эта шаткая, новая конструкция.
– Вот так! – решительно заключил Полевой, отведя глаза от Саранского, – Оперативным группам внимать особенно пристально, фиксировать все передвижения фигуранта Постышева и членов его семьи, не спускать глаз с Ротенберга.
Дебют
Саранский ощутил опасность, которая подобралась к нему очень и очень близко. Как это он почувствовал сказать было невозможно, потому что работа человеческого мозга до сих пор остается одним из самых неизученных явлений мирового космоса, и никто не знает, откуда и по каким тайным каналам поступает к нам сигнал об опасности или, напротив, о возможности триумфально подняться над остальными особями. В этом, должно быть, суть репродуктивной политики природы биологических существ, гарантия их сохранения в своих самых сильных, самых жизнестойких формах. Андрей Евгеньевич внутренне собрался. Он с досадой на самого себя заметил, что на доли секунды стрельнул в Полевого тревожным взглядом. Теперь он быстро просчитывал в уме ситуацию. Саранский всегда умел ставить себя на место противника, а Полевой, конечно же, был противником, как и всякий, кто находился рядом с ним в узком конкурентном поле зарубежья. Все же Андрей Евгеньевич не зря увлекался сложной музыкой, в ее не всем понятным классических формах. Она всегда напоминала ему шахматную партию, которая, в свою очередь, по его убеждению, была одним из математических выражений музыкального ряда. В шахматы он вообще-то играл плохо, но всегда остро чувствовал драматичность дебютов. Как будет разворачиваться партия в дальнейшем он никогда не знал, но ее начало, ее первые ходы были особенно важны для него и особенно чувствительны. Саранский был одарен остротой ощущений, хотя сам и не мог быть противником опытного гроссмейстера, наверное, потому, что у него самого не хватало терпения и не было точности в предвидении. Он был сомневающимся и колеблющимся игроком. Однако же всё это было так близко к классическому музыкальному розыгрышу, что доставляло ему, человеку с совершенным, хоть и с непродуктивным музыкальным слухом, ни с чем не сравнимое наслаждение с первых же аккордов. Да еще в этом, профессиональном, случае – заостренное страхом!
Поэтому конечные для всех слова Полевого о том, что «товарищ Саранский останется на пару минут», им были восприняты так же, как явление шахматного дебюта. Партия начиналась! Но он с замиранием сердца понимал, что не сможет вынести достойно и терпеливо весь ее ход. Сердце сладко и со страхом замирало.
– Вам, Андрей Евгеньевич, как истинному инициатору разработки, отводится основная роль! – уклоняясь от всякого возражения, решительно заявил полковник Полевой прямо в глаза Саранскому, когда они остались вдвоем.
– Что? Не понял вас…, как еще роль?! Вы о чем, собственно? – начал разыгрывать свой дебют Андрей Евгеньевич.
– Я говорю, товарищ Саранский, – еще более решительно и теперь уже даже несколько мрачно, супя брови, настаивал Полевой, – Не далее, как завтра, вам придется встретиться с Постышевым и сообщить ему в доверительной форме, что он изобличен и что вот-вот за ним захлопнется мышеловка.
– Зачем! – теперь уже искренне, с внутренним ощущением того, что его собственный дебют трещит по швам, захлопал глазами Саранский. Краска покрыла его щеки, лоб, оставив бледным и холодным лишь нос.
– А затем, что Постышев будет вынужден активизироваться и призвать на помощь все свои внутренние ресурсы. Мы это зафиксируем и тут же его захватим, вместе с семьей.
– А со мной как? – струсил Саранский, совершенно забыв на какое-то время про свой «дебют».
– А с вами так: вы останетесь на своем месте и войдете в оперативный контакт с Ротенбергом …после изъятия фигуранта Постышева. Пусть он теперь рассчитывает только на вас, как на новый разведывательный источник. Мы его разработаем, так сказать, в близком бою. Деваться то ему уже некуда будет!
Саранский с облегчением вздохнул – он еще не утерял нюх; он сразу раскусил ходы Полевого, а значит дебют не провален. До чего же всё примитивно! Он, что же, принимает Саранского за круглого идиота!
– Отличная идея, Георгий Игнатьевич! – как можно искреннее воскликнул Андрей Евгеньевич, – Гениально!
Он благодарно, прочувственно блеснул влажными глазами, немало удивив этим Полевого.
«Неужели он действительно такой идиот? – почти с удовольствием, в унисон мыслям Саранского, подумал полковник, – Ну, тогда туда ему и дорога! Надо бы уже сегодня прицепить к нему группу наблюдения. Если и «срисует» ее, то подумает, что это входит в наш с ним общий план. А потом результаты наблюдения можно будет использовать так, как заблагорассудится! Пожалуй, скажу ему о группе. Это всем облегчить задачу».
– Мда! – глубокомысленно изрек Полевой, – Спасибо за оценку моих скромных способностей! Кстати, для вашей же безопасности приставлю к вам оперативное наблюдение. Так что, вы не смущайтесь, пожалуйста!
«Еще бы, – решил Саранский, – беспроигрышный ход. Результаты наблюдения лягут в основу новой разработки, а то, что он ее начинает, теперь уже никаких сомнений, а это значит, что, если она выгорит в его пользу, то я пропал, а если нет, то мы оба молодцы – всё предусмотрели!»
– Пожалуйста, Георгий Игнатьевич! Я ведь сам хотел вас об этом просить, – Андрей Евгеньевич сначала даже испугался, что переигрывает, но, искоса, со скрытой тревогой посмотрев на полковника, понял, что тот уже слишком убежден в своей проницательности, чтобы заметить что-либо тревожное за противником.
Так и расстались в убеждении, что партия почти состоялась – Полевой в самоуверенном удовольствии от этой мысли, а Саранский – в заботах о предстоящем развитии удачно начатого дебюта.
Кёльнская «катастрофа»
…Бампер автомобиля мягко толкнул препятствие в виде лодыжки пешехода. Это случилось по вине и водителя, и пешехода: они оба засмотрелись друг на друга, разинув от изумления рты, и забыли, что одному следует притормозить, а другому увернуться.
Бурлящая возмущением толпа собралась на почти безлюдном перекрестке даже быстрее, чем переполошенный, густо покрасневший Андрей Евгеньевич выскочил из-за руля своего автомобиля. Его супруга сидела ни жива, ни мертва, прижимая к груди только что купленную в магазине голландскую бело-синюю, как русский гжель, вазочку.
Андрей Евгеньевич всегда поражался, откуда на безлюдных западноевропейских улочках вдруг в одночасье образовывается активное, шумное, решительное гражданское общество. До этого его не было ни видно, ни слышно, как и дорожной полиции. Но стоило лишь возникнуть даже незначительному поводу, как оно нарождалось наподобие снежного кома, катящегося с горы, и заполняло собой всё цивилизованное пространство. Возглавляла его в подобном случае как раз та самая невидимая до этого полиция в лице строгого, непоколебимого в своем стремлении к корректности и справедливости стражи западноевропейского порядка. Надо заметить, что после исчерпывания события, это общество и полиция таяли даже быстрее, чем тот же ком, причем не оставляли за собой и лужицы. Удивительная, раздражающая стерильность!
Однако до исчерпывания дорожной ситуации еще было слишком далеко: перед капотом автомобиля Саранского с советскими дипломатическими номерами растерянно сидел на заду Вадим Постышев и тер руками ушибленную левую лодыжку.
– Товарищи! – с отчаянием возопил Андрей Евгеньевич, выскочив из машины и кинувшись к Постышеву, – То есть господа! Не беспокойтесь! Мы – свои! Мы русские! Всего-навсего русский сбил русского! Даже только толкнул! Слегка! Это наше внутреннее дело! Мы – советские! Дружба! Германия – СССР! Дружба!
Он зачем-то поднял над головой сцепленные в замок руки. Толпа отшатнулась так, будто сейчас этим самым замком он обрушится на голову ближайшего немца или даже несчастной жертвы аварии. Откуда-то взявшийся полицейский мотоциклист в крагах, в каске решительно раздвинул широкими плечами притихшую общественность и загородил собой сидящего на асфальте Постышева.
За машиной Саранских немедленно образовалась спокойная, терпеливая пробка. Один из водителей в конце ее, серьезный, вдумчивый мужчина с плотно сжатыми в розовую полоску губами, вышел из своего тщательно промытого, небесно голубого «Фольксвагена», неспешно открыл совершенно пустой, чистый, как хирургический стол, багажник, извлек оттуда яркий и праздничный, словно ёлочная игрушка, знак аварийной остановки, точно отсчитал шагами десять метров за своей машиной и аккуратно поставил знак на дорогу. Уже перед знаком стали дисциплинировано тормозить и немедленно гасить двигатели водители следующих машин. Каждый на этой улице, в этом городе, в этой стране, а, возможно, в этой части континента знал, что делать и какое место занимать в возникшей нестандартной ситуации. Ничто не могло застать этих людей врасплох! Даже случайные «внутренний» конфликт между непонятными русскими.
Не обращая ни малейшего внимания на полицейского, расставившего свои ноги в высоких, мягких сапогах над телом Постышева, Саранский присел рядом с пострадавшим и испуганно-предупредительно заглянул ему в лицо.
– Ты чего тут? – скорее с интересом, чем с беспокойством спросил Андрей Евгеньевич.
– А ты! Мать твою, водитель хренов! – нагрубил Постышев морщась и потирая рукой ушибленную оголенную из-под разорванной брючины лодыжку.
Саранский, словно строгая дуэнья, ревниво отдернул вниз лоскут брючины и, не обращая внимание на стон в ответ на это Постышева, возмущенно взглянул на замершую вокруг толпу. Будто это они, а не он, причинили его соотечественнику физическую боль.
– Ну, чего уставились! – сказал он нервно по-русски, но потом вежливей добавил по-немецки, – Расходитесь, пожалуйста! Дайте воздуха!
– Ваши документы! – прозвучало прямо над головой присевшего Саранского.
Он медленно поднял глаза, будто ощупывал ногу полицейского от носка сапога до плотного, узкого гульфика его брюк, потом прополз взглядом выше и разглядел круглую ременную пряжку, тяжелую кобуру с торчащей ручкой револьвера, ровный ряд пуговиц на груди рубашки до самого выбритого подбородка, расплющенные строгостью и осознанием собственной важностью губы, две черные, полные ноздри и длинные ресницы опущенных в его сторону век.
– Документы? – переспросил Саранский и привычно сунул руку в нагрудный карман, но вдруг остановился, опустил глаза на уровень лица Постышева и спросил его по-русски, тихо, – У тебя, Постышев, есть ко мне претензии?
– По этому поводу нет! – двусмысленно ответил Постышев.
Саранский кивнул, резко поднялся и глядя прямо в глаза высокому полицейскому, по-прежнему снизу вверх, словно и не поднимался на ноги, сказал:
– У этого господина нет никаких претензий.
Полицейский с удивлением уставился на Постышева.
– Это правда? – спросил он.
– Правда, – ответил Постышев и зло взглянул на Саранского.
Полицейский оглядел толпу и сказал громко:
– Дамы и господа! У этого господина нет никаких претензий к водителю автомобиля Это все слышали?
Дамы и господа согласно кивнули.
– Я попрошу вас и вас, – он указал пальцами на ближайших к нему женщину и мужчину, обоих совершенно неопределенного возраста, – Заявить мне о том, что слышали это и оставить свои фамилии и адреса.
Оба скороговоркой произнесли нечто вроде клятвы о том, что готовы подтвердить где угодно и перед кем угодно, что сидящий на асфальте человек вполне доволен жизнью и никаких претензий ни к водителю, ни к полицейскому да и ни к кому вокруг не имеет. После этого они ясно назвали свои имена и адреса. Полицейский, не спеша, щуря глаза и вытянув из-за губ кончик языка, записал все это в небольшой, компактный блокнот. Потом он слегка нагнулся над Постышевым и спросил всё также спокойно и веско:
– Вам нужен врач?
– Ему не нужен врач! – выкрикнул Саранский, – мы русские. У нас в посольстве есть свой врач! В Бонне. Это рядом…
– Я в посольство не поеду! – обиженно надул губы Постышев, – Только этого мне еще не хватало!
– Это я для него, Вадик! – примирительно зашипел Саранский, – Мы тебя сейчас тут к одному частнику доставим…, мигом, понимаешь! И пиво у него свое! Пальчики оближешь! Сволочь незабываемая!
– Чего же мы к нему поедем, если сволочь! – продолжал капризничать Постышев.
– Брось ты! Это я так, к слову! Они ведь тут все сволочи! А то ты не заметил?
– Я не слышал вашего ответа, господин пострадавший! – вмешался полицейский уже немного нервно, – Вам нужен врач или нет? И вообще, какая-нибудь помощь?
– Нет, – мрачно покачал головой Постышев и тяжело вздохнул.
– Этому господину не нужен врач и вообще он не нуждается ни в какой помощи, – спокойно и громко произнес полицейский, оглядывая недвижимую толпу, – Это все слышали?
Толпа согласно заурчала и закивала головами, словно это было одно большое серое драконовое тело с множеством дисциплинированных голов.
– Хорошо! – заключил полицейский, – Позвольте я отмечу все установленные факты в рапорте, а сошлюсь на эту даму и господина.
Он прямо, будто стволом оружия, в упор указал пальцем на уже записанных в его блокнот свидетелей.
– Если у кого-то все-таки возникнут претензии или появятся вопросы, прошу обращаться в местное полицейское управление и сослаться на сержанта Вили Штайнера, то есть на меня. Мой номер – 1756.
Вили Штайнер задумчиво посмотрел на Постышева и вдруг строго, будто видел в этом его вину, заявил:
– Но и вам, так или иначе, придется назвать себя. Так положено. Я же должен указать ваше имя в рапорте.
– А если я этого не хочу? – вдруг упрямо вскинул голову Постышев.
– Тогда я буду вынужден сопровождать вас в больницу или в полицейское управление…, – удивленно возразил Штайнер. Ему еще не приходилось сталкиваться с таким необъяснимым упрямством.
– Нет! Нет! – засуетился Саранский, – Я знаю этого человека. Его имя – Вадим Постышев…, он гражданин СССР, журналист… Не так ли?
Последний вопрос Андрей Евгеньевич обратил к Вадиму, причем сделал это как-то заговорщицки, хитро подмигивая то одним, то другим глазом.
– И так, и не так, – двусмысленно ответил Постышев.
– Что это значит? – насторожился полицейский Штайнер.
– А то значит, что я действительно Вадим Постышев, но уже год как не являюсь гражданином СССР. Я – лицо без гражданства. Невозвращенец.
– Что? – не понял полицейский, – Куда вы не вернулись?
– В СССР. «Невозвращенец» – почти по складам сказал уже по-русски Вадим, – но не трудитесь записывать это, господин полицейский. У вас все равно нет такого понятия. Ваше право его пережило на сорок с небольшим лет. Когда-то, правда, и у вас бывали свои невозвращенцы… Опасно было возвращаться, господин полицейский… Напишите лучше – эмигрант. С вашей стороны это выглядит так.
– А с русской – не-воз-вра-ще-нец? – делая явные успехи в русском языке с любопытством спросил Штайнер. Это сложное для иностранца слово он произнес почти без акцента, лишь сгроссировав неудобную букву «эр».
– Вы способный человек! – покачал головой Постышев, – осталось еще понять, что это такое, и можно вполне заслуженно прослыть советологом!
Вили Штайнер густо покраснел, закивал головой и тут же записал имя и фамилию потерпевшего в свой блокнот, а потом еще и вывел два слова – «эмигрант» и «невозвращенец». Причем, второе слово – по-русски, в латинской транскрипции. Он полюбовался записью и вдруг строго взглянул, сверху вниз, на худенького, притихшего от всех этих разговоров Саранского.
– А ваше имя? Впрочем, от вас потребуются документы, – Штайнер сказал это так строго, так сурово, что Постышев заподозрил за ним не только способности к изучению славянских языков, но и умение понимать смысл того, что слышит и видит впервые.
Андрей Евгеньевич, похоже, тоже это понял именно так, потому что сразу, излишне быстро, даже суетливо, цепляясь за подкладку одежды, извлек из кармана зеленый дипломатический паспорт и водительскую лицензионную карточку.









