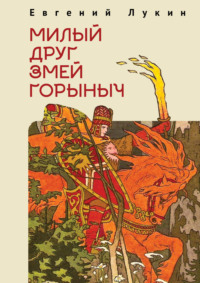Полная версия
Времени холст. Избранное
Пирушка с рабочим котельной № 3, что близ Казанского собора в Петербурге
Андрею Крыжановскому
Когда зажуржит огневая пчела в фонаре,Опустится мгла на узор воронихинской ковки,Нет лучшего места, чем старый подвал во дворе,Чтоб выкушать с чувством и толком бутылку зубровки.Там трубы железные по-ерихонски трубят,Там падшие ангелы огненной азбуке учат,Там стрелки приборов о жарких страстях говорятИ всякие твари любовью грешат и мяучат.А маленький бес, поджидая полуночный час,Колдует над чаном с водой, где звоночек бубенит.Длину подземелия меряет вспыхнувший газ,А бес острым глазом вошедшего гостя приценит.Бутыль темно-рудного цвета скорее на стол,Ржаную горбушку и луковицы золотые:– Так скучно мне, бес, что к тебе в кочегарку зашел!– Что делать? – он скажет и кружки достанет пустые.Веселое дело – топить ввечеру водогрей,Особенно для африканцев, продрогших от сыри.Вокруг кочегарщик хлопочет, хотя и еврей,И длинные вирши бормочет, подобно псалтыри.Беглец палестин, и египтов, и прочих европ,А ныне – механик российского пара и парки.Когда б не приехал однажды на Русь эфиоп,Не ведали б мы ни поэзии, ни кочегарки.Однако к чему поминать о былом невпопад?Пусть воздух колеблет крикун площадной и острожник.Никто не затмит воронихинской ковки оград,Никто не подделает пушкинской резки треножник.Свивая в рулон золоченого времени холст,Смотри, чтобы не был подсунут обрезок поддельный,Поскольку возносится ум до заоблачных звезд,А дерево мысли стоит вдалеке от котельной.Но что там белеет во мгле за деревьями, бес?И он, охмелевший, уже на любое готовый,В мгновение ока в глухой подворотне исчез —И тает над Мойкой испанский туман трехмачтовый.1992
Ода на установление в Петербурге памятника чижику-пыжику, сотворенного Резо Габриадзе
Слава Богу, не ворон зловещий,Чернолатник последнего часа,О волшебной ракитовой смертиГоворящий варяг Невермор,И не мудрая птица Паллады,Полуночная флейтщица мысли,Чей полет через синее мореОсенен византийским крестом,А тем паче – не огненный феникс,Покоривший Цицарские степиЗолотой ветеран ястребитель,Королевич о двух головах.Нет, веселый бродяжка Колхиды,Бубенец тридевятого царстваУдостоился бронзовой чести:Чижик-пыжик, скажи, где ты был?Может быть, в придорожном трактире,Где рисует Нико ПиросманиВиноградное красное солнцеИ зеленую извинь луны?Или в древней вардзийской пещереНа пиру кузнеца часового,Где овчарка седыми клыкамиСеребрит амиранскую цепь?Но скорее всего в КутаисиНа параде драконьего зубаТы подсвистывал песне военной,Кахетинское пил сапогом.И теперь о тебе, виноплясе,На уроке росы и сирениГимназистки синицы щебечут:Чижик-пыжик – кавказский орел!А вокруг розовеют туманы,Об утес Инженерного замкаЗвонкий конь ударяет копытомИ печатает медный указ,Что, навеки прикованный к камню,Ты глядишь на фонтанные струиИ грустишь о далекой Колхиде,О своей дорогой хванчкаре.1999
Пантелеймоновская церковь
Под синим небом петербургскимПантелеймоновская церковь,Где слава светится морская,Зеленый мраморник цветет,Поют божественные арфыО днях Гангута и Гренгама,Когда по каменной скрижалиИдут петровские полки:Преображенский, Вологодский,Семеновский, Нижегородский,Рязанский, Галицкий, Копорский,Воронежский и Костромской.О время золотой фортуны!Там звезды грубого помола,Штыков трехгранные походы,Орлиный гром на рубежах!А Петр глядит в кристалл подзорныйНа эти пепельные маршиИ ветровые слышит плачиО невернувшихся полках:Преображенском, Вологодском,Семеновском, Нижегородском,Рязанском, Галицком, Копорском,Воронежском и Костромском.Храни вас Бог, однополчане,На берегах другого моря,Штурмующих за облакамиИной Гангут, иной Гренгам.Под синим небом петербургскимПантелеймоновская церковьЗа вас, ушедших в небылое,Молитву вербную творит:Преображенский, Вологодский,Семеновский, Нижегородский,Рязанский, Галицкий, Копорский,Воронежский и Костромской.1998
Павловск
Снится кирпичная церковьАртиллерийской бригады,Павловск, морозное утро,Строй белоснежных колонн.На пьедестале дымитсяЧаша перлового счастья.Слышится – я! – на разводе,Гвозди печатают шаг.А за колючей оградой —Синяя роздымь дороги,Где одинокая музаЖдет не дождется меня.Медный приказ капитанаБыть рисовальщиком молний.Вот и моя мастерская:Здесь я рисую грозу.О, боевая палитра —Смелость свинцовой окраски,Долга трехцветная лентаДа трафаретная честь!Я не ропщу на судьбину:Родина всех призывает,А политрук с пистолетомВсех на Итаку зовет.Вечер. Луна над оградойБлещет солдатскою бляхой.В гости иду к музыкантамПить кипяток жестяной.Розовый флейтщик в казармеГреет вечернюю койку:«Здесь отдыхала когда-тоЛошадь поручика Л…».Песню чеканю в потемках,Что-то про Дон и про Валгу,Бью серебро на ступенях,Вижу невидимый сон…Снится кирпичная церковьАртиллерийской бригады,Синяя роздымь дороги,Лермонтов, Павловск, зима.2001
Перстень
Ты был отрыт в могиле пыльной,Любви глашатай вековой,И снова пыли ты могильнойЗавещан будешь, перстень мой.Дмитрий ВеневитиновОснеженные розы завянут к заутрене,Отпылает свеча за церковными рамами,Но останется символ любви целомудренной —Этот перстень исчезнувшего Геркуланума.В небе синие знаки мерцали, как ясписы.Я прощался с тобой, дорогая, желанная,И тогда ты меня одарила по-княжескиЭтим перстнем таинственного Геркуланума.И тогда я поклялся своими святынями —Материнскими слезами, Божьими ранами,Что с тобой обручусь я под знаками синимиЭтим перстнем таинственного Геркуланума.Здесь, на севере, стужа сменяется стужею,И колеблется воздух виденьями странными,Будто бледная смерть выкрадает у суженойЭтот перстень таинственного Геркуланума.Не излечат недуг петербургские знахари…Так прости ты меня, дорогая, желанная,Что я с ней обручаюсь под синими знакамиЭтим перстнем таинственного Геркуланума.Оснеженные розы завянут к заутрене,Отпылает свеча за церковными рамами,Но останется символ любви целомудренной —Этот перстень исчезнувшего Геркуланума.1997
Рождественское чудо
В кафе мерцает синий полумрак,Созвучный петербургскому морозцу,Душистая табачная сирень,Полуколечки бронзового кофеИ трепет очарованной струны,Как будто говорящей о небесномТомлении единственной душиСказаться Вифлеемскою звездою,Готовой, как и много лет назад,Блеснуть в проеме горнего вертепа,Приотворить оснеженную дверьИ, шевельнув пастуший колокольчик,Мерцающий наполнить полумракДыханием рождественского чуда.1997
«На небе Бог и светлая звезда…»
На небе Бог и светлая звезда —Серебряная плошка со свечою,Мерцающая празелень креста,Ледок у храма, иней голубиный,Полукривое зеркальце очей,Где отразилась строгая любовьИ сумрачная нежность Петербурга,Гранитная прогулка, ангел ветра,Ростральная разлука на мостуИ огненная астра…Эта астра —Игольчатый ожог, парик колдуньи,Танцующей на шабаше ночном,Горящий уголь зрения зари,Двойник звезды, ее сестра земная:Меж ними есть таинственная связь,Но никому неведомо – какая.1998
По небу полуночи ангел летел
Петербургская поэма
Ангелы – существа живые, разумные, бесплотные, способные к песнопению, бессмертные.
Св. Афанасий АлександрийскийДвенадцать часов
Ровно в полдень с Петропавловской крепости бьет пушка – раскалывается пополам синедымчатый воздух, звенят серебром сумрачные стекла, взмывают к облакам птицы отряда ветровых. Они летят наискосок, над синим текучим куском пространства, обрамленным гранитными вздохами берегов.
А неподалеку, за узорчатой оградой времени, под зелеными листьями дубов мамврийских, возвышается могучий бронзовый конь, извергающий неутешные искры. Гордо на нем восседает удалой всадник – правая рука по-молодецки подперла бок, левая предусмотрительно сжимает рукоять тяжелого клинка.
«Как всегда, важна идея! А здесь вот она – воплощенная идея кондовости, чисто русской кондовости! – размышляет Фуражкин, стоя в садике перед величественным монументом. – Если вдуматься, это восседает не царь-государь, нет, это восседает настоящий Илья Муромец! Как будто выехал он в чистое поле – потягаться с кем-нибудь силою. Жаль, что садик маловат – нет простора, негде разгуляться. Не место ему здесь, с такой мощью. Хорошо бы его на Пулковские высоты поставить, на оборону города вековечную».
Вдоль ограды бродят стайкой смазливые девицы – поблескивают на животах золоченые булавки и брошки, позванивают на бедрах кружевные цепочки. Тонкий юноша Бесплотных – черный костюм вороного блеска – сопровождает стайку «На площади комод, на комоде – бегемот, на бегемоте – обормот», – блистает заемным остроумием юноша, указывая на памятник. Казалось бы, тут конная статуя, согласно закону двенадцатого часа, должна сойти с пьедестала и, громыхая, помчаться следом за оскорбителем. Но, конечно, никакого чуда не происходит, и юноша безмятежно удаляется в сиреневую кипень Марсова поля за щебечущей стайкой.
Безработный Фуражкин от нечего делать думает. Безысходность понуждает к философствованию. Обступающий хаос заставляет искать смысл, находить прекрасное. Безобразное бессмысленно, бессмысленное безобразно.
«На чем стоит Петербург? На болоте? Нет, Петербург стоит на зыбком смешении камня и мысли, – банальничает Фуражкин. – Вот почему гранит здесь дышит и вроде как звенит, вроде как поет на ветру. Как всегда, важна идея! Идея Петербурга – преобразить камень, напитать его мыслью. Живое окаменевает, каменное оживает – вот волшебная формула города. А хорошо бы подковать диких клодтовских коней, да и пустить четверню по Невскому проспекту! Или отпустить ангела с Петропавловского шпиля, и пусть кружит себе над Невой».
Фуражкин закрывает глаза, и светлая петербургская ночь возникает перед ним. Пылают на крепостных бастионах факелы. Огненные отблески колеблются на речной глади. А вверху, на золоченом острие, чистою слезинкой искрится ангел. Ровно в полночь внезапно срывается он с острия и медленно облетает город по кругу, пока струятся торжественные звуки и нарядные горожане, толпясь на набережных, громкими радостными криками приветствуют его.
«Алеша! – доносится откуда-то сверху голос жены Марины. – Алеша, иди домой, хватит без толку болтаться».
С досадою Фуражкин отвлекается от течения мысли и обнаруживает себя в Оружейном переулке, а рыжекудрую жену Марину – в высоком цветочном окне своего дома, крашенного желтою охрою.
«Царевна, – думает Фуражкин, запрокинув голову и вглядываясь в крупную темную родинку на ее пухленькой щеке. – Царевна-лягушка».
Сады адониса
На подоконнике жена Марина разводит цветы в расписных глиняных горшочках. Здесь золотилась диадемой китайская роза, струились зеленые русалочьи пряди петунии, звенели нежными лепестками розовые церковные колокола. «Сады Адониса! – вздыхает Фуражкин, наслаждаясь цветочным ароматом. – Точно такие голубые фиалки цветут в сырых расселинах между солунских камней».
Тихая, солнечная Солунь возникает перед ним – кривые узкие улочки, высокие стройные кипарисы, белые глиняные дома, увитые змейчатым плющом. «Хочу на волшебный Восток, – шепчет Фуражкин, – хочу видеть синий изгиб Эгейского моря и огоньки рыбацких лодок в розовой роздыми. Хочу, чтобы под окном маленькой гостиной расцветал персик и на белой благоухающей ветке ворковал египетский голубь».
«Что ты там бормочешь?» – Жена Марина поливает цветы из маленькой лейки. У нее черные греческие глаза с мягким, бархатным отливом, где притаилась вечная мечта о счастье. Когда-то гордилась она своим морячком – своим Летучим Голландцем, который скитался полгода по синим морям-окиянам, а затем прилетал к ней на крыльях серафима, поднося плетеную корзину с красными яблоками и виноградными кистями, а также тугой кошелек военно-морской фортуны. Однако Летучий Голландец давно бросил якорь на тихом взморье, а корабельный гюйс выветрил запахи горькой соли, крепкого спирта и тугого кожаного кошелька. И теперь она – хитроумная особь с высшим образованием, несбывшейся мечтой и янтарным браслетом на запястье – обитает в садах Адониса, где среди стебельков королевской бегонии то и дело мелькает острое жало ее маленькой лейки. Прощай, свободная стихия!
Фуражкин говорит, что жизнь – это сказка наоборот, это тысяча и одна ночь шиворот-навыворот, это страна Кокань вверх ногами. Сказочная Василиса Прекрасная вначале была ужасной лягушкой, а потом внезапно превратилась в писаную красавицу. Иван только вначале считался дураком, а потом оказался царевичем. В действительности все происходит наоборот: писаная красавица со временем становится неким бородавчатым существом, а дурак – российским пенсионером. Но иногда природа напоминает о своей волшебной сущности. И тогда на свет рождаются лягушки с ясными человеческими чертами, как это случилось на днях в Персии, о чем сообщила мировая пресса.
С недоверием относится жена Марина ко всякой прессе, считая ее не столько источником, сколько исчадием, и потому высказывает сомнение: «Не кажется ли тебе, что это обыкновенная утка?». Но Фуражкин настаивает, что это никакая не утка, а самая настоящая лягушка.
Информационное сообщение Би-би-си (Великобритания)
Жительница иранского города Ираншехр родила лягушку. Правдивая история о необычном, можно сказать, сказочном инциденте опубликована в иранской газете «Etemaad».
Предполагается, что лягушка выросла из личинки в организме женщины. Как это могло произойти, пока не ясно. Газета цитирует специалистов по клинической биологии, которые утверждают, что у лягушки наблюдаются черты, характерные для людей. В частности, издание приводит слова доктора Аминифарда, что форма пальцев, языка, а также его размер у лягушки напоминают человеческие. По мнению ученых, личинка попала в организм женщины, когда та купалась в грязном водоеме.
В истории медицины бывали эпизоды, когда люди верили, что в их телах живут лягушки, ящерицы и даже змеи. Один из наиболее знаменитых случаев датируется XVII столетием: жительница Германии Катарина Гейсслерин была известна тем, что ее «рвало жабами». Когда в 1662 году она умерла, врачи вскрыли ее тело, но не нашли никаких свидетельств, что там водилось какое-либо животное.
Жена Марина молча слушает, покачивая головой и ощипывая пожухлые листья вербены. В конце концов, закурив сигаретку и выдохнув голубое облачко дыма, иронически замечает: «Да жаба ее душила, вот и все чудеса!».
Самоварная дырка
В ту замечательную весну, двенадцатую от начала свободы, припорошен был город душистым сиреневым смогом, брызгами праздничного шампанского и серебристыми юбилейными значками, украшавшими стеклянные витрины кафе, запыленные борта петербургских трамваев и узкие лацканы молодых чиновников – преуспевающих менеджеров личного и общественного счастья.
В ту замечательную весну внезапно осознал Обмолотов горькую истину, что до конца, до смертного часа своего, будет числиться по разряду «вчерашних». С грустью-печалью вспоминал он озорное прошлое свое, когда веселое застолье было его трудом, беспечный сон был его работою, беззаботная любовь была его свободою. Эх, сказочная жизнь союзная была – не бей лежачего!
Вот сидит Обмолотов, будто каменный, на кухне своего коммунального бытия, где расцветает на плите голубой цветок природного газа. В руке дрожит кофейник бессонницы, в голове дрожит дурацкая мысль о старухе процентщице и зазубренном топоре Родиона Романыча. Столько лет просидел на кухне Обмолотов, ожидая призыва на счастливый ток жизни, а недавно окончательно понял: не будет призыва, не дадут ему места лежачего на том бурном весеннем току Просыпаться надо, воскресать.
Обмолотов неторопливо перебирает в памяти события последней недели, когда от нечего делать слонялся по городу и столкнулся случайно со своим однокашником Иконниковым – по школьному прозвищу Икона. И похвастался ему Икона, что теперь он – знаменитый собиратель вещей утраченного времени. И показал цветастый журнал, где демонстрировались его гениальные творения – грузная, продавленная раскладушка с привинченной табличкой «Сон Сталина» да дряблая резиновая клизма с наклейкою «Ударница коммунистического труда». И, прощаясь, сказал Икона: «Главное – дать вещи новое имя, и тогда засияет она иным смыслом, иным блеском. Вот тогда можно будет ее пропиарить и продать задорого, особенно иностранцам. Так что не будь кретином, будь креативным, Вася!».
«Шулер, – подумал Обмолотов, – прохиндей, проныра, гопник. Но надо жить, надо изучать новый язык, надо менять мировоззрения. Иначе пустота ждет, безмолвие ждет, смерть».
На следующий день притащил Обмолотов в мастерскую Иконы обшарпанную тумбочку великой эпохи. Ее ценность заключалась в том, что когда-то громоздился на ней районный бюст вождя. Заодно предложил половичок черной ночи, о который вытирал хромовые сапоги участковый милиционер. А напоследок вынул из кармана сгоревшую лампочку накаливания и таинственно сообщил, что под тусклыми лучами этого светоча свободы будто бы читалась запрещенная литература. Но отверг Икона предложенные вещи как неубедительные.
«Понимаешь, – развел художественными руками, – нет здесь никакой фишки, никакой изюминки. Половичок с тумбочкой в каждой избушке есть, лампочка светила не только над Солженицыным, а для пиара требуется что-нибудь этакое».
И вот сидит Обмолотов на кухне своего коммунального бытия, придумывает «этакое-разэтакое». Блуждает взор от плиты до кособокой раковины, от кособокой раковины до плиты, между которыми зияет старое дымоходное отверстие для самовара, густо засиженное рыжими тараканами. «Да что ж ему, прохвосту, продать? – покуривает Обмолотов. – Эту дырку, что ли?»
Год мракобесия
Тонкий юноша Бесплотных возвращается с прогулки. Проходит мимо кухни в темную комнату свою и зажигает настольную лампу – ее стеклянный купол покоится на железной конструкции, напоминающей семиструнную лиру барбитос. Теплый свет вечерний озаряет книжные стеллажи да иконы, сосредоточенные над столом. Золотом светятся божественные лики – Николая Мирликийского и Георгия Каппадокийского, Димитрия Солунского и Иисуса Сладчайшего, просиявшего в четырех концах земли. А там, на стеллажах, книги сияют золочеными торцами – церковная история Евсевия Памфила, собрание духовных писем Игнатия Брянчанинова, небесные творения Дионисия Ареопагита.
Но отодвигает в сторону юноша Бесплотных священные фолианты, достает с полки старинную книжку заветную и ложится на диван, укрываясь шерстяным шотландским пледом. Читает он на титульном листе предостерегающий эпиграф из Апфологиона 1643 года: «Молим со умилением, аще какая неблагоискусная и неблагостройная словеса в книге сей обрящутся, не осуждати и не поносити люботрудящихся». Обращает внимание на необыкновенное место, где отпечатана книжка. Это остров Валаам – гранитный ладожский утес среди страдания волн, где вознеслась к небесам древняя обитель духовного поиска и делания. И, наконец, отмечает зловещее время книгоиздания, указанное на титульном листе – это не какое-нибудь лето от Рождества Христова, обозначенное церковнославянским исчислением. На тряпичной бумаге оттиснуты апокалипсические слова – год мракобесия.
«Подделка! – Юноша Бесплотных протирает запотевшие от волнения очки. – Жаль, что не указана точная дата, когда эта подделка изготовлялась типографским художеством развеселой братии. Наверняка это случилось Первого мая – в праздник сатанинского разгула и полета на метлах».
«Однако как близко все-таки вера соприкасается с Эросом, – думает юноша, перелистывая заветную книжку, – как близко все-таки она подходит к магнитному полюсу человека, где все стороны света одинаково вращаются и нет никаких указателей, а есть лишь одна любовь, восстающая вверх, к сполохам божественного сияния, к бессмертию. Здесь надо поставить точку, воткнуть деревянный шест оправдания, пронзить осью любви и землю, и небо».
Время от времени юноша Бесплотных подумывал поступать в Духовную семинарию, на Обводном канале расположенную. Его прельщал монашеский обет безбрачия. «Прожить жизнь в чистоте лучезарной, – грезил он, – и познать лишь божественную любовь – вот истинный подвиг духовный, вот кроткое призвание небесное».
Но чем больше грезил он о непорочном служении своем, тем больше разгорался и томил его аленький цветок любострастия. Это было испуганное желание все-таки познать земную любовь, но так, чтобы об этом никто не узнал – ни отец с матерью, ни друзья насмешливые, ни даже она, которая согласится подарить ему мгновенную ночь. Хорошо бы сотворить это в маске шутовской, козлобородой, и потом сбежать под раскатистый хохот и звон бубенчиков: «А что было? А не было ничего!».
Сказка о пастухе
Жил-был пастух. Многие молодые молодицы хотели полюбиться с ним, да не всякой удавалось. Вот и разнеслась молва, будто застукали пастуха на сивой кобылице. Стали всей деревней насмехаться над пастухом. Одна красная девица особенно потешалась. Бывало, поутру гонит скотину и кричит: «Смотри, Иван, стереги мою кобылку!». А тот помалкивает да на ус себе мотает.
Однажды пошел пастух к старой колдунье, которая жила на краю деревни, и рассказал про свое горе. «Хорошо, говорит старуха. – Приходи в сумерки». Вечером пригнал он с поля стадо, пришел в избушку и спрятался за печкою.
Зазывают бабы скотину домой. Красная девица тоже вышла на улицу. Увидела ее старуха и закричала в окошко: «Пойди сюда!». Девица прибежала, а та давай браниться: «Смотри, станешь каяться, да поздно будет». Испугалась девица, не знает, какая вина за нею. «Экая ты дура! – удивляется старуха. – Прыгаешь через канавы, как попало! Гляди, что наделала – честь свою испортила! Кто тебя теперь замуж возьмет?» Красная девица умоляет похлопотать, поправить как-нибудь дело. А колдунья ворчит: «За все про все отвечай бабушка! Делай, что я скажу, да терпи, хотя и больно будет. Высунься в окошко и чур не оглядывайся, иначе все дело пропадет».
Заворотила старуха ей сарафан и махнула пастуху. Иван подкрался тихонько, достал из портков свой хобот вместе с бубенчиками и начал подправлять девичью честь. «Ну что, хорошо?» – спрашивает старуха. «Хорошо, бабушка! – отвечает девица. – Еще поправь, бабушка! Я тебя никогда не забуду». Закончил свое дело пастух и спрятался за печку.
На другой день погнала красная девица скотину и опять стала дразнить пастуха кобылою. А тот ей в ответ: «Хочешь, я честь тебе поправлю?». Девица язычок так и прикусила.
«Какие замечательные старушки жили в русских селеньях! И девушки замечательные тоже! – вскакивает с дивана юноша. – Какая глубокая мысль о непорочном зачатии, когда она просто-напросто не знает об этом! Когда знает, тогда нет святости, нет чуда. Если бы он не сказал, не поведал, она бы осталась в неведении, в незнании, а значит, в безгрешности. Она осталась бы Евой до разговора со Змеем, до вкушения плодов добра и зла с древа познания. А какой восхитительный образ – хобот с бубенчиками! Это же какой-то карнавал шутовской! Какая-то мистерия дионисийская! Шембартлауф нюрнбергский! Это же не хобот – это хохот над незнанием знания! Нет, господа академики, никогда, никогда не поверю я вашим стыдливым заверениям, что хобот – это всего лишь змеиный хвост».
И ходит возбужденно по комнате юноша, и хлопает в ладоши радостно, и песенку любимую напевает:
«Во саду ли, во зеленом садочкеГуляла душа красная девица.Завидел удалой добрый молодец:“Не моя ли то жемчужинка катается?Не моя ли то алмазная катается?Я бы ту жемчужинку проалмазил,Посадил бы на золотой свой спеченик,К яхонтам, двум камушкам, придвинул”».И падает косой луч в дальний угол комнаты, на странную композицию настенную, где два нежных лика светятся на листе серебряной фольги, за которой угадывается иная земля, иное небо.
Имя дырки
Выходит из мрака утренняя заря с перстами пурпурными, поют на перекрестках сирены милицейские, кричат чайки над невскими водами. Завершает Обмолотов свой труд ночной, достает из тумбочки красную папку с виньетками, складывает туда исписанные бумаги.
Всю ночь сочинял Обмолотов историю самоварной дырки. Для начала определился с местом и временем рождения детища – предрассветный час в городе на Неве. Определился и с отцом-матерью – это был, собственно, сам Обмолотов, родивший идею дырки из своей могучей головы, как некогда Зевс богиню мудрости. Оставались сомнения насчет самобытности, поскольку дырка оказывалась двойником прославленной картины Каземира Малевича в виде черного квадрата. Бог весть, какими жуткими фантазиями была та напичкана – иные обнаруживали там целый архипелаг, огражденный звездно-колючей проволокой. Но, с другой стороны, Обмолотов слышал, что один прозорливый олигарх приобрел картину за баснословную сумму, и в уме прикинул: «А чем моя дырка хуже? Такая же бесконечно пустая. Неужто она не имеет права на счастливую участь?».