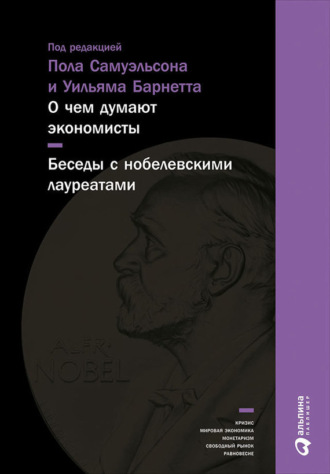
Полная версия
О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами
Фоули: Это кейнсианская проблематика – поддержка спроса через государственные субсидии.
Леонтьев: Да. Но это не только поддержка спроса. Кейнс поддерживал занятость, чего в данном случае нет. Поддерживается только спрос. Вы кормите людей. Техника снизит или, во всяком случае, не увеличит занятость. Я думаю, что техника, конечно, конкурирует с трудом, обычным трудом. Если у вас все производят автоматы, вы, естественно, не будете нанимать столько людей.
Фоули: То есть это иллюстрирует вашу мысль о том, что изучение реальной структуры происходящего должно опираться на солидный фундамент?
Леонтьев: Да. Технический прогресс всегда, даже в доисторические времена, был движущей силой экономического развития, но сейчас, когда он ускоряется научными исследованиями, такого рода анализ крайне важен. Экономисты пытались его провести, но в основном делали общие заявления. Как только электроэнергия становится дешевле, технический прогресс приобретает большое значение. Сейчас производство требует гораздо больше электроэнергии.
Фоули: Как вы думаете, присуждение Нобелевской премии по экономике в целом способствует улучшению условий для того, чтобы проводить экономические исследования?
Леонтьев: Вы знаете, есть одна проблема. Думаю, что скоро они не смогут найти достойных кандидатов. Проблемы уже начались.
Фоули: Оказало ли получение премии какое-либо влияние на вашу работу или жизнь как ученого?
Леонтьев: В какой-то мере – на мою жизнь… Но не на работу. Естественно, стало легче получать заказы. Но отнюдь не легче получать финансирование. Теперь, например, я вообще не могу получить никакого финансирования. Так что, полагаю, моя научная жизнь стала легче, но, как я уже сказал, продолжение деятельности Нобелевского комитета проблематично. Думаю, что уже сейчас его внимание постепенно переключается с экономистов-теоретиков на институциональных экономистов. И теперь возникает проблема, поскольку в конкретных экономических исследованиях можно, по крайней мере, говорить о какой-то иерархии, а также крупных шагах вперед, прорывах, тогда как в институциональной школе я действительно не вижу никаких крупных прорывов. Меня беспокоит, что экономисты сегодня недостаточно интересуются институциональными изменениями, обусловленными появлением новых технологий, которое я определенно считаю движущей силой.
Фоули: Было немало споров о том, должна ли экономика взять за образец какую-нибудь другую науку, в частности, физику или биологию, и если да, то какую. Считали ли вы когда-нибудь, что экономика должна стать чем-то вроде физики или биологии общества?
Леонтьев: Думаю, особого толка от этого не будет. Экономисты-математики, естественно, любят смотреть на физику. Думаю, идея Дарвина была действительно интересной, и, в определенным смысле, Дарвин был великим интеллектуальным революционером. Он совершил колоссальную революцию не только в биологии, но и в анализе всех жизненных процессов. Думаю, Дарвин – да, Ньютон и Дарвин – внесли огромный вклад в понимание причин социальных изменений. Дарвинизм очень важен, хотя, конечно, интересен тот факт, что на Дарвина оказал влияние Мальтус. Что именно вас интересует?
Фоули: В последнее время я занимался, в том числе, и эволюционным моделированием научно-технического прогресса. На всем длительном отрезке времени, пока технический прогресс будет иметь решающее значение, также будет существовать проблема глобального потепления.
Леонтьев: О да. Совершенно согласен. Технологии играют существенную роль.
Фоули: В более краткосрочной перспективе большое значение может иметь замена существующих технологий, но думаю, что в долгосрочной перспективе важнее будет направление, уклон научно-технического прогресса. Вопрос в том, существует ли способ его контролировать.
Леонтьев: Вот именно. Не обязательно сознательно, но… Теперь, конечно, связь между научным и техническим прогрессом стала гораздо теснее. Трудно даже представить себе технический прогресс без прогресса науки, и, учитывая глобальное потепление, эти вещи приобретают особое значение. А что мы можем сделать? Мы можем сделать многое. Например, снизить темпы экономического развития.
Фоули: Эта идея непопулярна в мире, жаждущем развиваться как можно быстрее.
Леонтьев: Удивительно, насколько отстали в техническом отношении многие менее развитые страны. Начав вырубать деревья, вы добьетесь этого очень быстро.
Фоули: Если бы вам представили молодого ученого, которому пришла в голову такая же новаторская, но дорогостоящая идея, как метод «затраты – выпуск», то как бы вы посоветовали ему действовать?
Леонтьев: Я порекомендовал бы ему что-нибудь опубликовать. Не знаю, кто сегодня получает деньги. Последнее время я не следил за изменениями в этой области, ведь мне уже за 90. Но, конечно, много денег тратится не на исследования, а на сбор данных. У некоторых экономистов есть хорошие идеи, и они действительно могут сделать что-то с этими данными, но экономика сегодня все ближе и ближе к технологиям. Чтобы использовать влияние научно-технического прогресса на изменения в экономике, вы не можете просто рассчитать какую-нибудь кривую предложения; у вас действительно должна быть масса информации. Я описал, как это можно сделать, и мне почти удалось найти на это деньги. Мне кажется, что, имея действительно подробные данные, можно было бы даже сделать определенный прогноз, предсказание. Я связался с сообществом производственников, с представителями различных отраслей, и они готовы были снабдить меня информацией. Думаю, что в этом будущее этой работы, во взаимодействии между экономикой и отдельными отраслями, наукой и системой производства.
Фоули: Были ли у вас когда-либо личные или научные контакты с Пьеро Сраффа, наполовину англичанином, наполовину итальянцем, работавшим над линейными моделями?
Леонтьев: Нет, я никогда с ним не встречался. Но, думаю, он был очень интересным человеком. Интересным было его видение. Думаю, анализ затрат и результатов не обязательно линеен. Я интерпретировал бы его как одно из направлений неоклассической теории. Сраффа интересовало нечто иное, непрямые зависимости. Я вовсе не настаиваю на линейной зависимости, только учитываю то, что иметь дело с нелинейными системами ужасно сложно. Что делают математики даже при расчетах? Они выделяют в составе системы подсистемы с линейными зависимостями, а затем снова складывают их в единое целое. Вот как большинство из нас использует математику в сфере, в которой большое значение имеют цифровые данные.
Фоули: Я хотел спросить вас о связи метода «затраты – выпуск» с анализом на основе производственной функции. Сегодня в экономике производства, похоже, доминируют производственные функции.
Леонтьев: О да. Производственная функция слишком гибка. Прежде всего, связывать всё это в единое целое глупо. Я представляю себе различные методы производства как кулинарные рецепты, в которых указаны даже такие моменты, как температура и прочее, а также то, что нужно знать, чтобы приготовить данное блюдо. Этот подход позволяет нам анализировать технический прогресс. Техническая производственная функция была, в сущности, попыткой не заниматься эмпирическим анализом. Понимаете, при наличии производственных функций он и не нужен. Вы делаете догадку относительно нескольких параметров вместо того, чтобы подробно анализировать происходящее, и если вы пытаетесь обобщить производственные функции, то это опасно, очень опасно.
Фоули: Что вы думаете о преимуществах и недостатках увязки отраслевых показателей с показателями фирмы или предприятия?
Леонтьев: Думаю, что институциональная структура производства, структура производства в разрезе предприятий в какой-то мере отражает технологию, но это очень тонкий вопрос, поскольку проблема того, как экономическая деятельность распределяется между различными создаваемыми людьми организациями, совсем не проста. Эта структура имеет определенное отношение к реальному распределению, но не прямое. Создаваемые людьми организации очень сложны. Вы можете осуществить эту увязку в одном отношении и не осуществить в каких-то других, но я согласен и с тем, и с другим подходом, особенно учитывая, что и предприятиями дело не ограничивается. Теперь даже предприятия имеют сложную институциональную структуру.
Фоули: Одна из практических проблем заключается в том, что когда вы дезагрегируете затраты и результаты, то обнаруживаете, что одна и та же фирма начинает появляться сразу в нескольких отраслях. Это также связано с поднятой вами ранее темой финансов. Финансы появляются на уровне фирмы.
Леонтьев: Полностью согласен, и здесь мы согласимся с необходимостью целостности, связывания воедино. Институциональные структуры меняются очень легко. Поэтому, если говорить об управлении, то фирма совершенно не отражает технологий. Одна и та же компания может производить мороженое и варить сталь. Этого, я думаю, избежать нельзя, но, возможно, в силу собственных интересов я скорее приветствовал бы подход «сначала предприятие – потом компания», поскольку предприятие – нечто однородное. И это очень интересная проблема.
Фоули: В чем, по-вашему, будущее экономической, и в частности, макроэкономической науки?
Леонтьев: Думаю, значение проблем распределения доходов возрастет. Как я уже упомянул, труд не будет больше играть такую роль, и главное будет заключаться в том, чтобы просто управлять системой. Люди будут получать свои доходы через систему социального обеспечения. Уже сейчас мы получаем их через социальное обеспечение и пытаемся придумать всякий раз предлог для оказания людям социальной помощи. Огромную роль при этом, полагаю, будет играть государство, и те экономисты, которые пытаются ее сейчас минимизировать, боюсь, демонстрируют поверхностное понимание того, как работает экономическая система. Мне кажется, если бы мы сейчас упразднили государство, то наступил бы полный хаос. Сегодня планирование, естественно, играет определенную роль, но я не считаю его основной функцией государства. Государство, на мой взгляд, имеет большое значение, и это значение в условиях научно-технического прогресса должно возрасти. Когда задумываешься над тем, что произошло бы с системой, если бы мы совершенно упразднили государство, то понимаешь, что это было бы ужасно.
Фоули: Но вы думаете, что это особенно справедливо из-за того давления, которое научно-технический прогресс при капитализме оказывает на общественное устройство, и из-за ослабления взаимозависимости между трудом и доходом?
Леонтьев: О да. Совершенно верно. Рынок труда – недостаточный инструмент для перехода от производства к потреблению.
Фоули: Задам вам еще только один вопрос. Вы всю жизнь наблюдали изнутри за тем, что происходит внутри сообщества американских экономистов и более широкого сообщества американских ученых и политиков. Если бы вы были антропологом, то как бы охарактеризовали экономистов – как особое племя или культуру по сравнению с физиками или биологами?
Леонтьев: Это зависит от того, каких экономистов вы имеете в виду. Ученые-экономисты – это просто часть научного истеблишмента, но, полагаю, что мы, экономисты, незаменимы как бухгалтеры. Чтобы управлять системой, нужно разделять взгляды и принципы менеджеров, и экономисты – это просто особая разновидность менеджеров, если не считать экономистов-ученых, которые не подпадают под это определение.
Фоули: А видите ли вы какую-либо разницу между учеными-экономистами и учеными других специальностей или инженерами-производственниками, с которыми работаете?
Леонтьев: В экономической науке существуют разные тенденции. Некоторые видные экономисты просто доказали пару теорем или переписали классические или неоклассические учебники.
Фоули: Вы имеете в виду, что экономисты выше ценят работы по классификации и формализации, чем те, которые позволяют узнать что-то новое о самом мире?
Леонтьев: Да. С моей точки зрения, это важное замечание. Поскольку меня интересуют проблемы общества, я считаю экономику общественной наукой. Экономисты обязаны, безусловно, вносить свой вклад в понимание того, как развивается человеческое общество, и здесь представители экономической науки должны сотрудничать с антропологами и другими учеными.
2. Интервью с Дэвидом Кассом
Беседовали Стивен Спир,
Университет Карнеги-Меллона,
и
Рэндалл Райт,
Пенсильванский университет,
13 февраля 1998 г.
Дэвида Касса, несомненно, можно назвать одним из отцов современной теории экономической динамики. Фундаментальный вклад в эту теорию он внес своими работами по проблемам оптимального роста, моделям перекрывающихся поколений, равновесию солнечных пятен, а также моделям общего равновесия с неполными рынками. Его изыскания во многом определили то, как мы сегодня занимаемся и микро-, и макроэкономическими исследованиями. Труды Касса сыграли важную роль в разработке современной макроэкономической теории: модели Касса-Купманса заложили основу теории реальных экономических циклов; анализ моделей экономической динамики, его общий инструментарий и методы позволили нам углубить понимание монетаристской теории, а также внесли огромный вклад в развитие экономики внешней неопределенности. Касс не только первоклассный ученый, но и яркая, в высшей степени свободолюбивая личность.
Проводя это интервью, мы хотели, прежде всего, получить информацию о биографии Дэвида Касса и его подходе к экономическим исследованиям. Также, учитывая название и целевую аудиторию журнала Macroeconomic Dynamics, мы пытались вовлечь его в обсуждение современной макроэкономической науки и того влияния, которое оказали на ее развитие его работы. Некоторые фрагменты нашей беседы ради экономии места были сокращены, но то, что осталось, практически не редактировалось. Как известно большинству читателей, Дэвид Касс долгое время сотрудничал с Карлом Шеллом.
Мы встретились с Дэйвом в его заваленном журналами, книгами и компакт-дисками кабинете на экономическом факультете Пенсильванского университета незадолго до обеденного перерыва. Он был в своих обычных джинсах и футболке и выглядел таким же взъерошенным, каким выглядит обычно. Мы поговорили немного в кабинете, затем продолжили за обедом, а потом вновь вернулись в кабинет, проведя за разговором несколько часов. Тот февральский день был не по сезону теплым, пятница, тринадцатое, если быть точным. Этот день принято считать несчастливым, но для нас, по крайней мере, он оказался очень удачным. Надеемся, что вы получите от этой беседы такое же удовольствие, какое получили и мы.
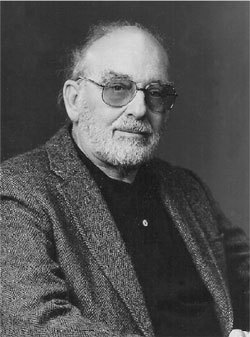
Рис. 2.1. Дэвид Касс, 3 июня 1994 г. по случаю присвоения ему Женевским университе том почетной степени док тора экономических наук
MD (Macroeconomic Dynamics): Давайте начнем с того, что поговорим о вашей учебе в аспирантуре и вашем наставнике Хирофуми Узава. Как вы впервые с ним познакомились?
Касс: О'кей. Программа подготовки аспирантов в Стэнфордском университете показалась мне совершенно бессистемной. Приведу вам один пример. В том году, когда я поступил в Стэнфорд, у них был устный квалификационный экзамен в первом семестре, и все понимали его полную абсурдность. В дальнейшем это требование отменили, но в тот момент экзамен уже был запланирован, и его решили оставить. У меня экзамен (а я в то время даже не знал точно своих преподавателей) принимали Кен Эрроу и кто-то еще. Узнав об Эрроу, я пришел в ужас. Когда Кен задал мне вопрос, я довольно глупо ответил. А у него есть эта способность принять чей-то ответ и затем отредактировать его таким образом, чтобы он показался очень содержательным. Вот мой экзамен и состоял из того, что я давал Эрроу короткие ответы, а он затем старался придать им какой-то смысл.
Главное заключалось в том, что они отменили требование обязательной сдачи этого экзамена, но все равно его провели, и это было типично. В Стэнфорде аспиранты были в основном предоставлены самим себе. Четкой программы не было. Я уже не помню точно, как впервые познакомился с Узавой, но там была группа экономистов-математиков, занимавшихся не на факультете, а в небольшом домике в кампусе, который назывался Серра-Хаус. В нее входили стэнфордцы, которых я особенно ценил: Эрроу, Узава, Скарф. Были там и другие специалисты по применению математики в социальных науках. Карл Шелл откуда-то знал о Серра-Хаусе с самого начала, и мы стали там заниматься.
MD: Вы и Карл поступили в один и тот же год?
Касс: Да. И именно Карл привел меня в Серра-Хаус. Не помню, как мы познакомились с Узавой, но как-то познакомились. Возможно, он вел семинар или что-то в этом роде. Было очевидно, что он действительно занимается наукой и хорошо руководит аспирантами, и мы к нему прикрепились. После этого последние два года в Стэнфорде (а всего я провел там четыре года) я в основном работал в Серра-Хаусе, сотрудничая с Узавой. Он постоянно вел семинары. На мой взгляд, Узава – ужасный лектор, но потрясающий педагог. Его величайшее достоинство заключается в том, что когда он вам преподает, то объясняет, как занимается наукой. Если он не подготовится, то расскажет вам о статье, над которой сейчас работает, об ошибках, которые сделал, и о том, как их можно исправить. Он объясняет, почему решил сделать то или это, и это все равно, как если бы вас учили проводить исследования.
Поэтому я прослушал у него несколько курсов и нашел их замечательными, но по обычным меркам они были, наверное, катастрофой. Он преподавал эконометрику и хотел рассчитать какую-то оценочную функцию, кажется, функцию оценки максимальной достоверности ограниченной информации, но, как выяснилось, почти ничего о ней не помнил. Полкурса состояло из того, что Узава приходил и начинал доказывать теорему об этой функции и тратил на это час или полтора, а потом вдруг понимал, что снова пошел не тем путем, и говорил: «Извините». В следующий раз он все начинал сначала – это было невероятно! Но это было интересно. У него действительно были хорошие мозги для того, чтобы выполнить работу с нуля и придумать, как решить проблему.
Учиться у Узавы было одно удовольствие. Работая с аспирантами, я стараюсь делать так, как делал Узава. Он относился к ним как к равным, и с каждым проводил массу времени, причем в разной обстановке. Не только в своем кабинете – он мог, например, пойти с аспирантом в бар или куда-нибудь еще. Он тратил на нас неимоверное количество времени. Теперь я думаю, что Узава, наверное, никогда не читал того, что я писал. Уверен, что не читал. Но он всегда хотел об этом поговорить. Он всегда вовлекал своих аспирантов в беседы, и на семинарах у него была группа таких вовлеченных аспирантов. Все аспиранты знали, кто из них что делает. Конечно, у него был свой конек – теория роста, а точнее, применение самых разных вариационных исчислений, принципа максимума, к моделям роста. Поэтому начало профессиональной деятельности у нас у всех было по сути одинаковым, но у меня по личным причинам уже с администрацией университета штата Пенсильвания возникли проблемы. Ее представители хотели, чтобы я не смешивал свою профессиональную деятельность с общественной, но я ответил, что это не соответствует моим представлениям о том, как нужно строить работу с аспирантами. Вот так я бы ответил на ваш вопрос о том, как я познакомился с Узавой, – а конкретные подробности нашей первой встречи я уже не помню.
MD: Знали ли вы уже тогда, что хотите заниматься теорией роста?
Касс: Вовсе нет.
MD: Какова была тема ваших исследований во время учебы в университете?
Касс: Экономика России.
MD: Экономика России?
Касс: Да. Это действительно странно, поскольку языки давались мне, наверное, хуже всего.
MD: Где вы учились?
Касс: В Орегонском университете. Я всегда считал, что должен стать юристом, так как в моей семье это традиция. Я отучился год в Гарвардской школе права и ненавидел каждую проведенную там минуту. В основном я занимался тем, что перечитывал великую русскую литературу и сдавал экзамены исключительно благодаря дедуктивному мышлению. Я запоминал несколько определений и от них отталкивался – этого вполне хватало. Затем я пошел в армию. Чего мне действительно хотелось, так это вернуться в аспирантуру и заниматься экономикой, поэтому я решил остаться на Западном побережье. Мне очень повезло. Я ничего не знал об аспирантурах, но похоже было на то, что выбирать следовало между Беркли и Стэнфордом. Чисто случайно я выбрал Стэнфорд, а не Беркли, но, думаю, это было чертовски хорошее решение, поскольку я попал к преподавателям действительно мирового класса.
MD: А почему вы решили в аспирантуре заниматься именно экономикой?
Касс: Мне нравилась экономика, и я понимал, что мой диплом – только верхушка айсберга. Тогда на занятиях только-только начинали использовать уравнения, и меня увлекла эта идея – идея формализовать общественную науку.
MD: Наверное, ваша математическая подготовка, когда вы поступили в аспирантуру, была довольно слабой?
Касс: На самом деле этой подготовки у меня вообще не было. В моем университете преподавали тригонометрию, алгебру, геометрию и все. Помню, что в первый день учебы в Стэнфорде я попал к преподавателю макроэкономики, которого звали Боб Слайтон. На первом же занятии он записал модель общего равновесия и решил рассчитать мультипликатор, являющийся просто производной от этой модели. Он исписал всю доску и одну из стен аудитории, а я не понял из всего этого ни слова. Я знал, что такое производная, но не знал, что такое частная производная. То, что он делал, называлось нахождением частной производной. Конечно, в те дни, занимаясь нахождением частной производной, люди на самом деле не понимали, что делают. Они записывали формы дифференциала, которые в дифференциальной топологии называются касательными пространствами, и занимались исчислением на комплексных многообразиях, но на самом деле в нем не разбирались. Этот метод еще не был освоен должным образом.
После этого занятия я пришел домой и сказал себе, что недостаточно подготовлен, чтобы учиться в аспирантуре по экономике. Поэтому я записался на математический анализ и статистику и высидел до конца все занятия Слайтона, а они были превосходны. Иное дело – занятия по микроэкономике. Их вел некто Мелвин Редер, специалист по экономике труда. В первый день он пришел, водрузил свои ноги на стол, сказал что-то уничижительное об экономической теории, и больше я к нему не ходил. Первый семестр я провел, изучая введение в матанализ и теорию вероятности. Теорию вероятности преподавал, как я потом узнал, специалист мирового класса. Это было замечательно, поскольку он иллюстрировал все понятия примерами. Потом вы могли легко подготовиться к экзамену, так как хорошо представляли себе, что это за предмет – теория вероятности.
MD: Ваша совместная работа с Карлом началась еще в Стэнфорде?
Касс: Нет. Самое забавное в Стэнфорде, и, возможно, это присуще и другим программам подготовки аспирантов, заключалось в том, что они отбирали людей, из которых, по их мнению, могли получиться звезды. Карл изучал математику в Принстоне и поступил в Стэнфорд, в основном, потому, что знал о Кене Эрроу. Карл был именно такой будущей звездой (лучшим выпускником его не выбрали, и я уже забыл, как звали того, кого выбрали, – он оказался полным разочарованием). Поскольку я решил в первый год не записываться на экономику, я редко общался с аспирантами-экономистами и с Карлом познакомился, наверное, только к концу второго года. Он привел меня в Серра-Хаус, где аспиранты Узавы работали все вместе, и мы знали проблемы друг друга и поэтому могли легко общаться. Но вообще-то никто из нас не писал работы совместно. Мы с Карлом стали писать вместе намного позже, в начале 1970-х, но опять-таки Карл знал мою диссертацию, а я знал диссертацию Карла, и то, как она готовилась, поэтому вопрос о том, кто и какой вклад сделал, будучи еще аспирантом у Узавы, всегда оставался открытым.









