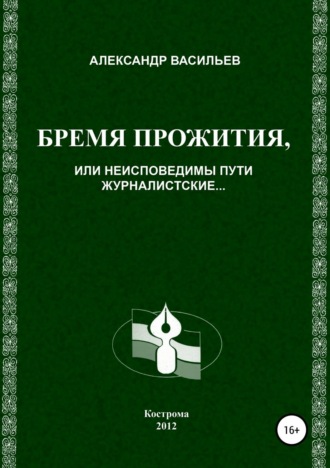 полная версия
полная версияБремя прожития, или Неисповедимы пути журналистские
– Покупают игрушки? – с видом заговорщика интересуюсь я у «девушки».
– Почти все уже разобрали, – охотно консультирует она. – Говорят, у московской фирмы-поставщика тоже ничего не осталось.
Кто сказал, что мы плохо живем?
Шары в универмаге китайские, из стеклопластика, НЕБЬЮЩИЕСЯ! Высокое понятие – ШАР! – низведено до уровня ширпотреба. Минус – хрупкость создавала вокруг него ореол святости. «Надо же, десятый год на елку вешаем, а он еще не разбился!»
«Детский мир» патриотично торгует нашими игрушками. Выбор богатый: больше десяти видов шаров среднего размера по шесть пятьдесят, многовариантные сосульки по пятерке, широкий ягодно-овощной ассортимент, верхушка а-ля красный минарет за 15 рэ, а также мишура, «дождь», хлопушки, бенгальские огни и даже резиновые (!) деды-морозы со снегурочками от 25 до 35 рублей в зависимости от размера. При желании и наличности можно нарядить елку с одного захода в «Детский мир».
Простуженная продавщица пояснила, что игрушки берут, но без ажиотажа. Подорожали несильно, аналогичный шар стоил прошлый год пять рублей.
Китайскую мишуру от 3 до 15 и электрогирлянды от 25 до 70 предлагают на каждом углу уличные торговцы, в том числе в подземном переходе к автовокзалу.
Пик спроса на новогоднюю атрибутику придется традиционно на последнюю декаду декабря.
* * *
P.S. Заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Костромы Татьяна Гризель рассказала, что торговля елками нынче будет шире, чем в былые годы: больше поставщиков елок и мест продажи. А вот реализация взрывной пиротехники в мелкорозничной торговле и молодым людям до 14 лет запрещена. Может быть, такая мера стреножит распоясавшихся пацанов, которые оглушительными взрывами петард круглосуточно пугают законопослушных граждан.
«Северная правда», 17 декабря 1998 г.
Праздничный взгляд
РАССКАЖИ, СНЕГУРОЧКА, ГДЕ РОДИЛАСЬ?
«Расскажи, Снегурочка, где была?» – поется в популярной детской песенке. Где обедал воробей, мы знаем. В зоопарке у зверей. Но где же на самом деле была Снегурочка? Кто она? Откуда родом? И вообще, «кто тебя выдумал, звездная страна, снится мне издавна, снится мне она».
Все мы родом из детства. У каждого в укромном уголке души хранятся короткие и порой бессвязные, но яркие и сочные воспоминания из «прекрасного далека», круто замешанные на… сказках. Иван-царевич объезжает Серого Волка, Илья Муромец бьет в лоб (в три лба!) Змея Горыныча, Соловей-разбойник устраивает на опушке дискотеку, Василиса Прекрасная без кондиционера за косой ухаживает, Баба Яга с Кощеем флиртует, а на все это тридевятое царство-государство с высоты полатей посматривает хитрован-бездельник Емеля, как обычно, объевшийся блинами.
Поэтому те, кто относит зазнобу Снегурочку к этому пестрому мировому сообществу людей доброй воли, абсолютно правы. С ними согласен толстенный академический словарь русского языка: «Снегурочка – героиня русской народной сказки, девушка, вылепленная из снега и ожившая, дочка Деда Мороза». В унисон вторит господин С.И. Ожегов: «Снегурочка – сказочная снежная девушка, растаявшая весной».
Но почему нашему Деду Морозу, в отличие от импортного Санта-Клауса, обязательно требуется помощница? По-академическому – дочка, по-народному – внучка. Старый да малый? Или «без женщин жить нельзя на свете…», потому как «мы с Тамарой ходим парой»? Вопрос остается открытым.
Добропорядочные граждане, успевшие по воле судьбы и родителей пройти курс среднего образования на просторах союза нерушимого республик свободных, наверняка наслышаны о Снегурочке из одноименной пьесы А.Н. Островского. Не сомневаюсь, что нынешнее поколение постсоветских людей, выбравшее «Пепси» и устраивающее поминки по тамагочи, ни сном ни духом не ведает о всяких там Лелях, Купавах, Мизгирях и прочих берендеях. Вот если игру для «Денди» запрограммируют «по мотивам» Снегурочки, тогда другое дело. (Некто Римский-Корсаков, кстати, одноименную оперу сочинил.) Можно предположить, что в «Снегурочке-ниндзя» Мизгирь уйдет от Купавы в публичный дом, по пути прострелив из лазерного пистолета парочку марсианских звездолетов, на которых прилетали зеленоголовые, чтобы выкрасть семь алмазов из берендеевой короны. У Леля кончатся все жизни, и его сожрут страшные членистоногие пауки. А Снегурочка путем интриг совратит царя Берендея, и тот отдаст ей власть – «И будешь ты царицей мира!» – и со стыда уйдет в монастырь. Или эмигрирует.
Патриархально дремлет укутанное снегами Щелыково – однозначная родина Снегурочки. Стройные сосны и горделивые ели стоят в снежном убранстве не шелохнувшись. Лишь изредка черный ворон, верный дозорный царя Берендея, скользнет крылом по пушистым верхушкам. Здесь прожила яркую, как вспышка, 15-летнюю жизнь всеобщая любимица Снегурочка. Дочка Мороза и Весны, она хотела любить, вымолила у богов свое счастье, но свежий цветок в темном царстве людей мгновенно сгорел синим пламенем. А на том месте теперь родничок с прозрачно-голубой чистой водой, со дна которого бьет ключик – не растаявшее Снегурочкино сердце…
О времена, о нравы! Век назад боролись за право любить. Доборолись до порнухи на каждом углу. Штольц, уже ясно, никогда не будет счастлив в своей крутизне. Ильюшенька, однако, духовней, хоть и лежебока. Согласилась бы на такой шантаж Богов – на тебе любовь, но погибнешь, – современная Снегурочка? Страшен пожар любви, но кто прошел через это горнило, оглядываются назад с удивлением: надо же, какие мучения пришлось пережить, но это и было счастье. Плохо только, что не все выходят из пламени, боги постоянно собирают дань в виде пылающих человеческих душ.
Но хватит о пожарных страстях. До весны далеко, а Новый год на носу. А в это время Снегурочка дарит всем радость, счастье и веселье. И подарки, конечно. И светлые надежды! И веру, и любовь!
«Северная правда», 24 декабря 1998 г.
Жизнь без прикрас
В Москву! на заработки
Дорогая моя столица в представлении ошалевших от провинциальной нищеты костромичей – давно не доенная, отяжелевшая от молока корова, которую тронь за вымя – и молоко брызнет тугой струйкой. Откочегарив зиму (работа истопником), трое наших земляков – Иван (под 50), Петр (за 40) и Василий (40 лет), пытаясь компенсировать безработно-безденежное лето, отгудев майские праздники, ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКВУ НА ЗАРАБОТКИ. Через два месяца они вернулись и поделились пережитым с корреспондентом «СП».
Москва шокировала неразлучную троицу ценами на пиво. Обидевшись, они пропьянствовали вечер у Ивановой московской родни. На следующее утро родственник на своей машине отвез работяг километров за сто по Ленинградскому шоссе, высадил в пределах дислоцированной здесь лесоторговой базы, облегченно вздохнул и уехал. Расквартировались на нарах в раскуроченном вагончике и продолжили пропивать «стольники», выданные женами «на дорогу».
К утру деньги кончились. Иван, как старшой и бывавший в этих местах, повел друзей к «знакомой женщине», которая оказалась местным «работником торговли», к костромичам отнеслась лояльно и заказала за 400 рублей сколотить в саду туалет в виде терема. Первый подряд делали дрожащими руками, но на совесть. Хозяйка осталась довольна.
Отгудев на радостях ночь и обнаружив поутру свою невостребованность прорабами лесоторговой базы, вновь направились проторенным путем. Лояльная дама на этот раз пожелала иметь крыльцо, озадачила мужиков словесным проектом и отбыла по делам. К вечеру крыльцо сколотили, но вернувшаяся не в духе дама исполнение непечатно раскритиковала, конструкцию приказала разобрать и денег не дала.
В этот вечер гудели с горя. Утро застало мужиков небритыми, опухшими, голодными и холодными. Но с его приходом в вагончике взошло еще одно солнце красное – заявился «царь и бог», прораб базы Миша. Привыкший к непотребности вагончиковых постояльцев, он не удивился их моральному облику и задал свойственный трезвенным людям конкретный вопрос: «Дом сможете поставить? А то у нас брянская бригада запила…» «Сможем!» – загоношились мужики, хотя домов раньше строить не приходилось.
Под белы руки их усадили в машину, снабдили инструментами, увезли за полсотни километров в закрытый, со шлагбаумом, дачный поселок и высадили на шести сотках, где уже стоял слепленный брянцами кривоватый фундамент. Разместились на нарах оставшегося после запойных брянцев вагончика, выровняли недоделки фундамента и начали на практике учиться строить дом, сколачивая брус гигантскими 250-миллиметровыми гвоздями.
Прораб Миша появлялся чуть ли не каждый день и подгонял строителей: быстрей, быстрей. Он скептически оглядывал растущий сруб, но от комментариев воздерживался, видимо, его устраивало даже такое качество. «Царь и бог», он в то же время был мальчиком на побегушках. Потребовалась пила – на следующий день везет, другие инструменты – пожалуйста, попросили картошки достать – мешок привез. На питание мужиков постоянно авансировал, и они жили на широкую ногу: покупали тушенку, пельмени и… водку, без которой не обходился ни один вечер.
Работу начинали с шести утра, по холодку. К 11 жара смаривала. Но чаще кончали по болезни. Иван и Петр оказались хрониками: первого мучила язва желудка, второго – поджелудочная, и он постоянно глотал фестал. Вторую смену начинали около пяти вечера и тюкали до темноты, ругаясь друг на друга, как сапожники, уча и советуя, как надо правильно строить. Расшатанная непрерывным запоем нервная система компенсировалась через ор и крик. Но доски все равно отрезались не по размеру, брус искривлялся, и стена, по словам Василия, становилась как пропеллер.
Хозяин шести соток наведывался часто. Он работал в автосервисе и оказался нормальным, покладистым мужиком без новорусского гонора и начальственных окриков. Иногда с ним приезжала жена, медик, отзывчивая женщина. Когда Василий опрокинул на себя электроплитку с кипящей похлебкой и нога от колена до щиколотки вздулась огромными волдырями (после чего болезненными инвалидами стали все трое), жена хозяина обработала раны, а на следующий день привезла уйму импортных дорогущих препаратов и лечила Василию ногу, делая перевязки.
Жили как в лесу: ни газет, ни радио, ни телевизора. Информационную оторванность ощущали остро, каждый день гадали: как-то там война в Югославии? Отсутствие газет приводило к сангигиенической проблеме.
Чудо, но в такую жару и при такой антисанитарии удалось обойтись без желудочных расстройств. Спасала, очевидно, артезианская вода и… водочная блокада кишечного тракта.
Окончание стройки – аврал. К назначенному часу приехал прораб, хозяин с расчетом, а они еще доделывали, доколачивали. Хозяин, как ни странно, остался доволен и с прорабом рассчитался сполна. Но Миша мужикам денег не дал, сказал: «Получите, когда второй дом построите. Вы вроде мужики работящие, не сильно (!) запойные, работайте. А деньги пусть у меня полежат, вам же лучше».
И как в воду глядел. Рэкет на мужиков наезжал два раза. Сначала приехали блатные. Узнали, что прорабом у них Миша, и уехали. Второй раз явились люди серьезные. Без лишних разговоров в поисках денег перерыли весь вагончик, сумки и выспросили, что прораб Миша работает на лесоторговой базе. Миша на следующий день не придал этому происшествию особого внимания и лишь покрутил пальцами вверху: «У нас «крыша» о-го!» Работавшие на соседнем участке молдаване вытребовали у своего прораба аванс, рэкетиры нашли тайник и отобрали у них 700 долларов. Возможно, сам прораб за процент стукнул рэкету.
Второй дом ставили без наивных ошибок, но все с той же истеричной похмельной скандальностью. Хозяин (компьютерщик) оказался своим парнем, настаивал на архитектурных излишествах и платил за них, минуя прораба. Этих денег за глаза хватало на питание. Раздобыли радиоприемник и возобновили приобщение к мировым новостям, без которых, как без наркотика, не могли жить, круглосуточно слушая «Молодежный канал».
При сдаче объекта без аврала опять не обошлось, назначали на пять, закончили в восемь. Торопились ужасно, так как решили после выплаты денег уехать в Кострому автобусом. Получив деньги от хозяина, прораб Миша полностью рассчитался с мужиками. (Взяв за свои посреднические труды ровно половину). Вышло за два месяца тысяч по 15 на брата. По костромским меркам бешеные деньги. Прораб мужиков похвалил и предложил оставаться работать до конца лета, но они уже нацелились домой, устали без семьи, без детей.
Понимая причины спешки – с большими деньгами страшно, хозяин любезно предложил подбросить на своей машине мужиков до автовокзала в Щелкове. Дорогой дал дельный совет, которому троица последовала и сохранила деньги. В спешке аврала побриться из троих успел только один, двое выглядели чисто бомжи – грязные, заросшие, с топорами и пилами в брезентовых сумках. Нетрудно догадаться, что справляются с заработков. Выбритому, чисто одетому Ивану отдали деньги, оставив себе по сто рублей на пиво и сигареты. Он держался в стороне, как чужой.
Хозяин не ошибся в знании жизни. За 15 минут до отхода автобуса мужиков замела милиция. Майор в участке допрашивал круто: «Кто такие? Откуда? Почему в паспортах нет временных штампов, если вы гостили у родственников? Это по твоей части», – сказал майор здоровому омоновцу, и тот: «Руки на стену, ноги врозь», – устроил мужикам шмон. Обнаружив всего по 100 рублей, очень удивился.
– Куда деньги дели?!
– Нет у нас денег, – огрызнулся Петр, – у нас автобус отходит.
– За хлопоты беру половину, сто рублей, – рявкнул омоновец, – и чтоб духу вашего здесь не было!
Появившиеся на перроне мужики старались не смотреть на Ивана: трое милиционеров не спускали глаз со сладкой парочки. Слава Богу, у Ивана хватило сообразительности не кинуться в милицию «выручать» мужиков.
До дома добрались без приключений и на радостях неделю пили, примеряя новые цветные рубашки, джинсы и кроссовки, накупленные женами, и поражаясь в пелене похмельного синдрома небывалой наполненности холодильников.
Иван, человек бывалый, через неделю другую вновь собирается в Москву, отделывать построенные дома, он и с хозяевами договорился. Петр на заработки больше не хочет, говорит, что поджелудочная болит и рука немеет. У Василия свои обстоятельства не ехать, он собрался к семье, которая постоянно живет в Крыму.
…Москва настолько наполнилась выкачанными из провинции деньгами, что они переливаются через край и тоненькими ручейками текут назад. А может, все возвращается на круги своя? Испокон веков костромская деревня промышляла отходным промыслом, мужики уходили в города ставить дома, класть печи, рыть колодцы. Видимо, закончился 70 летний исторический вывих, и народ, как встарь, начнет ездить в столицу на заработки, а не за колбасой.
«Северная правда», 4 августа 1999 г.
ВИНО-ВОДОЧНЫЕ АГЕНСТВА НА ГАЛИЧЕСКОЙ И БУЛЬВАРЕ ПЕТРКОВСКОГО
Уж сколько раз твердили миру, что когда газета разыгрывает читателей, обязательно найдутся граждане с иным чувством юмора, которые доверятся, озлобятся и… испортят праздник. Безопасней посмеяться над собой, особенно разув глаза и попристальней вглядевшись в то, в чем мы живем. Умение (желание) посмеяться над собой – признак силы духа и здоровой психики.
Сколько ошибок в заголовке? Четыре! Мы их не придумывали, их родила окружающая действительность.
Опустим вопрос, украшает или портит город разноликая реклама. Вчитаемся в призывы и вдумаемся в суть.
Рекламный щит на площади Конституции пугает прохожих новым написанием слова агентство – АГЕНСТВО.
Угловой магазин на пересечении улиц Калиновской и Галичской с недавних пор украсился световой рекламой УЛ. ГАЛИЧЕСКАЯ. Хотели как лучше, а получилось… с ошибкой.
В мэрии точно знают, сколько в городе винно-водочных магазинов. Но сколько из них сэкономили на одной букве «н» в вывеске и назвались ВИНО-ВОДОЧНЫМИ, не знает никто.
Мэрии удалась роль ликвидатора коммерческих киосков. Сколько их, с шикарно-красивыми названиями типа «Фиалка», «Пицунда», приказали долго жить? Но неисчислима рать ларечная. Тяга ларькобаронов к красоте иностранных слов заводит их не «в ту степь». Среди оставшихся «комок» под названием «Фобос». Любители кроссвордов знают, что Фобос – спутник Марса. Марс – бог войны. Поэтому его спутники названы со смыслом: Фобос и Деймос, что с греческого на русский переводится как страх и ужас. Не зря ведь фобии – страхи. Слабо назвать ларек «Ужас» или «Страх»? Слабо! «Фобос» звучит красивее, по-космическому.
А взгляните на ценники… Торговля относится к их написанию с присущей ей широтой души. Красивый ценник, компьютерная графика, а на нем – ТУШОНКА, СГУЩОНКА, карамель «КРОНВЕРГ». Особенно достается безмолвной рыбе. Леща обзовут – ЛЕЩЬ. А вот в названии рыбной мелочи, наоборот, мягкий знак опустят – МЕЛОЧ. Никак не может прибиться к русскоязычности заграничная рыба путассу, которую именуют ПАТАСУ.
Хохлятский наркотик, сало по-домашнему, впрямую – шпик – называть почему-то не хотят, маскируют под ШПИГ. Второго, шпионского смысла стесняются?
В запале борьбы с пассажирами в городском транспорте автобусы украсили объявлениями «ПРОЕЗДНЫЕ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ». Карающий меч, может быть, и опустится на ни в чем не повинные головы действительных членов пассажиропотока, но не раздельно, а слитно. Дверь в автобусах открывается ВО ВНУТРЬ, хотя надо бы ей открываться вовнутрь, а еще лучше – просто внутрь.
Но давайте выберемся из душного автобуса вновь на площади Конституции, пересчитаем пуговицы и скажем: «Больше рекламы хорошей и разной». Но… грамотной.
Куда идет толпа с этой остановки? Правильно, на БУЛЬВАР ПЕТРКОВСКОГО, самое посещаемое в последние годы место Костромы. Но вряд ли кто из многих тысяч желающих прибарахлиться задумывается, кто же такой был товарищ Петрковский, чтобы в его честь назвали такую популярную улицу.
История свидетельствует, что товарища Петрковского не было и в помине. А бульвар назван двадцать лет назад в честь польского города-побратима Петрков-Трибунальского, который, следует полагать, является центром Петрковского воеводства. Если бы поляки захотели увековечить в своих пределах наш славный город Кострому, то они назвали бы улицу Костромская, а бульвар – Костромской, а не Костромского. У нас также есть улицы, названные в честь других городов – Ярославская (но не Ярославского), Московская (но не Московского), шоссе Кинешемское (но не Кинешемского). Почему же бульвар Петрковский называется бульваром Петрковского?
Как живем, так и пишем. Или пишем, как живем?
«Северная правда», 1 апреля 1999 г.
Торговое обозрение
СИДИТ МИЛКА НА КРЫЛЬЦЕ С ВЫРАЖЕНЬЕМ НА ЛИЦЕ
Усилия мэрии по сосредоточению частнопрактикующей торговли на малой земле мини-рынков не пропали даром. В городе дислоцировано 13 таких плацдармов. Но сбылись ли мэрские благие намерения? Изгоняли торгующих с улиц, прикрываясь самой благородной идеей – защитой прав потребителей. Мол, за бастионами мини-рынков наведем железный порядок! Не будет здесь ни обвесов, ни обсчетов, ни «осетрины второй свежести». Хотели как лучше, а получилось как всегда?
Человеческая натура, грузно усевшись за «благоустроенный» прилавок мини-рынка, своих хитрованских повадок не утратила. Она, натура, по габаритам, может быть, и приглянулась бы живописателю базарного колорита Кустодиеву, но сидят иные «милки» с другим «выраженьем на лице». «Выражает то лицо» отнюдь не кротость, томность и негу венерианской богини. А неприкрытое желание некоторых облапошить простака-покупателя. Что, с присущей дотошностью, выявила во время очередного рейда госторгинспекция.
Ах, чего только нет на наших мини-рынках! Ассортимент богатейший! Вот, например, на мини-рынке у цирка продавец торгует с лотка слипшимися пельменями. Разлепить их госторгинспекция не смогла, а потому забраковала и сняла с продажи. Как и два сорта полукопченых колбас – «Дачная» и «Одесская», записав в акте отвратительное по отношению к колбасе слово – «осклизшая». Продавца оштрафовали на 333 рубля 96 копеек.
А вот на мини-рынке в Давыдовском предприниматель торгует сосисками. Присмотревшись к этикетке, госторгинспекция с удивлением обнаружила, что срок хранения истек еще в прошлом году. Конечно, сосиски забраковали и сняли с продажи. Все 13 упаковок. За это, а также за многое другое – отсутствие накладных, качественных удостоверений на скоропортящиеся товары, сертификатов соответствия и прочее предприниматель оштрафована на 4 тысячи 174 рубля 50 копеек.
На рынке «Универсал» предприниматель предлагала покупателям куриный фарш, предельный срок реализации которого истек 11 дней назад. А фарш, между прочим, на прилавке может находиться всего 48 часов.
Раньше бывало, что какая-нибудь райповская Зинка дурила головы деревенским бабкам, гоняя туда-сюда костяшки на счетах и выпевая речитативом: «Сорок да сорок – рупь сорок. Спичек брали? Нет?! Рупь шестьдесят!» Теперь отдельные «милки» блудят в клавиатурах калькуляторов.
Предприниматель на рынке «Универсал» продала товара на 36 рублей 20 копеек, обсчитав при этом покупателя на 50 копеек. Что трансформировалось для нее в 83 рубля 49 копеек штрафа. Предприниматель Веселова на мини-рынке у цирка «прокололась» на контрольной закупке. У нее покупали товара на 17 рублей 7 копеек, а она потребовала 17 рублей 50 копеек.
Год прошел, как накатила и отступила шумная волна введения «мягких» чеков. А их как не было, так и нет.
Предприниматель Е. Москалева на рынке «Универсал» продала на контрольную закупку набор чайной посуды за 50 рублей, но чек не выдала. Да и не смогла бы при всем желании, так как у нее самой чековой книжки не было. Кроме того, у нее отсутствовала информация о месте регистрации, документы о происхождении товара и его безопасности. Штраф – 4174,5 рубля.
Предприниматель Л. Борисова торговала промтоварами на мини-рынке у цирка. Отсутствовали вывеска о принадлежности ларька, ценники на товарах, сертификаты на товары детского ассортимента, приходные документы на товары, чек об уплате за местовое, книжка товарных чеков, зарегистрированных в налоговой инспекции. При контрольной закупке детской водолазки за 23 рубля выдать чек не смогла даже после просьбы покупателя. Штраф – 4174,5 рубля.
У предпринимателя Т. Кузьминой на мини-рынке у цирка также не оказалось документов на товары, сертификатов на детскую одежду. Продав мужские тапки за 10 рублей и получив деньги, товарный чек не выдала. В тетради реализации товаров записи не велись почти месяц. Штраф – 4174,5 рубля.
Проверив пять мини-рынков, госторгинспекция на всех выявила нарушения правил торговли и Закона РФ «О защите прав потребителей». Есть о чем задуматься этим самым потребителям, то есть нам с вами, уважаемые читатели.
Буквально на днях мне самому довелось наблюдать на мини-рынке в Панове прелюбопытнейшую картину. На прилавке у «милки» лежали куски импортных окороков, грудинок, ветчины, бекона и т.д. По всей вероятности, давно просроченные и купленные по дешевке, а то и вообще доставшиеся даром, может быть, даже с помойки, куда попали из блюдущего честь гастронома. Дело в том, что все это мясное изобилие лежало без привычных пластиковых оболочек, на которых указывается срок реализации. Рядом, привлеченные пикантным запахом, пускали слюну две дворняги. Народ, проходя мимо, брезгливо отворачивался, а «милка» упорно торговала. Сама не ест, собакам не дает, покупателям предлагает!
В заключение повторю вывод, оставшийся неизменным на протяжении всех торговых обозрений «Северной правды».
Будем бдительны – дольше проживем!
«Северная правда», 13 марта 1998 г.
Костромская область: время перемен
ЖИЗНЬ КАК ЗЕБРА, или ГОСЗАКАЗ НА ПОЗИТИВ
На вопрос «Как жизнь?» среднестатистический костромич отвечает:
– Как детская рубашонка.
– Как это?
– Короткая и местами обгаженная.
Что с нами, люди? Почему мы такие озлобленные, недоверчивые, постоянно готовые ответить колкостью, насмешкой. Дескать, а не замай! Почему во всем видим только плохое? И даже то небольшое хорошее, что в нашей жизни в конце концов начало происходить, тут же стараемся превратить в плохое.
Можно верить, что нынешнюю реальность нам навязали: от распада СССР до госдолга по тысяче долларов на каждого. Но всеобщую озлобленность (бей своих, чтоб чужие боялись?) кто нам навязал? Сами придумали, сами создали, сами живем в этом дурно пахнущем болоте.
Продавцы в магазинах хорошо знают определенный сорт покупателей, которые приходят не за товаром, а поорать, нахамить, оскорбить. Око за око, зуб за зуб. Торговля тоже постоянно держит наготове ругательный запас. И пошло-поехало! Скандал до небес, красные лица, гипертонические кризы! Кто нам это навязал? Сами заварили, сами хлебаем полной ложкой.

