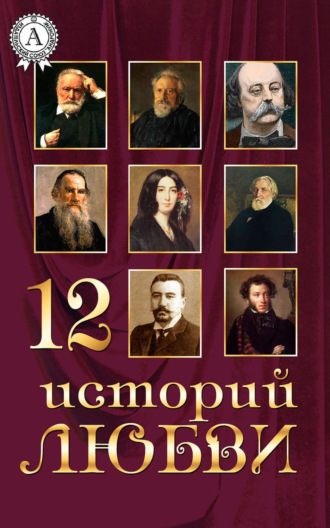
Полная версия
Евгений Онегин 6
За балюстрадой башни, как раз под тем мостом, где остановился Клод, находился один из тех искусно высеченных каменных водостоков, которых было всегда немало при готических зданиях, и в одной из расщелин этого водостока два красивых, цветущих левкоя, колеблемых ветром, как будто кивали головками и приветствовали друг друга с добрым утром. А высоко над башнями, в поднебесье, раздавалось веселое щебетанье птичек.
Но Клод ничего этого не видел и не слышал. Он принадлежал к числу тех людей, для которых не существует прекрасного утра, птичек, цветов. Изо всего этого обширного и разнообразного кругозора внимание его было сосредоточено на одной только точке.
Квазимодо ужасно хотелось спросить его, что он сделал с цыганкой. Но архидиакон, казалось, был в эту минуту не от мира сего. Он, очевидно, находился в одном из тех наряженных моментов жизни, когда человек не заметил бы, как под ним обрушилась бы почва. Устремив глаза в одну точку, он оставался неподвижен и молчалив, и в молчании и неподвижности этой было нечто столь страшное, что звонарь, не принадлежавший, однако, к трусливому десятку, дрожал и не решался заговорить с ним. Он только, – и это было своего рода вопрошанием архидиакона, – стал следить взором за направлением взглядов последнего, и таким образом взор несчастного Квазимодо упал на Гревскую площадь.
Тут он увидел то, что занимало Клода. К виселице приставлена была лестница. На площади было несколько народу и много солдат. Какой-то человек тащил через площадь что-то белое, к чему прицепилось что-то черное, и, наконец, остановился возле виселицы. Но тут случилось что-то такое, чего Квазимодо не мог хорошенько рассмотреть. Не то, чтобы его единственный глаз не отличался необыкновенною остротою зрения, но какой-то толстый солдат стоял как раз перед виселицей, и из-за него Квазимодо нехорошо было видно, что там происходит. К тому же, как раз в эту минуту на горизонте показалось солнце и залило всю картину таким ярким светом, что, казалось, будто все шпицы, башни и трубы Парижа разом были объяты пламенем.
Однако, человек, тащивший что-то через площадь, принялся взбираться на лестницу, и тут Квазимодо мог рассмотреть, что он нес на плече какую-то женщину, по-видимому, молодую девушку, одетую в белое, и на шее этой женщины была надета петля. Квазимодо тотчас же узнал ее: – то была она.
Человек этот добрался до верхней ступеньки лестницы, и там что-то поправил у петли. В это время Клод, чтобы лучше рассмотреть, взобрался на перила.
Вдруг человек этот быстро оттолкнул каблуком лестницу, и Квазимодо, уже в течение нескольких секунд затаивший дыхание, увидел, как на веревке, на высоте трех аршин от мостовой, закачалась несчастная молодая девушка, на плечи которой вскочил палач. Веревка несколько раз перевернулась, и Квазимодо ясно мог различить, как по всему телу цыганки пробежали судороги. Клод, со своей стороны, вытянув шею и, не сводя глаз с виселицы, казалось, любовался этой страшной группой, – палача и молодой девушки, паука и мухи. В самую страшную минуту, демонический смех, смех, которым может смеяться только существо, переставшее быть человеком, исказил лицо архидиакона. Квазимодо не мог расслышать этого смеха, но он видел его.
Звонарь отступил на несколько шагов от Клода, и вдруг, яростно ринувшись на него, столкнул его обеими дюжими руками своими в пропасть, над которою тот наклонился.
– Проклятие! – имел только время воскликнуть архидиакон, и тело его исчезло в пространстве.
Но как раз под тем местом, с которого его столкнул Квазимодо, проходила водосточная труба. Он успел схватиться за нее руками, и в то самое мгновение, когда он раскрывал рот, чтоб испустить второй крик, он увидел над головой своей, па краю балюстрады, страшное и мстительное лицо Квазимодо.
И он не крикнул. Под ним была бездна. Его ожидали падение с высоты более двухсот футов и булыжная мостовая.
В этом ужасном положении архидиакон не произнес ни единого слова, не испустил ни единого крика. Он делал только сверхъестественные усилия, чтобы взобраться по водосточной трубе. Но его руки не могли ухватиться за гладкий гранит, а ногами своими он только царапал почерневшую стену, не будучи в состоянии уцепиться за нее. Те, которые взбирались на колокольни собора Богоматери, знают, что как раз под перилами идет небольшой каменный выступ. На нем-то и старался удержаться несчастный архидиакон, но нога его постоянно соскальзывала с него.
Квазимодо, для того, чтобы спасти его, достаточно было бы протянуть ему руку. Но он даже и не смотрел на него: взор его был устремлен на Гревскую площадь, на виселицу, на цыганку. Он облокотился о перила на том самом месте, на котором за минуту перед тем стоял архидиакон, и стоял здесь неподвижно и безмолвно, как человек, пораженный молнией, не отводя глаза своего от единственного предмета, который существовал в эту минуту для него на свете; слезы ручьями лились из этого глаза, который до сих пор пролил одну только слезу.
Тем временем архидиакон продолжал барахтаться. Холодный пот выступил на его лысом лбу, пальцы его рук были оцарапаны до крови, он сдирал себе кожу с колен об стену. Он чувствовал, как ряса его, зацепившаяся за водосточную трубу, трещала и расползалась по швам при малейшем его движении. К довершению его несчастья, труба эта оканчивалась свинцовым желобом, который гнулся под тяжестью его тела, и он это чувствовал. Несчастный отлично сознавал, что когда его руки отекут от усталости, когда ряса его окончательно разорвется, когда свинцовая труба эта лопнет, ему придется полететь в бездну, и мурашки пробегали по всему его телу. По временам он бросал растерянный взор на небольшую площадку, выступавшую из стены на несколько десятков футов под ним, и он в отчаянии своем молил небо, чтобы ему дано было окончить свою жизнь, хотя бы она продлилась еще целую сотню лет, на этом узком пространстве в два квадратных фута. Он решился было заглянуть вниз, на площадь, в бездну, но тотчас же снова поднял глаза кверху, – и немногие оставшиеся на голове его волосы встали дыбом.
Молчание, которое хранили оба эти человека, представляло собою нечто ужасное. В то время как архидиакон испытывал в нескольких шагах от Квазимодо такие адские муки, последний глядел на Гревскую площадь и плакал.
Клод, убедившись в том, что все его движения ведут только к тому, что еще более расшатывают единственную оставшуюся у него хрупкую точку опоры, решился не шевелиться. Он остался висеть на водосточной трубе, еле переводя дыхание, не шевелясь, не делая иного движения, кроме того судорожного вздрагивания, которое замечается у людей, видящих во сне, будто они падают. Он болезненным и каким-то удивленным образом вытаращил глаза. Но он чувствовал, что силы его мало-помалу слабеют, что руки его скользят по трубе, что руки его теряют способность выносить тяжесть его тела, что свинцовый желоб все более и более гнется, медленно приближая его к бездне. Он с ужасом увидел под собою крышу одного из приделов собора, казавшуюся ему с высоты величиною в крышу карточного домика. Он обводил глазами статуи, стоявшие неподвижно и бесстрастно на своих местах, над тою же бездной, как и он, но не дрожавшие за свое существование. Все вокруг него был камень: рядом с ним – статуи и чудовища, под ним – мостовая, над его головою – плачущий Квазимодо.
На Папертной площадке стояла кучка народа, глазевшая на висевшего на водосточной трубе человека и старавшаяся угадать, кто это забавляется таким странным образом. Клод ясно слышал, – ибо голоса их долетали до него в свежем и чистом утреннем воздухе: – Да ведь он сломит себе шею!
А Квазимодо все плакал.
Наконец, архидиакон, у которого на губах выступила пена ярости и ужаса, понял, что все было тщетно. Он, однако, собрал остаток своих сил для последнего усилия. Он обхватил коленами водосточную трубу, уцепился руками за расщелину в стене и успел таким образом подняться приблизительно на один фут. Но в это время лопнул свинцовый желоб, о который он упирался, и в тот же момент от сделанного им движения разорвалась его ряса. Тогда, поняв, что все конечно, он зажмурил глаза, разжал кулаки, выпустил из рук водосточную трубу – и стремглав полетел вниз.
Квазимодо видел это падение.
Падение с такой высоты редко бывает перпендикулярно. Сначала Клод падал головою вниз, с вытянутыми вперед руками, но затем он несколько раз перевернулся на воздухе вокруг самого себя. Ветер отнес его тело к одному из нижних выступов, о который несчастный сильно расшибся, хотя и не до смерти; по крайней мере, звонарь увидел, как он старался уцепиться за крышу пальцами. Но крыша была слишком поката, и силы несчастного ослабели. Он соскользнул с крыши, как отделившаяся от нее черепица, и грохнулся об мостовую. Здесь он остался лежать без движения.
Тогда Квазимодо снова перевел свой взор на цыганку, тело которой он видел вдали, судорожно вздрагивавшим в последней агонии под белым платьем ее. Затем он взглянул вниз, на площадь, на труп архидиакона, не сохранивший даже образа человеческого, и произнес с рыданием, вырвавшимся из глубины души его:
– О, вот все, что я любил!
III. Женитьба Феба
В этот день вечером, когда состоящая при епископе стража явилась на Папертную площадку, чтобы подобрать обезображенный труп архидиакона, оказалось что Квазимодо исчез из собора.
Об этом происшествии ходило немало толков, Большинство суеверных парижан было уверено, что настал тот день, в который, согласно состоявшемуся между ними уговору, Квазимодо, т. е. дьявол, унес, с собою душу Клода Фролло, чародея. При этом находили весьма естественным, что первый, забирая душу, разбил тело, подобно тому, как обезьяны разбивают скорлупу для того, чтобы съесть орех. Поэтому телу архидиакона было отказано в погребении на священном кладбище.
Людовик XI умер в следующем, 1483 году, в августе месяце.
Что касается Пьера Гренгуара, то ему удалось спасти козу и он, в конце концов, иметь успех в качестве драматического писателя. Перепробовав поочередно астрологию, философию, архитектуру, алхимию, словом – всевозможный вздор, он, наконец, снова вернулся к трагедии, т. е. к вздору из вздоров. Он называл это – «трагическим концом жизни». Вот что мы узнаем о его успехах на драматическом поприще из казначейских книг за 1483 год: – «Жану Маршану, плотнику, и Пьеру Гренгуару, автору, за сочинение и постановку мистерии, представленной в Шатлэ по случаю приезда г. папского легата, за наем необходимых для того людей и за поставку необходимых для того костюмов, а равно и за потребовавшиеся для того плотничные работы, – заплачено сто ливров».
Конец Феба-де-Шатопера тоже был трагический: он женился.
V. Женитьба Квазимодо
Мы уже сказали, что Квазимодо исчез из собора Богоматери в самый день смерти цыганки и архидиакона. С того дня никто его не видел, никто не знал, что с ним сталось.
В ночь после казни Эсмеральды помощники палача сняли труп ее с виселицы и отнесли его, согласно обычаю, в подвал Монфокона.
Монфокон, по словам Соваля, был самой старинной и самой лучшей виселицей Французского королевства. Между предместьями Тампльским и Сен-Мартенским, приблизительно в ста шестидесяти саженях от парижской ограды, на расстоянии нескольких выстрелов от Куртиля, на вершине холма, довольно отлогого, однако, настолько высокого, что его можно было видеть на несколько миль в окружности, возвышалось здание странной формы, похожее на кельтский жертвенник, на котором приносились человеческие жертвы.
Пусть читатель представит себе на известковом холме большой, сложенный из камня, параллелепипед, вышиной в 15, шириною в 30, длиною в 40 футов, в котором проделана дверь, верхняя плоскость которого образует площадку, окруженную снаружи перилами. На площадке стояли 16 громадных столбов из неотесанного камня, по 30 футов высоты каждый, образовавшие с трех сторон колоннаду под поддерживаемой ими крышей и связанных наверху толстыми балками, с которых, с небольшими промежутками, свешивались цепи. На каждой из этих цепей висело по скелету. Недалеко отсюда, в равнине, каменный крест и две небольших виселицы, являвшиеся как бы отростками от центральной виселицы. И над всем этим, в поднебесье – стаи воронов. Это и был Монфокон.
К концу XV столетия страшная виселица, сооруженная еще в 1328 году, уже порядочно-таки пришла в упадок: бревна ее сгнили, цепи заржавели, каменные столбы покрылись плесенью. В фундаменте образовались широкие щели, и сквозь них пробивалась трава, которую никогда не топтала нога человеческая. Все это сооружение обрисовывалось на горизонте страшным профилем, в особенности по ночам, когда луна освещала бледными лучами своими верхушку его, когда ветер заставлял скрипеть ржавые цепи и раскачивал в потемках висевшие на них скелеты. Достаточно было присутствия на том месте этой ужасной виселицы, чтобы придать всей окрестности репутацию проклятого места.
Каменный фундамент этого ужасного сооружения представлял внутри пустое пространство. В нем устроено было нечто вроде обширного погреба, закрывавшегося старою, поломанною решеткой. В этот погреб сваливались не только остатки человеческого тела, отделявшиеся от висевших на цепях трупов, но и тела других несчастных, казненных на всех остальных парижских виселицах. В этот ужасный костник, в котором сгнило вместе столько преступлений и столько людских прахов, в который последовательно сваливались кости стольких сильных мира сего и стольких невинных людей, начиная с Энгерра де-Мариньи, первого жильца Монфокона и праведника, и кончая адмиралом Колиньи, последнего его жильца и праведника же.
Что касается таинственного исчезновения Квазимодо, то вот что нам удалось узнать.
Спустя приблизительно полтора или два года после вышеописанных событий, когда явились в Монфоконский подвал, чтобы вынуть оттуда труп цирюльника Олливье, повешенного за два дня перед тем, и труп которого новый король Карл VIII, в виде особой милости, позволил похоронить в лучшем обществе, на Сен-Лоранском кладбище, – среди всех этих ужасных и безобразных скелетов найдены были два скелета, из которых один каким-то странным образом обнял другой. На одном из этих скелетов, очевидно, женском, висело еще несколько клочьев платья, по-видимому, когда-то бывшего белым, а вокруг шеи его было обмотано ожерелье из каких-то зерен, на котором висел шелковый мешочек, вышитый зеленым стеклярусом, открытый и пустой. Предметы эти были так малоценны, что палач, очевидно, пренебрег ими. Другой скелет, обнявший первый, был, очевидно, мужской скелет. Не трудно было заметить, что спинной хребет его был искривлен, что голова глубоко сидела между лопатками и что одна нога его была короче другой. Можно было также заметить, что шейные позвонки его не были поломаны, из чего было очевидно, что это не был труп повешенного. Значит, человек, которому принадлежал этот труп, сам пришел в это подземелье и умер здесь. Когда его захотели отделить от скелета, который он обнял, он рассыпался прахом.
Примечания
Примечание I
На заглавном листе рукописи «Собора Парижской Богоматери» значится следующая пометка:
«Я написал первые три или четыре страницы «Собора Парижской Богоматери» 25 июля 1830 года. Работу мою прервала июльская революция. Затем родилась моя милая Адель (да будет она благословенна!). Я снова принялся за этот роман 1 сентября и окончили его 15 января 1831 года».
Первая глава, «Большой Зал», начиналась в рукописи следующими словами:
«За триста сорок восемь лет, шесть месяцев и девятнадцать дней до сегодняшнего числа, 25 июля 1830 года». – Слова «25 июля 1830 года» были вычеркнуты.
Пометка «1 сентября» значится перед строкою: «Если бы нам, людям 1830 года, дано было», и т. д: В конце последней страницы находится пометка: «15 января 1831 года, шесть с половиною часов вечера».
Примечание II
В рукописи «Собора Парижской Богоматери» почти нет помарок. Можно указать лишь на несколько вариантов в оглавлении отдельных глав.
Так, глава «История лепешки из пшеничной муки» была озаглавлена вначале: «История ребенка непотребной женщины»; – глава: «Иное дело священник, иное – философ» – была озаглавлена: «Женатый философ»; – глава: «Башмачок» – была озаглавлена: «Коза спасена».
Лев Толстой. Анна Каренина
Часть первая
Мне отмщение, и Аз воздам
I
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: Il mio tesoro и не Il mio tesoro,[26] а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.
«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.
Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.
– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга»[27], – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.
«Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.
II
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже… Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что же делать?»
Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.
«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.
– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.
– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.
Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»
Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.
– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.
Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло.
– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.
– Слава Богу, – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

