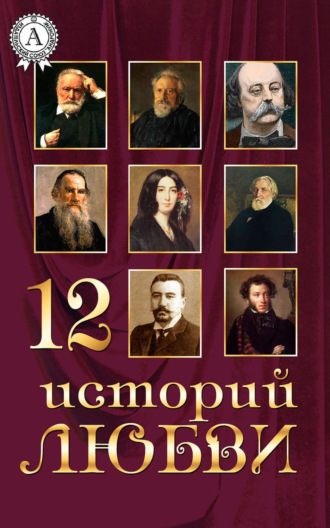
Полная версия
Евгений Онегин 6
– Да, да, особенно, – подтвердила Гудула, делая над собою усилие.
Все стражники единогласно подтвердили слова старого сержанта. Тристан Пустынник, убедившись в том, что от затворницы ничего не добьешься, повернулся к ней спиною, и она с радостным волнением увидела, как он направился к своей лошади.
– Ну, нечего делать, – проговорил он сквозь зубы, – нужно отправляться дальше искать ее в другом месте. Я не лягу спать, пока цыганка не будет повешена.
Однако он не сейчас же сел на лошадь. Гудула продолжала дрожать, видя, как он обводил все беспокойным взором гончей собаки, чующей логовище красного зверя и не желающей удалиться с места. Но, наконец, он тряхнул головою и сел на лошадь. Из стесненной груди Гуцулы вырвался тяжелый вздох, и она произнесла тихим голосом, взглянув на свою дочь, на которую она все это время не решалась смотреть:
– Спасена!
Бедная девушка все это время оставалась в своем углу, не смея ни пошевельнуться, ни даже дышать и видя перед собою страшный образ смерти. До ее слуха долетало каждое из произнесенных слов, и она волновалась не менее своей матери. Она слышала, как трещала нитка, на которой она висела над бездной, и она ежеминутно опасалась, что нитка эта оборвется; теперь она почувствовала, облегчение, почувствовала под собою твердую почву. В эту минуту она услышала голос, говоривший профосу:
– Черт побери, г. профос, вовсе не мое дело вешать колдуний. Я человек военный. Я разогнал бунтарей, а теперь ищите уже сами ту, которую вам нужно повесить, а меня соблаговолите отпустить к моей команде, которая осталась без начальника.
Это был голос Феба де-Шатопера. Невозможно описать то, что испытала молодая девушка, услыхав этот голос. Он, значит, здесь, – ее друг, ее защитник, ее убежище, ее Феб! Она вскочила, и прежде чем мать успела удержать ее, бросилась к окошку с криком:
– Феб, мой Феб, приди ко мне!
Но Феба уже не было на площади: он пустил свою лошадь галопом и только что повернул за угол улицы Ножовщиков. Однако Тристан был еще тут.
Затворница бросилась к дочери своей с диким воплем и, вцепившись ногтями своими в шею ее, оттащила ее назад: мать-тигрица не разбирает того, как она схватывает детеныша своего, которого нужно спасти. Но было уже поздно: Тристан заметил молодую девушку.
– Э, э! – воскликнул он, захохотав и осклабив зубы, что придавало лицу его выражение волчьей пасти, – в мышеловке-то оказались две мышки.
– Я так и знал, – проговорил солдат.
– Хороший у тебя нюх, – сказал Тристан, потрепав его по плечу. – А где же Анри Кузен?
Из рядов солдат вышел человек, непохожий на них ни по виду, ни по одежде. Он был одет в серо-коричневой камзол, с кожаными нарукавниками, волосы его были гладко прилизаны, и в толстой руке своей он держал связку веревок. Человек этот был постоянный спутник Тристана, постоянного спутника Людовика XI.
– Приятель, – обратился к нему Тристан Пустынник: – мы, кажется, нашли колдунью, которую мы искали. Повесь-ка ее. Лестница при тебе?
– Там, в сарае дома с колоннами, есть лестница, – проговорил Кузен. – Где же мы ее повесим? Здесь, что ли? – спросил он, указывая на каменную виселицу.
– Пожалуй, хоть и здесь.
– Ну, и прекрасно, – ответил тот, смеясь еще более зверским образом, чем сам Тристан, – по крайней мере, нам не придется далеко идти.
– Ну, живо, живо! – сказал Тристан, – посмеешься ты потом.
С тех пор, как Тристан заметил ее дочь, и как всякая надежда была потеряна, затворница не произнесла ни единого слова. Она бросила бедную, полуживую цыганку в угол своей каморки и снова стала перед оконцем, ухватившись обеими руками, точно когтями, за раму его. Приняв такую позицию, она обводила солдат смелым, диким и как бы бессмысленным взором. В ту минуту, когда Анри Кузен приблизился к ее окошку, лицо ее приняло такое страшное выражение, что он невольно отступил.
– Сударь, – спросил он, обращаясь к профосу, – которую же из них нужно повесить?
– Молодую.
– Тем лучше, ибо старуха, кажется, не в своем уме.
– Бедная плясунья! – пробормотал старый сержант.
Анри Кузен снова приблизился к оконцу, но пристальный взор старухи заставил его опустить глаза.
– Сударыня… – проговорил он довольно робким голосом.
– Чего тебе нужно? – перебила она его тихим голосом, в котором, однако, звучала ярость.
– Не вас, сударыня, – ответил он, – а другую.
– Какую другую?
– Молодую.
– Тут никого нет, никого нет, никого нет! – закричала она, качая головою.
– Нет, есть, – ответил палач, – и вам самим это хорошо известно. Позвольте мне только повесить другую, а вас я не трону.
– А-а! ты не тронешь меня! – произнесла старуха с диким хохотом.
– Отдайте мне другую, сударыня. Так приказал г. профос.
– Да тут никого нет, – настаивала она точно безумная.
– А я вам говорю, что есть, – ответил палач. – Мы все видели, что вас тут было двое.
– Ну, так посмотри еще раз хорошенько, – сказала затворница, смеясь. – Просунь голову.
Палач взглянул на длинные ногти матери и не решился просунуть голову.
– Ну, живо, – воскликнул Тристан, только что расставивший свою команду полукругом вокруг Крысиной Норы и поместившийся верхом подле виселицы. Анри еще раз, крайне смущенный, подошел к профосу. Он положил веревку на землю и неловко мял в руках свою шляпу.
– Откуда прикажете войти? – спросил он.
– В дверь!
– Да там нет дверей.
– Ну, так в окно!
– Оно, слишком узко.
– Ну, так расширь его! – гневно воскликнул Тристан. – Разве у тебя нет лома?
А тем временем мать зорко следила за всем, что происходило, из глубины своей пещеры. Она уже ни на что не надеялась, она сама не знала, чего желала, она только не желала, чтоб у нее отняли ее дочь.
Анри Кузен отправился за орудиями в сарай при доме с колоннами. Кстати он захватил оттуда и лестницу, которую мимоходом и приставил к виселице. Пять или шесть стражников вооружились ломами и кирками, и Тристан направился вместе с ними к оконцу.
– Старуха, – проговорил он строгим голосом, – выдай нам девушку добровольно.
Она взглянула на него таким взглядом, как будто она не поняла смысла его слов.
– Черт побери! – продолжал Тристан, – что заставляет тебе мешать нам повесить эту колдунью, согласно желанию короля? – И он захохотал своим диким хохотом.
– Что мне мешает допустить это? А то, что это дочь моя.
Выражение, с которым произнесены были слова эти, заставило вздрогнуть даже Анри Кузена.
– Мне жаль тебя, – ответил профос, – но такова воля короля.
– А мне что за дело до твоего короля! – воскликнула она, снова дико захохотав. – Я говорю тебе, что это дочь моя!
– Ломайте стену! – скомандовал Тристан.
Для того чтобы пробить достаточно широкое отверстие, достаточно было выломать один ряд кирпичей над оконцем. Когда бедная мать услышала, как ломы и кирки стали разрушать ее крепость, она испустила страшный крик и начала быстро ходить вокруг своей каморки; она усвоила себе эту привычку заключенного в клетку дикого зверя в течение 15-ти летнего пребывания своего в этом тесном помещении. Она не произносила ни слова, но глаза ее сверкали. Сами солдаты были поражены ужасом.
Вдруг она, дико захохотав, схватила обеими руками свой булыжник и швырнула им в рабочих; но руки ее дрожали, и потому булыжник, никого не задев, упал у ног лошади Тристана. Она заскрежетала зубами.
Хотя солнце еще не взошло, но было уже совсем светло, и старые дымовые трубы окружающих домов окрашены были в прекрасный алый цвет. В это время окрестные жители, имевшие обыкновение вставать рано, открывали уже свои окна. По Гревской площади стали проходить некоторые обыватели, некоторые продавцы, отправлявшиеся на рынок со своим товаром. Они останавливались на минуту перед группой солдат, собравшейся вокруг Крысиной Норы, смотрели на нее с удивленным видом и проходили дальше.
Затворница уселась подле своей дочери, прикрывала ее собою, пристально глядя на окошко и прислушиваясь к дыханию бедной девушки, которая не шевелилась и только шепотом повторяла: – «Феб! Феб!» – По мере того, как отверстие вокруг окошка расширялось, бедная мать машинально отодвигалась дальше от него и все крепче и крепче прижимала молодую девушку к стене. Вдруг она увидела, как большой камень над окошком зашатался (она не спускала с него глаз) и услышала голос Тристана, понукавшего рабочих.
Тогда она вышла из оцепенения, в котором она находилась в течение нескольких минут, и воскликнула, причем голос ее то резал ухо, как пила, то звучал невнятно, походя на беспорядочное падение каменьев:
– О-о! но ведь это ужасно! Ведь вы, просто, какие-то разбойники! Да неужели же вы взаправду хотите отнять у меня дочь мою? Говорю вам, что это дочь моя! Ах, подлецы! Ах, негодные палачи! Ах, гнусные убийцы! Караул! Караул! Грабят! У меня отнимают дочь мою! Да неужели ты это допустишь, Господи Боже мой?!
И затем она кричала, обращаясь к Тристану, со стоящими дыбом волосами, с блуждающим взором разъяренной тигрицы:
– Ну-ка, подойди! попробуй-ка отнять у меня дочь мою! Неужели ж ты не понимаешь? Я говорю тебе, что это дочь моя! Знаешь ли ты, что такое иметь ребенка, а? Неужели у тебя ничего не шевельнется внутри при плаче их?
– Валите камень! – крикнул Тристан, – он уже достаточно расшатан.
Камень заколыхался: это был последний оплот бедной матери. Она кинулась к нему, желая было удержать его на месте, но только содрала себе ногти, и тяжелый камень, сдвинутый с места шестью здоровенными людьми, вырвался из рук ее и грохнулся наземь. Несчастная мать, при виде пробитого отверстия, распростерла руки поперек окна, ударяясь головою о камни, и кричала хриплым, еле слышным голосом:
– Караул! Спасите! Спасите!
– Теперь тащите девушку! – хладнокровно скомандовал Тристан.
Но старуха взглянула на солдат таким страшным взглядом, что им хотелось скорее попятиться назад, чем двинуться вперед.
– Ну же, вперед! – крикнул профос. – Анри Кузен, что же ты?
Но никто не двигался.
– Ах вы, мямли! – гневно воскликнул Тристан. – Испугались бабы! А еще солдаты!
– Вы называете этого зверя бабой, сударь? – заметил Анри. – Да у нее грива, точно у львицы.
– Вперед, вперед! – настаивал профос. – Отверстие достаточно широко. Влезайте в него трое в ряд, как на Понтуазской бреши. Пора кончать! Я разрублю пополам первого, который подастся хотя бы на один шаг.
Будучи поставлены меж двух огней, – рассвирепевшей старухой и строгим профосом, – солдаты колебались было с минуту и, наконец, ринулись к Крысиной Норе.
Увидев это, несчастная затворница бросилась на колена, откинула назад волосы, и похудевшие руки ее свесились плетьми. Из глаз ее закапали крупные слезы и стали стекать по глубоким морщинам на ее щеках, точно ручей, проложивший себе русло. В то же время она заговорила, но таким умоляющим, кротким, покорным и за душу хватающим голосом, что многие из стоявших вокруг Тристана служак, видевших не мало видов, украдкой утирали себе глаза.
– Господа, господа сержанты, одно слово, одно только слово! Вот что я должна сказать вам: это дочь моя, слышите ли, дорогая моя дочь, которой я так давно уже лишилась. Это целая история, послушайте только. Я очень люблю господ сержантов. Они всегда были очень добры ко мне еще в те времена, когда уличные мальчишки бросали в меня каменьями за то, что я имела любовников. Я уверена, что вы оставите мне мою дочь, когда я вам все скажу. Я прежде была распутной женщиной. Это цыганки украли ее у меня. Но я в течение пятнадцати лет хранила башмачок ее. Вот он, смотрите! У нее в то время была такая маленькая ножка. В Реймсе, в улице Фоль-Пен, девица Шанфлери! Быть может, кто-нибудь из вас даже знавал ее? – Это была я, – тогда, когда вы были еще молоды! А ведь хорошее было времечко! Немало мы все провели веселых часов! Ведь вы сжалитесь надо мною, не правда ли, господа? Цыганки украли ее у меня и держали ее у себя в течение целых пятнадцати лет. Я уверена была, что она умерла, да, вообразите себе, друзья мои, что она умерла! Я провела здесь, в этой яме, целых пятнадцать лет, – а ведь это нелегко! А этот бедный, хорошенький башмачок! Я так много плакала, что Господь Бог, наконец, сжалился надо мною: нынче ночью Он возвратил мне мою дочь. Это было чудо Господне! Она не умерла! Так теперь уже вы не отнимете ее у меня, я в том уверена. Если бы еще дело шло обо мне, – я бы ничего не сказала; но она, шестнадцатилетний ребенок! Дайте же ей еще полюбоваться солнцем! Что она вам сделала? Ничего! И я также. Подумайте, ведь у меня на свете только и есть, что она одна, ведь я уже старуха, ведь мне послала на старость это утешение Пресвятая Богородица. И к тому же вы все так добры! Ведь вы раньше не знали, что это дочь моя, а теперь вы знаете. О, как я ее люблю! Г. профос, я предпочитаю, чтобы меня разрубили пополам, лишь бы ее не трогали! Вы имеете вид доброго барина. Ведь моих объяснений достаточно с вас, не так ли? Вспомните о своей матери, сударь, и оставьте мне ребенка моего! Глядите, я умоляю вас на коленах, как молят Христа! Мне ни от кого ничего не нужно; я родом из Реймса, господа, и я наследовала от дяди моего Магиета Прадона небольшое поместье. Я не нищая! Мне от вас ничего не нужно, – оставьте мне только дочь мою! Ведь недаром же Всеблагой Господь Бог возвратил мне ее. Король! вы говорите – король! Но какое особое удовольствие монет доставить ему то, что вы убьете дочурку мою? И к тому же король ведь так добр! Ведь это моя дочь, а не короля, не ваша! Пустите нас, мы уйдем! Ведь нельзя же не пропустить двух женщин, из которых одна – мать, а другая – дочь! Пропустите нас, мы из Реймса. О, господа сержанты, вы все так добры, я вас всех так люблю! Вы не отнимете у меня дочки моей! Нет, это невозможно! Не правда ли, это совершенно невозможно? Дитя мое, дитя мое…
Мы отказываемся от попытки передать то выражение, с которым были произнесены слова эти, описывать жесты несчастной матери, слезы, которые она глотала, торопясь говорить, ломание рук ее, печальную улыбку и отчаянные взгляды ее, жалобные и трогательные вздохи, стоны и крики, которыми сопровождались эти бессвязные, беспорядочные и бессмысленные слова. Когда она замолчала, Тристан Пустынник сморщил брови, но лишь для того, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на его глазах тигра. Он, однако, преодолел эту слабость и отрывисто проговорил:
– Это воля короля!
Затем он наклонился к Анри Кузену и сказал ему на ухо:
– Кончай скорее! – Быть может, даже безжалостный профос боялся, что старухе удастся разжалобить его.
Палач и солдаты вошли к каморку. Мать не оказывала никакого сопротивления, а только дотащилась до дочери своей и прикрыла ее своим телом.
Цыганка тоже увидела приближающихся солдат, и смертельный ужас вывел ее из ее забытья.
– Матушка! – воскликнула она отчаянным голосом, – они приближаются! Спаси меня!
– Да, дитя мое, я спасу тебя, – ответила старуха сдавленным голосом и, крепко обняв ее, стала покрывать ее поцелуями. Обе эти женщины, мать и дочь, сидя, таким образом, рядом на полу, способны были внушить сострадание не только самому черствому человеку, но даже камню.
Анри Кузен схватил молодую девушку под мышки. Почувствовал прикосновение к своему телу этой грубой руки, она вскрикнула и упала в обморок. Палач, из глаз которого капали на несчастную крупные слезы, хотел было взять ее из рук старухи. Он старался разжать руки Гудулы, крепко обхватившей талию молодой девушки, но она так судорожно впилась в свою дочь, что последнюю невозможно было вырвать из рук ее. Тогда Анри Кузен поволок молодую девушку вон из каморки, вместе с вцепившейся в нее старухой, глаза которой были также закрыты.
У окон близлежащих домов не было никого. Только вдали, на самой вышке колокольни собора Богоматери, с которой видна была Гревская площадь, стояли, казалось, два человека, черные силуэты которых обрисовывались на светлеющем утреннем небе.
Анри Кузен остановился со своей ношей у подножия лестницы и, тяжело дыша, – до того невыносима была для него эта сцена, – продел в петлю красивую шею молодой девушки. Почувствовав прикосновение пеньки к своей шее, несчастная раскрыла глаза и увидела прямо над головой своей ужасную перекладину виселицы. При этом она вздрогнула и закричала громким душу раздирающим голосом:
– Нет, нет! Я не хочу!
Мать, голова которой была прикрыта платьем дочери, не произнесла ни слова; видно было только, как она задрожала и стала судорожно целовать дочь свою. Палач воспользовался этим мгновением, чтобы разжать руки, которыми она обхватила молодую девушку, и, от утомления ли или от отчаяния, но она не сопротивлялась. Затем он взвалил молодую девушку на плечи, причем она перегнулась, точно переломленная пополам, и уже занес ногу на лестницу, собираясь подняться по ней.
В это время несчастная мать, лежавшая распростертою на мостовой, раскрыла глаза. Не испустив ни единого звука, она вскочила на ноги со страшным выражением лица и затем бросилась на палача, точно дикий зверь, и укусила его в руку. Все это случилось с быстротой молнии. Палач вскрикнул от боли. Подбежали солдаты и с трудом освободили окровавленную руку палача из судорожно сжатых зубов Гудулы. Она хранила глубокое молчание. Ее оттолкнули довольно грубо, и она, как сноп, грохнулась на мостовую. Ее приподняли, но она снова грохнулась. Тут только заметили, что она представляла собою лишь безжизненный труп.
Палач, не выпустивший из рук молодой девушки, снова стал подниматься на лестницу.
II. Прекрасное создание, одетое в белое (Данте)
Квазимодо, найдя комнату, в которой он укрыл Эсмеральду, пустою, убедившись в том, что, пока он геройски защищал молодую девушку, ее похитили, схватился за голову и стал топать ногами от удивления и от отчаяния. Затем он пустился бежать по всей церкви, ища всюду цыганку, испуская дикие вопли и вырывая клочьями рыжие волосы свои. Как раз в эту минуту королевские стрелки, тоже искавшие цыганку, победителями входили в церковь. Квазимодо, будучи глух и ничего не понимая, стал помогать им, воображая, будто недругами цыганки были не они, а разбойники. Он сам водил Тристана по самым затаенным уголкам, открывал перед ним все потайные двери, все чуланы и кладовые. Если бы несчастная находилась еще в соборе, то он, без сомнения, выдал бы ее.
Когда Тристану, наконец, надоело искать, – а он не привык так легко отказываться от своей добычи, – Квазимодо стал продолжать свои поиски один. Он двадцать, сто раз обошел церковь вдоль и поперек, снизу вверх, поднимаясь, опускаясь, бегая, зовя, крича, нюхая, шаря, просовывая свою голову во все отверстия, светя всюду своим факелом, приходя в отчаяние, безумствуя. Самец, потерявший свою самку, не бывает более растерян и более беспокоен.
Наконец, окончательно убедившись в том, что ее нет более в церкви, что ее украли у него, он медленно поднялся по лестнице, ведущей на колокольню, по той самой лестнице, по которой он взлетел с таким восторгом и с таким торжеством в тот день, когда он спас ее. Теперь он проходил по этим самым местам, понурив голову, не испуская ни единого звука, еле дыша. Церковь снова сделалась пустынна и молчалива. Королевские стрелки покинули ее, чтоб искать колдунью по городу. Квазимодо, оставшись один в этом громадном соборе, недавно еще столь шумном и оживленном, направился к той коморке, в которой цыганка спала столько недель под его охраной.
Приближаясь к двери, он вообразил себе, что, быть может, он вдруг найдет за нею молодую девушку. Когда, при повороте с галереи, он увидел небольшую комнату, с низкой дверцей и круглым окошечком, скрытую под высоким сводом, точно птичье гнездышко под густою ветвью, сердце у бедняги сильно забилось, и он прислонился к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что, быть может, она вернулась в свою каморку, что ее принес туда обратно какой-нибудь добрый гений, что эта каморка слишком спокойна, слишком безопасна и слишком уютна, для того, чтобы ее не было в ней, и он не решался идти дальше, чтобы не разбить своей иллюзии.
– Да, – говорил он сам себе, – быть может она спит или молится. Не нужно мешать ей.
Наконец, он собрался с духом, подошел к двери на цыпочках, заглянул в нее, вошел: – никого; каморка по-прежнему была пуста. Несчастный обошел ее медленными шагами, приподнял матрас, воображая, что, быть может, она забилась под него от испуга, затем покачал головою и остановился растерянный. Затем он в бешенстве растоптал ногами свой факел, и, не произнеся ни слова, не испустив ни вздоха, хватился головою об стену и без чувств упал на пол. Придя, несколько времени спустя, в себя, он бросился на постель, стал кататься по ней, неистово целовал теплую еще подушку, на которой столь недавно покоилась головка молодой девушки, и припал к ней, оставаясь в таком положении неподвижно, как мертвец. По прошествии нескольких минут он вскочил, обливаясь потом, задыхаясь, с блуждающим взором, и принялся биться головою об стены, точно язык колокола и как бы с твердым намерением, во что бы то ни стало размозжить ее. Наконец, он вторично упал в изнеможении. Он на коленах выполз из каморки и уселся на корточках перед дверью ее, с выражением крайнего недоумения на лице.
Он оставался в таком положении больше часа, не двигаясь, устремив взор на пустую каморку, более мрачный и более задумчивый, чем мать, сидящая между пустою колыбелью и гробиком своего ребенка. Он не произносил ни единого слова; только по временам все тело его содрогалось от рыданий; но рыдания эти не сопровождались слезами, подобно тому, как летние зарницы не сопровождаются громом.
В это-то время, раздумывая о том, кто бы мог быть неожиданным похитителем цыганки, он в отчаянии своем вспомнил об архидиаконе. Ему прошло на ум, что у одного Клода был ключ от двери, ведущей на колокольню; ему припомнились и оба ночные покушения Клода против молодой девушки, – первое, которому он, Квазимодо, содействовал, второе, которому он помешал. Ему припомнились также и тысячи других мелких подробностей, и вскоре для него не осталось ни малейшего сомнения в том, что именно архидиакон похитил у него цыганку. Однако, он питал такое глубокое уважение к Клоду, он до того любил этого человека, преданность и благодарность к нему пустили до того глубокие корни в его сердце, что даже в эту минуту когтям ревности и беспокойства не удалось вырвать этих корней. При мысли о том, что это, быть может, сделал архидиакон, смертельная злоба, которую он почувствовал бы по этому поводу ко всякому другому, как скоро речь шла о Клоде Фролло, превращалась у бедняги лишь в более жгучее чувство боли и печали.
В ту самую минуту, когда мысль его остановилась на Клоде, он увидел, начало уже светать, – в верхнем ярусе собора, на повороте галереи, какую-то двигавшуюся фигуру, направлявшуюся в его сторону. Он тотчас же узнал эту фигуру: то был архидиакон.
Клод шел медленным, размеренным шагом, не глядя перед собою и направляясь к северной башне. Лицо его было обращено в сторону, на правый берег Сены, и он высоко поднял голову, как бы стараясь что-то разглядеть вдали. Иногда сова принимает такое положение: она летит в одну сторону и смотрит в другую. Архидиакон прошел, таким образом, над головою Квазимодо, не заметив его.
Горбун, пораженный этим явлением, увидел, как тот вошел в дверь, ведущую на северную башню. Читателю известно, что это именно та башня, с которой видна ратуша. Квазимодо встал и последовал за архидиаконом. Но внимание Клода было до того поглощено другими предметами, что он даже не слышал шагов следовавшего за ним звонаря.
Великолепное и прелестное зрелище представлял тогдашний Париж с высоты колокольни собора Богоматери при первых лучах летнего восходящего солнца. В этот день небо было совершенно ясно. Несколько запоздавших звезд потухали на различных местах небосклона, и только одна из них ярко блестела на востоке, на ярком горизонте. Солнце должно было сейчас показаться. Париж начинал просыпаться. На чистом воздухе со стороны востока выделялись тысячи крыш домов. Гигантская тень колоколен переходила от крыши к крыше, с одного конца большого города до другого. В некоторых кварталах раздавались уже говор и шум. Здесь слышался удар колокола, там удар молотка, там стук телеги. Кое-где над черными крышами стали уже расстилаться клубы дыма, выходившие точно из трещин громадной залежи серы. Река, ударяясь о столько мостов, о столько островов, была’ вся изборождена кругами и линиями. В окрестностях города, за линией укреплений, взор терялся в каком-то большом, туманном круге, из-за которого едва можно было смутно различить неопределенную линию долин и изящные извилины холмов. Над этим наполовину проснувшимся городом носились самые разнообразные звуки, а легкий утренний ветерок гнал по небу к западу несколько легких облачков, оторванных от расстилавшегося над холмами тумана.
На Папертной площадке несколько женщин, держа в руках кувшины с молоком, с удивленным видом показывали друг другу на повреждения, происшедшие за ночь у большой церковной двери, и на два свинцовых потока, застывшие в расщелинах песчаника. Вот и все, что осталось к утру от шумной ночной сцены. Костер, зажженный Квазимодо между башнями, уже погас, а Тристан распорядился очисткой площади, причем трупы были выброшены в Сену. Правители, вроде Людовика XI, любят тотчас же уничтожать всякие следы убийства.

