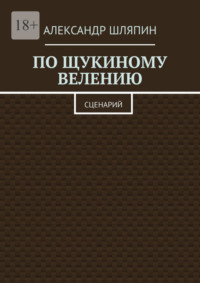Полная версия
Небо нашей любви
Краем подбитого глаза Сашка видел, как отец его недруга, его врага Краснова, потянул за него «мазу». Что было после, он уже не помнил. Что—то очень тяжелое опустилось на лицо, и он в тот же миг сорвался в черную бездну беспамятства.
Очнулся Фирсанов от жуткого холода. Все его тело бил озноб. Сквозь залитые запекшейся кровью щели глаз, он осмотрелся и увидел лежащего рядом мужика, который дышал, словно собака на летнем солнцепеке. Вся его голова напоминала большой кусок фарша. Сквозь короткие волосы просматривались многочисленные раны, которые были залиты черной засохшей кровью.
– «Во бля… вляпался», – подумал Ферзь и, превозмогая боль, сел на дощатый настил, который возвышался над полом на высоту тюремных нар. Он достал пачку «Беломора», изъятую у кума и закурил. Голова после тумаков ужасно болела. Кровь от раны окрасила всю рубаху, из— за чего та стала словно фанерная.
– Вот же суки, как больно бьют! – сказал сам себе Фирсанов. – Эй, ты, мужик, где это мы? – спросил он лежащего рядом человека.
Тот ничего не ответил.
– Ты, часом не нарезал кони? – вновь спросил Фирсанов, и толкнул мужика в бок. Вместо ответа он услышал глухой стон. Из чувства любопытства, Сашка перевернул арестанта и тут же опознал отца Краснова Валерки.
В памяти возникли картинки прошедших событий. Он вспомнил, как этот человек вступился за него. Это он дрался с конвойными, когда те накинулись на новоявленного жулика. Это он… Это майор РККА… Это был тот, которого он уважал с самого с детства.
С тринадцати лет Сашка рос без отца. Он всегда завидовал Валерке, что его отец был красным командиром и летчиком. Его каждый день с почетом возили на работу в черной машине. Это он научил Валерку стрелять из нагана. Это он научил его драться и применять приемы джиу—джитсу. От такой зависти Ферзь еще больше ненавидел этого ботаника Краснова. Ненавидел и его любовь и к Леночке Луневой из—за которой, он так легко расстался с авторитетом в своем дворе и всей Офицерской слободе. С вором Ваней «Шерстяным» он связался всего год назад, по протекции покойного папаши. Вместе с ним он «шакалил» по ночному Смоленску, освобождая богатых НЭПманов и аристократов от толстых кошельков и золотых украшений. Умирая от потери крови, Гнусавый просил Ивана не оставлять сына без присмотра. Так и попал Фирсанов в новый мир – мир блатной воровской жизни.
Непонятка овладела его сознанием. Он коснулся своей рукой бородатой щеки бывшего майора и в эту секунду в его сознании что— то перевернулось. Блатной гонор почему—то растаял, словно утренний туман, пригретый лучами солнца. Сердце сжалось от какого—то непонятного сострадания к майору.
Несколько раз подряд Фирсан затянулся, словно обдумывая план своих действий и бросил окурок на пол. К своему удивлению он услышал, как окурок упав зашипел. Приглядевшись, Фирсан увидел, как черная вода залила половину камеры. Она стояла на уровне порога. В свете тусклой лампочки и света исходившего из маленького окошечка, он увидел как что—то непонятное плавает в воде. Мохнатые поросшие плесенью «колбаски» дрейфовали по поверхности, словно маленькие острова. Фирсанов пригляделся и ужаснулся. Это были разложившиеся трупы крыс. Вперемешку с крысами на поверхности прорисовывались и другие предметы, источавшие жуткий запах.
– Бляха… Да это же говно! Говно! – заорал он. Дотянувшись с настила до двери, он хотел было стукнул в нее, но ботинок без шнурков сорвался с его ноги, и хлюпнул в эту воду, присоединившись к компании дохлых крыс. —Сука, сука, сука!!! – заорал Фирсан, словно взбесился.
В этот момент, что—то заурчало в углу камеры. Вглядевшись в сторону где располагалась «параша», Сашка заметил, как из разбитого чугунного стояка тюремной канализации вывалились новые порции дерьма.
– Эй, суки, хорош срать! – заорал он. Сняв другой ботинок, он стал неистово стучать им в стену, надеясь, что его кто—то услышит.
В этот миг лежавший на настиле майор Краснов подал признаки жизни и сквозь гортанный хрип прошептал:
– Пить, пить…
Фирсан вновь закурил. Он старался осмыслить сложившуюся ситуацию. В его голове вертелась только одна мысль. Она крутилась, словно акробат на перекладине, не давая его разуму ни секунды покоя. Валеркин отец… Это был какой—то страшный сон.
До крана с холодной и чистой водой было всего пару метров. Она фактически не переставая текла в раковину, рядом с «парашей». Чтобы достать ее, и чтобы утолить жажду и нужно было просто вступить ногой дерьмо. Представив себя по щиколотку в вонючем говне, Фирсанова стошнило. Он вскочил, и, встав на четвереньки на краю настила, стал блевать, возвращая скудную тюремную баланду природе. Рвотные спазмы рвали из него кишки удаляя из организма остатки тюремной пайки. В этот миг его сердце заколотилось в бешеном ритме. Даже не смотря на холод, его пробил обильный пот.
– Пить, пить… – вновь простонал майор.
Его стон еще больше натягивал душевные струны Сашки Фирсанова. Сейчас он мог попросту отвернуться от него. Мог даже отказать в помощи. Он мог вообще не обращать на него никакого внимания и даже мог задушить этого майора, и ни кто бы не сказал ему ни слова.
«Пусть сдохнет… Пусть себе дохнет», – ведь он, без пяти минут вор в законе знал, что ни местные обыватели, ни авторитетные каторжане, никогда не осудили бы его за подобный поступок. С другой же стороны его томил вопрос – «Валерка»!?
Хоть он и был Краснов его врагом, но в душе Сашки, в его сердце было то, что толкало его к этому крану с чистой водой. Надо было просто переступить через свои фобии и вступить босыми ногам в эту зловонную жижу.
Фирсан слышал, что в подвале «Американки» есть такая «хата», через которую протекает канализация. Жажда и голод здесь ломали любого человека, заставляя его опускаться ниже уровня этого дерьма, подписывая любой документ, который бы гарантировал глоток свежего воздуха, и чистой воды. Сашка не знал, да, наверное, не верил, что сам может угодить в это место, и как назло этот факт свершился.
– Пить, – чуть тише простонал майор.
Фирсан понял, что время идет на минуты.
Взяв в руки лежащую на настиле пустую кружку, он закатал свои штаны. Противясь всей душей, он стал медленно опускать ногу в этот кисель из дерьма. Вновь рвота подкатила к его горлу. Вновь спазмы начали выворачивать его кишки наизнанку. Фирсан усилием воли медленно опускал ногу пока не нащупал дно. Ощутив голой пяткой пол, он встал и почувствовал, как стародавние и уже разложившиеся человеческие испражнения, словно глина скользнули меж его пальцев.
– Суки! – заорал Ферзь и резко опустил вторую ногу, доказывая самому себе, что даже это вонючее дерьмо и эти вздувшиеся тела дохлых крыс не смогут удержать его от праведного поступка и даже сломить его жиганскую волю.
Приступы рвоты прекратились. Слегка оклемавшись от этой мерзости, он сжал двумя пальцами нос и уверенно сделал первый шаг к раковине. Затем второй, третий… Вот уже и кран с водой и он —совсем близок. Осталось дотянуться до него всего лишь рукой. Но фекалии, эти скользкие и мерзкие фекалии, и эти крысы, обволакивали его ноги. Они плавали, касаясь его кожи, вызывая в его душе жуткое омерзительное отвращение.
Сделав над собой усилие, Фирсанов дотянулся до крана. С облегчением он помыл руки, лицо, смывая с себя запекшуюся кровь и эту вонь, пропитавшую всю атмосферу помещения. Сполоснув кружку, он набрал в нее чистой холодной воды и вернулся назад. В этом замкнутом пространстве камеры было непонятно, что сейчас ночь или день. Лампочка «Ильича» светила круглосуточно и только этот свет был признаком существующей жизни.
Напоив Петровича, Сашка вновь спустился к рукомойнику и налив кружку воды постарался помыть свои ноги от фекалий. Только этого жалкого количества было мало, и он ощутил, как это зловонье впитывается в его кожу. Вонь бежала по венам, заставляя вонять и весь организм.
– Врешь—не возьмешь!!! Хрен вам! – прошептал себе под нос Фирсанов. – Хрен вы, суки, меня сломаете! Пусть я даже сдохну в этом отстойнике.… Пусть я сгнию, но никогда не встану на колени, – сказал он себе.
Закурив, Фирсан сел на деревянный настил и свесил ноги, чтобы не пачкать свою каторжанскую «кровать». В его голове поплыли вновь воспоминания, которые были связаны с Валеркой. Он вспомнил, как вызвал «ботаника» на дуэль, как бил его в подворотне за Ленку. Как «ботаник» —этот «папенькин сынок», навесил ему в ответ. От этих воспоминаний на душе стало как—то грустно.
В душе что— то щелкнуло и он, сбросив груз обиды, простил Краснова. В ту же самую секунду он понял, что оказывается ближе «ботаника» Краснова и ближе Луневой у него не было друзей. От этих ностальгических воспоминаний, на его глаза навернулась слеза.
Сашка в какой—то момент даже подумал, что хочет завязать с этой тюремной романтикой и хочет вернуться туда, где осталась его мать. Здесь в этой волчьей стае, каждый норовил воткнуть в спину заточку, и занять место ближе к лагерной кормушки. Только здесь, в тюрьме, царил закон курятника, который гласил – отпихни ближнего, обгадь нижнего, а сам, сам всегда стремись наверх».
Все эти философские размышления настолько овладели его сознанием, что он даже забыл о тех фекалиях в которых только что плавал. Стук открывающейся «кормушки» вернул Сашку в реальность.
– Эй, блатота, ты еще жив!? – спросил голос вертухая.
– Жив…
– А этот, враг советского народа!? – вновь спросил голос.
– Этот тоже жив, – ответил Фирсанов.
– Лучше бы загнулся, его все равно вышак ждет, – сказал голос. – На, вот – держи!
За дверью послышался звон черпака о бачок. Через секунду в маленькое окошечко в двери просунулась рука с алюминиевой миской. Сашка, не обращая внимания на фекалии, опустил в воду свои ноги и уже без всякой брезгливости и тошноты подошел к двери. Взяв миску с баландой, он поставил ее на настил. Затем еще одну. Две краюхи черного с опилками хлеба, были завернуты в газету.
– А весла!? – спросил Фирсанов.
– В карцере весла не полагаются, – ответил голос, и «кормушка» с грохотом закрылась.
– Суки, суки! – крикнул Сашка вслед уходящему охраннику. – Позови мне корпусного! Я хочу с «кумом» потарахтеть…
За дверью гулко прозвучал голос:
– Ладно потарахтишь!
– Эй, Петрович, вставай, пайка приехала, подкрепись, – сказал Фирсанов, трогая Краснова за ногу. Тот, простонав, слегка приподнялся на локти.
– Петрович, хавчик прибыл, поешь! Тебе батя, силы нужны, а то так можно сдохнуть.
Краснов еле подтянул свое тело к стене, и оперся на выступающие цементные бугры «шубы».
– У тебя, Саша, курить есть? – спросил он, придя в себя.
– Есть, Петрович —есть! – обрадовался Фирсанов, воскрешению майора. – Только давай, сперва похавай, а потом мы с тобой от души покурим и поговорим.
– А тут что, еще жрать дают? – спросил Краснов.
– Ага, дают, вот только, как у вас – у летчиков.
– Это как?
– А так, сегодня день – летный, завтра день – пролетный. Сегодня – летный, а завтра – пролетный, – повторил Фирсан.
– Вот же суки, как бьют больно, – сказал Краснов, трогая голову.
– Сапогами видно. Мне тоже досталось – мама, не горюй!
– А что это так воняет? – спросил майор.
– А это Петрович, дерьмо. Мы тут по уши в настоящем дерьме, – сказал Сашка.
Краснов закинул голову, опершись ей на стену, и на мгновение закрыл глаза, стараясь вспомнить все то, что произошло. Сашка подал ему миску.
– Держи Петрович, баланду.
Краснов открыл глаза и дрожащими руками взял миску с нехитрым тюремным варевом из картошки и затхлой квашеной капусты.
– Ложка есть? – спросил он.
Сашка видя, что отец Валерки окончательно оклемался, улыбнулся ему и сказал:
– А тут Петрович, весла не положены. Хлебай так, через борт. На, вот, держи, еще пайка хлеба есть.
Дрожащими руками майор Краснов взял миску и поднес ее ко рту. Его зубы коснулись края алюминиевой «шлемки», и до Фиксы дошел стук его зубов о миску. Поставив свою пайку на настил, Сашка взял миску Краснова и стал сам кормить его из своих рук. Краснов стербал суп вспухшими губами и, не жуя, глотал гнилые вареные капустные листья. Опустошив посуду, он взял в руку кусок хлеба и стал, его есть, отщипывая от «птюхи» маленькие кусочки.
Фирсан, видя, что майор пришел в себя, принялся, есть сам. Одним махом он проглотил остывшее содержимое своей миски, откусывая между глотками большие куски тюремной «черняшки».
Ели молча. После того, как все до последней крошки было съедено, Фирсан покрутил ладонью по животу и сказал:
– Хорошо, но ведь, сука, мало же! Я цветущий организм и мне нужен рост!
– А я наелся, – тихо ответил майор Краснов. – Давай Саша, закурим, Ты же обещал…
– Ах, да, – опомнился Фирсан, и достал папиросы. Щелчком он выбил из пачки пару папирос и протянул пачку Краснову. Закурили…
Дым табака на какое— то мгновение перебил запах, исходящий из— под настила.
– А Ты почему без обуви? – спросил Краснов, глядя, как Фирсанов вытянул свои босые ноги.
– Да у меня «гад» в дерьмо нырнул. Я брезгую туда руками лезть.
– А ногами ведь ходишь?
– А что ногами? Ноги то они ведь из жопы растут, им такая атмосфера привычней.
Превозмогая боль, пронзившую все тело, Краснов засмеялся. От такой шутки на душе стало значительно легче. Силы понемногу стали возвращаться в его разбитое тело.
– Говоришь ноги из жопы, растут? – переспросил майор. – Поэтому они и к дерьму привычные?
– Ага, Петрович, привычные!
Краснов вновь залился смехом, хоть это было довольно больно. Отбитый ногами охранников живот болел от каждого вздоха, а тут такая нагрузка.
– Философия у тебя железная, – сказал майор, держась за пресс. – Как ты думаешь, мы тут надолго?
– Не знаю. Обычно суток пятнадцать держат, – спокойно ответил Фирсанов, затягиваясь папиросой.
– А сколько времени прошло?
– А хрен его знает. Тут разве можно сориентироваться. Что день, что ночь. Судя по пайке, мы сидим или один, или два дня.
В те минуты ни Фирсанов, ни Краснов не знали, что их заточение длится уже третьи сутки. Время вытянулось в одну сплошную линию, и поэтому было трудно определить, где начало, а где конец. Чувство голода тоже ни о чем не могло говорить, с момента ареста и заключения под стражу, это чувство всегда преследует арестанта до конца его срока.
– А Ты как тут оказался? – спросил Краснов.
– Замели меня легавые, – нехотя ответил Сашка.
Ему сейчас было стыдно сказать майору Краснову, что он вместе с «Шерстяным», взял на «скок» кассу авиационного завода, где Краснов работал военпредом. Ему было стыдно, и поэтому он не хотел говорить об этом.
Фирсан слышал, как вертухай сказал, что этого врага народа все равно приговорят к вышке. Он знал, поэтому ничего и не хотел говорить. Не должен, не должен Краснов знать, что он, Сашка Фирсанов, без пяти минут вор, покушался на деньги рабочих.
– А вас, Петрович, за что?
– Меня, Саша, обвинили немецким шпионом. Говорят, я Родину продал и на Гитлера работаю.
– Это же бред!
– Бред не бред, но кому— то это нужно. Немцы к нам на завод каждый год приезжали и приезжают. У них договоренность с Наркоматом обороны. Вот только я слышал, Саша, что война с немцами неизбежна. Сталин оттягивает время, как может, чтобы перевооружить Красную армию. Но ведь у немцев тоже разведчиков хватает. Они— то Гитлеру их сраному тоже докладывают о нашем перевооружении.
– А я, Петрович, в политику не лезу. Вон вашего брата, сколько сидит… Полная тюрьма.
В каждой хате по несколько человек лишних. Каждую ночь в подвале расстрельные приговоры в исполнение приводятся. Мочат народ русский – мама, не горюй! Я не хочу под вышку! Лучше быть блатным вором, чем политическим жмуром. Во!
– Это, Саша, ты говоришь правильно. Да и философия твоя мне понятна. Ноги они ведь из жопы растут, поэтому их в дерьмо можно ставить смело. А раз в дерьмо наступишь, то всю жизнь оно вонять будет, жизни не хватит, чтобы потом отмыться.
Фирсанов посмотрел на свои ноги, почесал под подмышками, разгоняя собравшихся там на собрание вшей.
– Я, Саша, это образно говорю! Натуральное говно в бане отмоешь, а вот внутреннее.… То, которое внутри, его никогда… Оно вечно. А люди, люди они чувствуют, в ком этого дерьма много, а в ком…
– А я понял, Петрович, – перебил его Фирсанов и задумался.
Он стал размышлять над словами сказанными Красновым. Как— то само собой он вновь вытащил папиросы и предложил майору. Краснов отказываться не стал, видно предчувствие скорого конца не отпускало его ни на миг. Вот и хотел Валеркин отец жить на полную катушку даже среди этого вонючего болота.
Сколько прошло времени, было неизвестно. Дверь в камеру открылась, и в его проеме показался «кум». Он стоял с видом хозяина, широко расставив свои ноги. Хромовые сапоги были начищены до зеркального блеска. Синие галифе были выглажены так, что об них можно было порезать пальцы. Новая портупея с наганом в кобуре перепоясывала такую же новенькую шевиотовую гимнастерку.
– Ну что, жиган, ты созрел для нашего базара? – спросил начальник оперативной службы тюрьмы. – В говне сидишь по самые уши? Я слышал, ты хочешь со мой поговорить?
Фирсанов взглянул на кума и сказал:
– Знаешь, начальник, – это дерьмо можно в бане отмыть. Страшнее то, которое внутри. Его отмыть порой даже жизни не хватит, – гордо ответил Фирсанов, повторяя слова Краснова. – Ты начальник, «лепилу» приторань, а то этот майор загнется, – продолжил Фирсанов, и кивком указал на лежащего политарестанта. Он рассчитывал, что сможет через санитара передать в камеру «маляву», в которой обрисует всю ситуацию, в которой оказался.
– Ему «лепила» не нужен! Этому немецкому шпиону и так осталось жить до приговора «тройки». Чекисты на него уже собрали досье по 58— 1а. Осталось только в трибунал передать и – все! Эй, майор, ты повремени подыхать— то, тебе завтра с делом знакомиться, – сказал «кум» через плечо Фирсанова. – Так что, Ферзь, будешь с администрацией дружить?
– Хрен возьмешь, начальник, Сашу Ферзя! – сказал Фирсанов и, согнув руку в локте, другой рукой стукнул по внутренней стороне, показывая такой русский хер.
– Ну что ж, тогда посиди еще суток пять, может до тебя дойдет. Не таких воров ломали…
Кум плюнул себе под ноги, и дверь в камеру закрылась. В ней вновь стало темно и тихо.
– Слушай, Петрович, нам надо что— то делать. Эти вертухаи нас тут сгноят. Это факт…
– Бежать, что ли? – спросил Краснов.
– Да отсюда Ты хрен на лыжи встанешь. Я просто хочу связаться по тюремному «телефону» и организовать нам с тобой нехилый «грев». Жрать хочу, как медведь бороться.
Сказанные опером слова очень тронули Краснова. Он знал, что за «измену» Родине, которую ему вменяют, он точно получит расстрел. Еще были свежи в памяти репрессии над Тухачевским, Якиром, Рокоссовским. Так— то были боевые генералы, которым немалые сроки дали, что уж говорить о сотнях и тысячах простых майорах и капитанах, расстрелянных по доносам своих же сослуживцев.
Времени оставалось очень мало, и он решил через Ферзя передать весточку жене и сыну.
– Саша, у нас, наверное, есть еще пару дней. Я знаю, что я сюда, в эту камеру больше не вернусь, а Ты наверное, сможешь увидеть Валерку и передать ему мои последние слова.
– Петрович, о чем это вы? Я думаю, что суд во всем разберется. Этого же не может быть?
– Может, Саша, может… Мы, просто заложники своего времени… Нам не повезло…
Фирсан смахнул рукой слезу со щеки и, вскочив на деревянный настил, заорал:
– Суки, как я вас ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
После чего он без всякого отвращения прыгнул в вонючую жижу, и постучал алюминиевой миской по стояку канализации. В ответ моментально послышались стуки со всех этажей тюрьмы.
– Эй, эй! – проорал он в трубу.
– Говори, – донесся глухой звук.
– Каторжане, я с хаты восемь три – Ферзь мое погоняло. Меня мусора в трюм запрессовали – на пятнадцать суток. Второй день не кормят, ломают. Если кто может, подгоните «грев». Жрать хочу, курить хочу, аж шкура от вшей чешется!
– Базара нет, браток. Сейчас все сделаем, – послышался гулкий звук.
Фирсан отошел от трубы, потирая от радости свои руки.
– Сейчас, Петрович, у нас и хлеб, и «бацилла», и табак будет, – сказал Фирсанов. – На пока, покури.
И Сашка протянул последнюю папиросу Краснову. Петрович дрожащими руками взял папиросу и дунул в гильзу. В этот момент на его глаза накатилась крупная слеза. Конечно же, ему было сейчас трудно говорить. Ожидание своего конца могло утомить любого, даже самого сильного духом человека. Затянувшись три раза, майор оторвал кусок гильзы зубами и передал папиросу Фирсанову.
– Кури!
Минут через двадцать в стояк кто— то постучал. Сашка спрыгнул на пол и подошел к трубе.
– Эй, – обозначился он.
– Ферзь, держи «грев»! По «киче» прогон пошел, что ты в «трюме», так что не переживай, все будет путем… Каторжане все в курсах. Чем можем, тем и поможем!
– Давай, ловлю! – прокричал он, и отошел от трубы.
Сверху послышался звук падающей воды, который бывает обычно после того, как арестанты промывают парашу. Вновь вода с шумом вырвалась из отколотого куска трубы, только на этот раз вместо дерьма, выскочили аккуратные круглые колбаски, связанные веревкой. Фирсанов отцепил их, и три раза ударил миской по трубе.
– Спасибо, братаны! – крикнул он в нее. – «Грев», принял! Срите только меньше, а то меня вашим дерьмом скоро затопит, – прокричал он следом, как бы шутя.
Отмыв пропитанные парафином оболочки «торпед» от остатков человеческих фекалий, он аккуратно развернул туго скрученные газеты. В одной «торпеде» лежало больше пачки папирос и спички. В другой был завернут табак, перемешанный с махоркой. В третьей «торпеде» лежал кусок сырокопченой колбасы и шмат сала, граммов на триста.
– Во, бродяги, дают! Колбаса, «бацилла», куреха! Что еще каторжанину надо? Продержимся, Петрович! Ты сам своего сына увидишь и все ему расскажешь. Правда, Валерка твой, мою кралю отбил, но я теперь не серчаю на него. Правильный у тебя, батя, пацан!
Краснов посмотрел на Фирсанова и улыбнулся при виде каторжанской солидарности. Сейчас его занимали совсем другие вопросы. Нужно было, во что бы ни стало, сообщить жене и Валерке о том, что он никогда больше не сможет вернуться домой.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ДЯДЯ ЖОРА
Прошло более двух месяцев после ареста отца. За это время от него не было ни слуху, ни духу. Передачи, которые мать собирала ему, не принимались, и она раз за разом возвращалась домой, так и не зная, жив ли Леонид Петрович или же …. Как раз об этом ей не хотелось даже и думать. Вечером одного дня, когда мать после очередного посещения «американки» – смоленской тюрьмы находилась в трансе. В тот миг кто— то постучал. Валерка бросился к двери, ожидая хороших новостей, но на пороге увидел незнакомого паренька лет шестнадцати. Он был неухожен и подозрительно бледен, словно страдал чахоткой.
– А. Красновы здесь живут? – спросил он, переминаясь с ноги на ногу.
– Да, – ответил Валерка, —Я Краснов, – сказал он, не представляя, что нужно парню.
– Я тебе «маляву» с «кичи» притаранил, – сказал он по «фене», и снял с головы засаленную кепку. – У тебя «мойка» есть? – продолжил он, глядя на Валерку большими глазами.
– Слушай, я ничего не понял, что за «малява», что за «мойка»? – переспросил Валерка, пожимая плечами.
– Меня звать Сергей, мое погоняло Карнатик, я с тюрьмы, вам письмо принес от вашего папаши… Дай мне «мойку», тьфу Ты лезвие. Мой каторжанский «лепень» пороть будем.
– Пройди в квартиру, – пригласил его Валерка, и провел парня в комнату.
Достав лезвие, он подал его пареньку и стал с интересом наблюдать за его действиями. Тот снял пиджак и с ловкостью вспорол лезвием заплатку на рукаве, под заплаткой лежала записка.
Сердце Валерки казалось в ту секунду, вырвется из груди. Он смотрел на кусочек промасленной бумаги, и каким— то шестым или даже седьмым чувством почувствовал, что это послание писал его отец.
– Мам! – крикнул он матери. – Тут от отца, письмо принесли!
Мать ворвалась в комнату с глазами полными надежды и накативших на глаза слез. Она в этот миг ничего не могла понять. Схватив трясущимися руками жалкий кусок бумаги она даже не могла прочесть то, что было там написано. Слезы почему—то градом катились по ее щекам.
Светлана старалась развернуть сложенную записку, но трясущиеся руки мешали это сделать. Она, увидев, что у нее ничего не получается, вновь вернула записку Валерке, и затаив дыхание, посмотрела на сына.
– Валера, сынок, —прочти. Я очень волнуюсь…
Валерка аккуратно развернул записку. В его глаза брызнули до боли знакомые буквы отцовского почерка. На глаза мгновенно накатила пелена проступивших слез. Он, глубоко вздохнул и набрав полную грудь воздуха начал читать: