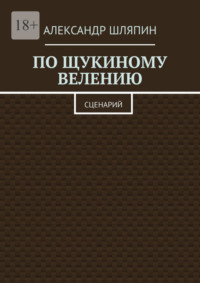Полная версия
Небо нашей любви
– Что со мной? – спросил Валерка, касаясь рукой материнской щеки, по которой текла крупная слеза.
– Ты просто был в обмороке, – ответила мать и, перехватив руку сына, нежно ее поцеловала. Она прижала ладонь к своей щеке и с глазами полными слез, посмотрела на него. – Отца арестовали по подозрению в шпионаже.
Тут Краснов вспомнил – вспомнил версию Синицы, что вся это кутерьма замешана на неудовольствии местного участкового дяди Жоры. В эту секунду, в его душе, словно что— то взорвалось.
– Я убью эту сволочь! Контра белогвардейская! Я знаю, кто написал на него донос. Подонок! – стал выкрикивать Валерка и, вскочив с дивана, бросил мокрое полотенце на спинку стула. – Я знал, знал, что он настоящая тварь! Прикрывается сука, удостоверением сотрудника народной милиции, а сам хуже того же вора «Шерстяного»! Но тот— то хоть вор в законе, а этот? Это настоящий гад, оборотень! Днем служит Родине, а по ночам приворовывает из товарных пакгаузов на товарной.
– Тихо, тихо не кричи, соседи услышат и донесут участковому. Будет он, потом и на тебя доносы строчить. А я, я же не могу потерять двух мужиков, – сказала мать, держа сына за руку.
Краснов – младший был в гневе. Он ходил по комнате взад и вперед и на ходу хватал какие— то вещи. Подержав, он тут же с остервенением бросал на место и вновь продолжал свои непонятные телодвижения.
Все эти трагические для семьи Красновых минуты Леночка сидела молча. Она с сочувствием и жутким страхом наблюдала за своим кавалером и нервно руками теребила носовой платок. Ей показалось, что Краснов как— то изменился и даже повзрослел. Из веселого и беззаботного семнадцатилетнего юнца, он в этот миг превратился в настоящего мужика наделенного силой волей и непоколебимостью духа. Его лицо стало суровым, а глаза как— то сузились, словно у хищника в момент охоты. Все в его поведении говорило, что теперь он как мужчина является для матери опорой и надеждой.
Впервые в жизни Валерка, в присутствии матери, достал из кармана пачку папирос, дунул в гильзу, и с силой сдавив ее своими зубами, закурил. Раньше побаиваясь отца он никогда этого не делал, но сегодня был тот день когда он окончательно превратился из юноши в настоящего мужчину.
Сидевшая на диване мать, увидев сына курящим, даже не удивилась и ничего не сказала. Смолчав, она в ту самую секунду поняла, что ее сын Валерочка, как она его называла уже не тот мальчик, которого она нежно целовала в родильном доме и кормила своей грудью. Он вырос, и теперь он вполне может сам решать, что ему делать.
– Давно куришь? – спросила она.
– Скоро уже год, – ответил Валерка.
– А если узнает… – хотела вдруг сказать мать, но осеклась на последнем слове, вспоминая кошмар сегодняшнего утра.
– Я, наверное, пойду домой? – спросила Леночка.
– Сиди! – властно сказал Краснов—младший, и, тронув ее за плечо, усадил на место. – Пойми Леночка, ты сейчас нужна мне и матери. Ты, словно бальзам на наши растерзанные души и сердца.
Лунева махнула головой в знак согласия и смиренным голосом, сказала.
– Хорошо, я побуду у вас еще немного.
– Так девушки… Слезами горю не поможешь! Кушать надо. Давай мать, накрывай стол, будем питаться и думать, как нам дальше существовать. На сытый желудок оно ведь лучше всего думается, – сказал Валерка, словами отца, показывая, таким образом, что теперь ему предстоит стать во главе семьи Красновых.
В эту самую минуту мать окончательно убедилась, что сын стал главой семьи и теперь только он в состоянии принимать твердые мужские решения. Приподнявшись с дивана, мать глубоко вздохнула, и, поправив фартук, впервые за целый день улыбнулась молодым. Подойдя к ним, она поцеловала Валерку и Луневу, и сказала:
– А в ребята, уже взрослые…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТРАЛ
Следственная камера восемьдесят три смоленской тюрьмы, а в народе (централ), утопала в табачном дыму. Он словно туман, висел в пространстве замкнутой комнаты, и, перемешиваясь с запахом мочи, исходившей от тюремной «параши», щепал за глаза.
В такой духоте и зловещей, жуткой атмосферы, кипела совсем другая жизнь, которая коренным образом отличалась от жизни на свободе. Арестанты из—за жары, располагались на верхней наре, по пояс голые – поближе к окну и азартно резались в самодельные карты, которые они каждый день клеили из тетрадных листов с помощью прожеванного хлебного мякиша.
Тусклая, почерневшая от ваты лампочка «Ильича», вмонтированная за решетку в противоположную стену, лишь обозначала присутствие в камере круглосуточного света. Глазок в камеру -он же «волчок», или по—арестантски «сучка», раз от разу открывался. В нем появлялось недремлющее око местного вертухая, который согласно инструкций, блюл порядок и соблюдение советских законов.
– Че «вертушок», зеньки пялишь!? Давай заваливай к нам, в «буру» скинемся на твои «прохаря»… Мне они как раз по фасону будут… Я в них на танцы ходить буду! – крикнул Фирсан, заглянувшему в камеру охраннику.
– На Магадан пойдешь – этапом, а не на танцы -шманцы -обниманцы, – буркнул иронично охранник. Подследственные залились смехом, продолжая подковыривать надзирателя острыми и колкими шуточками.
После недолгой паузы за деревянной дверью, обитой железом, послышался звонкий щелчок – это открылась кормушка. Окно «кормушки» (дверка для передачи продуктов), распахнулась, и в камеру заглянуло полное, красного цвета лицо надзирателя, которого обитатели тюрьмы называли «вертухаем».
– Ферзь, из вас кто будет? – обратился он к сидельцам осматривая камеру.
– Ну, я Ферзь, – ответил ехидно Сашка, перекатывая окурок «Беломора» из одного уголка рта в другой. – У меня на киче погоняло такое Ферзь…
– Такой как ты Ферзь, может у меня на кукурузу сесть, – улыбаясь, ответил охранник. Он обнажив прокуренные и желтые лошадиные зубы заржал, словно конь.
– Слышишь ты «красноперый» – ты за базаром следи, а не то можешь и на заточку ливером нарваться! Как бы тебя самого на «штырь железный» не натянули, – огрызнулся Фирсанов, улыбаясь. – Вот отгоню «маляву» на волю, и мои кореша, тебя в подворотне, как барашка пришьют. Чик – и будешь ты мертвый…
– Не бузи, в карцер загоню… Базар у меня к тебе – от жигана «Шерстяного». Ты вроде у него в подельниках идешь…
Ферзь вальяжно подвалил к «кормушке» и приблизился к охраннику.
– Ну, чего надо овощ? – спросил он, не очень громко и выпустил остатки дыма в лицо «вертухая».
– Нарываешься? Слушай меня, босота хренова, – ответил «коридорный» приглушенным голосом. – Там на первом этаже, как раз под вами, в расстрельной камере сидит твой подельник – «Шерстяной». Он тебе «маляву» прислал. Слезно просил, чтобы ты подсуетился насчет «бациллы» да курехи. Голодно ему на строгаче. Просит уважить жигана, он я слышал под «вышак» катит… Сказал, что бы ты молчал, как рыба – он на себя все берет.. Ему один хрен светит вышка за то, что он кассира замочил…
– Ладно! Базара нет! Для блатного кореша мне ничего не жалко, – ответил Сашка, и незаметно взяв у охранника маляву, сунул её в рот.
Кормушка закрылась. Ферзь вновь ловко влез на железную нару, чтобы продолжить игру.
– Что надо было вертухаю? – спросил как-то обыденно просто один из старожилов камеры.
Ферзь не говоря ни слова, со всей силы ударил его пяткой в глаз. Это произошло так быстро, что тот слетел со второго яруса на бетонный пол. Сашка спрыгнул на него с нары, нанося руками удары по голове.
– Что ты сука, мне вопросы какие—то кумовские задаешь!? Может ты стукач? Может ты какой подсадной?
– Да ты что, Ферзь? Я же так, для интереса! – стал оправдываться арестант, стараясь защитить лицо от ударов.
– Для интереса—для интереса только кошки трахаются, а потом у них появляются котята, – гневно орал Ферзь. – Мой папашка еще в детстве таким как ты, на этой киче заточкой кадыки вскрывал.
Подобные разборки между уголовниками были в те времена не редкостью. Почти каждый день в тюрьме кто— то умирал от побоев или был прирезан ночью остро заточенной ложкой, которую урки затачивали на острых кромках железных нар, шлифуя на кирпичной кладке. Блатные, как правило, в целях своего лагерного благополучия шли не только по всяким там мужикам, тянущим срок за колосок, или килограмм картошки с колхозного поля, но и по трупам. Охране тюрьмы было наплевать, сколько преступников за ночь загнулось. Меньше народу – спокойней была вертухайская жизнь.
Ферзь отпустил арестанта и встав с пола громко сказал.
– Эй, басота! Под нами, в камере смертников жиган Ваня «Шерстяной» чалится. Ему по указу тройки вышак навинтили. Голодно бродяге, ни кто «дачку» не носит. Кишка гнетет, а по хозяйской пайке и подыхать в облом. Кто сколько может соберите каторжанину «грев»: Пусть «Шерстяной», перед «зеленкой» хоть сытной хаванины хапнет. С набитой кишкой, оно и подыхать веселее!!!
После слов сказанных Ферзем, мужики молча полезли в свои баулы. Кто достал горсть ржаных сухарей, кто сала, кто самосада рубленого вручную. Весь нехитрый мужицкий скарб перекочевывал на «шконку» молодого жигана, где тот умело закручивал «грев» в листы старых газет, которых было в камере вволю. После чего, разогрев в кружке парафиновую свечу, он обильно смочил связанные колбаски каторжанского «грева» расплавленным парафином.
– Санек, «коня» тащить, или будем ногами перебрасывать? – спросил один из арестантов по кличке Сивый.
– Давай Сивый, «коня» – так будет надежней! Давай ханыга, качай «парашу», – сказал он сидящему на первой наре неряшливого вида зашуганному крестьянину.
– А что мне делать, – спросил тот, трясясь от страха
– Будешь дед, толчок откачивать.
– Я не умею, – сказал тот, стараясь прикинуться дурачком.
– Я научу, – ответил Фирсан, и схватив с его головы шапку, кинул ее в парашу, куда отправлялись естественные надобности.– А теперь дед, давай гони шапкой, воду из сифона…
– А шапка?
– Хозяин тебе новую даст, —сказал Ферзь, и вся хата заржала.
Хилый дедок с козлиной бородкой подошел к «параше». Фирсанов три раза ударил кружкой по чугунному стояку, подавая сигнал на связь. Дождавшись ответа, дед взял шапку – ушанку в руку и, словно поршнем, резко выдавил воду из очка. Фирсанов встал на колени и проорал в освобожденное от воды жерло параши.
– Эй, «Шерстяной», гони коня на три метра!
Из чугунного стояка гулко, словно из преисподней, послышалось:
– Понял… Готов!
– Давай Сивый, «коня».
Сивый, откуда— то из— под нары, вытянул плетеную из шерстяных носков и свитеров самодельную веревку. К концу веревки были привязаны щепки, наструганные из продуктового ящика. Щепки располагались таким образом, что расстояние между ними было примерно не более шести сантиметров.
Дед ханыга аккуратно просунул в очко параши веревку, скрутив ее кольцами по периметру трубы. После чего, взяв ведро с запасом воды, резко вылил ее в трубу. Веревка, уносимая ее потоком, полетела на нижний этаж по чугунному стояку. От завихрения, создаваемого водяным потоком, щепки начали вращаться, наматывая веревки с третьего и первого этажа. В какой— то миг веревки перекрутившись, намертво сцепились.
– Есть! – заорал Фирсан, натянув «коня», словно леску с попавшей на нее рыбой.
Зацепив на веревку «грев», он подал сигнал, и «Шерстяной», через чугунный стояк тюремной канализации, потянул его в свою камеру. Таким образом, запрещенная в камере смертников арестантская утварь как сало, табак, сухари, спички надежно перекочевала с третьего на первый этаж. Следом за отправленным «гревом», обратно от Ивана вернулась и предсмертная «малява».
Фирсан снял с «коня» «маляву» и, подойдя ближе к окну, прочитал:
Воровской прогон
Мир дому нашему и всему люду достойному в нем живущему!
Во благо хода воровского я ниже обозначенный вор «Шерстяной» —Смоленский, ставлю вас в курс, что чалищийся в хате восемь три арестант Санек Фирсанов с погонялом «Ферзь», объявляется жиганом с правом решать «людское».
В последний час, хочу проститься с вами и пожелать фарта в деле нашем.
Каторжане, суки, легавые спят и видят, как мы будем шинковать заточками козлов и петухов на зонах. Я призываю вас всех, уважать воровской ход и не давать врагам нашим мусорам творить беспредел и ломать кровью писанные воровские законы. С этого момента, тянуть мазу и решать рамсы за корпусом «Американка» я назначаю Ферзя из хаты восемь три.
Прогон довести до всех арестантов смоленского централа.
«Шерстяной» – Смоленский
– Я, че— то, не понял!? – взвился один из каторжан по кличке Синий. – Ты фраер, дешевый, на зону ни одной ходки не имеешь, а в цветные лезешь! Ты урка, сперва баланды лагерной вдоволь хлебни, а потом положенцем правильным себя мни…
Эти слова, сказанные каким— то «бакланом», больно тронули душу Фирсанова, и он, не удержавшись от обидных слов, в долю секунды выхватил заточку и воткнул ее в глотку Синему.
Синий захрипел. Кровь пузырями мгновенно заклокотала из раны. Он схватился за горло, желая заткнуть дырку ладонью, но его ноги подкосились, и он опустился на бетонный пол камеры. Синий сидел полу, опершись спиной на шконку, а кровь, черная и густая, обильно текла из пробитого горла, прямо на купола собора наколотого на его груди. Через минуту он стал задыхаться и хрипеть. Его глаза выкатились глаза из орбит. Воздух вместе со стоном выходил из пробитого в горле отверстия. Слова, сказанные им превращались в забавный свист и странное бульканье.
Свою кличку Синий получил за цвет кожи. На его теле, наверное, не осталось ни одного свободного места, которое не было бы покрыто татуировками. Купола храмов, ангелы и прочая церковная лабуда перемешивались с русалками и змеями, которые своими телами обвивали кинжалы. Довольно примитивные рисунки покрывали всего Синего. Этот винегрет, даже у первоходов вызывал лишь смех и никакого интереса.
Фирсан, подошел к двери камеры и ногой постучал. На его стук не спеша подошел дежурный вертухай и, открыв, спросил:
– Чяго тебе, урка, надо?
– Веди мусор «лепилу», у нас крендель вскрылся! Прокатал сука, « фуфлыжник» в карты и решил с хаты на больничку свалить.
– Он не зажмурился?
– Нет, но уже скоро, наверное, кони нарежет, – сказал Фирсанов, без всякого чувства сострадания к сокамернику.
За дверью послышался трубный и гулкий голос надзирателя.
– Васька, давай санитара в восемь три, шпилевой вскрылся.
Через несколько минут, громыхая замками, дверь камеры открылась. Два «шныря» с носилками из тюремной обслуги, вошли в хату и замерли в ожидании вердикта санитара.
– Чего стоим, грузим и на больничку, – сказал тот, перевязав глотку Синему, который уже от потери крови был бледен, словно простынь первой категории.
Шныри, хлюпая по луже крови «гадами» по полу, кинули тело арестанта на носилки и уже хотели вынести его вперед ногами, как вертухай стоящий возле двери, проорал:
– Вы шо, петухи, он же еще живой! Давай разворачивай оглобли!
Шныри послушно развернули носилки и вынесли его на «продол» головой вперед.
– Фирсанов, что мне корпусному сказать? – спросил вертухай, закрывая двери.
– Вскрылся фраер, – ответил Фирсанов, и незаметно сунул охраннику в руку десять рублей.
– Заметано! – ответил охранник, и закрыл тяжелые кованые двери.
– Ну что, босота! Все в курсах, что по киче прогон нужно раскидать? – спросил сокамерников Фирсанов, предчувствуя, что с этой минуты он уже наделен воровской властью.
Уже через несколько минут прогон, написанный Ваней «Шерстяным», копировался арестантами. Дед, по кличке Херувим, плевал на химический карандаш и старательно своим желтым от табака пальцем выводил на клочках бумаги то, что написал вор. Как только работа была сделана, несколько «воровских прогонов» двинулись по тюрьме различными путями. Некоторые с помощью хлебного мякиша крепились к днищу алюминиевых мисок, выдаваемых «баландерами» в обед, другие, с помощью «коней», перебрасывались в соседние камеры через решетки.
Со стороны можно было наблюдать, как десятки нитей опутали наружную сторону тюрьмы и по этим нитям, словно по «дорогам», двигались из одной камеры в другую «малявы прогона». Вертухаи бегали вокруг корпуса с длинным шестом, вооруженным металлическим крючком, и обрывали «дороги» наведенные арестантами за несколько минут. Но взамен оборванных, вновь и вновь появлялись новые, и вся эта круговерть продолжалась бесконечно, сводя усилия охраны тюрьмы на нет. К вечеру того же дня, когда «воровской прогон» уже достиг почти всех камер тюрьмы, двери открылась. В дверном проеме появились два надзирателя, которые пристально в полумраке осматривали заключенных.
– Что зеньки лупишь, мусор? – послышался голос Сивого. – Говори, че надо!
– Фирсанов! – обратился охранник. – На выход!
– С хотулями?
– Нет! Пока без хотулей! Кум зовет! – сказал трубным голосом вертухай. – Базарить по душам будет.
Фирсанов слез с нары и, накидывая на ходу рубашку, вышел из камеры, заложив руки за спину
– Лицом к стене! – скомандовал один из охранников.
Фирсанов послушно повернулся лицом к стене, продолжая держать руки за спиной. Один из охранников ощупал его одежду сверху вниз, а другой тем временем закрыл камеру и ткнул большим ключом его в бок.
– Вперед! – скомандовал властный голос охранника, и Саша Фирсанов под конвоем вступил на чугунную лестницу, которая вела на первый этаж.
Корпус «Американки» напоминал большой квадратный стакан из красного кирпича. Огромные стеклянные окна с первого по третий этаж находились напротив друг друга. По периметру трех этажей выступал металлические балконы с перилами. По центру тюрьмы с первого этажа на третий шла широкая чугунная лестница. На каждом этаже находилось порядка 30 камер, в каждой из которых шла своя уголовная жизнь.
Кабинет «кума», как называли «урки», начальника оперативной службы тюрьмы, располагался на первом этаже возле кабинета корпусного. Идущий впереди охранник, открыл двери и доложил по уставу:
– Товарищ майор, заключенный Фирсанов, по вашему приказанию доставлен!
– Давай сержант, заводи нового «положенца», – сказал майор. – Хочу глянуть на сынка «Гнусавого». Весь бля… цвет блатного мира, мать его…
– Вперед! – скомандовал «вертухай», толкнув Фиксу в спину связкой ключей.
– Ну что, Фирсанов Саша – Ферзь, проходи, присаживайся, – сказал майор, и указал на стул, прикрученный к полу шурупами.
Фирсанов, сев на стул, закинул ногу на ногу. Его растоптанные ботинки без шнурков вывалили свои языки, обнажив голые, без носков ноги. На правой ноге, на косточке красовалась татуировка паука, что говорило о его принадлежности к воровской, то бишь блатной масти.
– Что, начальник, надо!? – нагло спросил Фирсанов, почесывая подмышками.
– Я слышал, ты сегодня в «паханы» произведен!? – спросил кум, присаживаясь за стол напротив Фирсанова.
– А че, вам в падлу мое положение? Решил, начальник, с первого дня меня под пресс? Да я плевать хотел на твой пресс! Я сам выбрал свою каторжанскую долю, вот и буду тянуть срок, как полагается, – сказал Фирсан, почесывая под мышкой укусы клопов и бельевых вшей, кишащих в одежде арестантов.
Майор улыбнулся и, открыв стол, достал пачку папирос, кинув их перед арестованным.
– Закуривай!
Фирсанов взял пачку и, вытащив папиросу, дунул в гильзу со свистом, затем сжал ее зубами и прикурил. Несколько раз он языком перевел папиросу из одного уголка рта в другой, стараясь показать свой гонор.
Майор НКВДешник улыбнулся, и выдержав паузу сказал:
– Ты себя в зеркало видел? Что ты босяк куражишься передо мной, словно вошь лобковая на гребешке? Я тебе что, дешевый фраер!? – спросил майор, видя как Фирсанов, перед ним изгаляется.
– А че!?
– А не че! Хер тебе через плечо! Ты сопляк, когда еще мамкину юбку держал своей ручкой, я уже банду братьев Левашовых громил. Да и батя твой – «Гнусавый» был здесь на киче в авторитете. Базарить с настоящими ворами намного приятней, чем с дворовой шпаной. Если бы твой подельник, не был «Шерстяной», то сидел бы ты сейчас в семь шесть, и кукарекал бы на параше, как живой будильник. А так гонор из тебя воровской попер! А ведь ты Фирсан, не вор, ты скорее будешь«бакланом» в лучшем случае…
– Обоснуй начальник! А то я сейчас….
– Ты сейчас можешь угодить только на карцер. Посидишь на киче, на воде и хлебе, вот тогда и поймешь, что с кумом дружить нужно, а не лаяться. Я чуял, что тебя «Шерстяной» сделал паханом?
– Ну было! – коротко ответил Фирсанов.
– А ты знаешь, что все положенцы с нами дружат?
– Ты че начальник, туфту гонишь? Я в твои байки не верю! Чтобы блатные на кума шпилили, да мусорам стучали, как суки лагерные? Че – то тут ты фуфло толкаешь, – сказал Фирсанов, пыхтя папиросой.
– Тебя стучать никто не заставляет, у нас своих стукачей хватает, а вот махновщину пресекать, это уже браток твоя забота. Сам «Шерстяной» тебе зеленую дал… Так вот и уважь вора, делай то, что он просит. Мужика не гнобить, поборами не заниматься. Петухов не обижать. Да и с суками и козлами на ножах не сходиться… А то и они могут пырнуть в бане в кадык, как ты Синего —хрен оклемаешься. Что думаешь, я не знаю, кто ему заточку в глотку воткнул?
«Синий, сука продал», – подумал Фирсанов и тут же сказал. – А не хрен было ему мою матушку вспоминать! Вот и нарвался сука на заточку…
– Не в Синем дело, Фирсанов! Ты теперь преемник вора на «Американке», теперь тебе суждено с босотой рамсить. Я не хочу, чтобы тебя в зоне на заточки за махновщину подняли и за беспредел спросили…
На какое— то время Ферзь задумался. В словах мусора была заложена истина, от которой ему уйти было невозможно. Не смотря на свои восемнадцать лет, он уже имел положение в тюремной иерархии, что давало ему перспективы карьерного роста в настоящие воры.
– Я понял тебя, начальник, – сказал Фирсанов и, взяв со стола пачку «Беломора», сунул ее себе в карман.
– Для начала хочу тебя предупредить, что сученые тебе жизни не дадут. Так что подтягивай к себе «торпед с огромными кувалдами», которые масть воровскую охранять будут. Для меня ведь самое главное, чтобы вы на корпусе не баловали. А когда на этап, на зону пойдете, то там дело конвоя… Они долго не цацкаются, за малейший косяк, пуля в лоб и на цвинтар с номером уголовного дела на пятке, понял?
– Блефуешь, начальник! Я по базарам знаю, какая жизнь на зоне! «Шерстяной» в Магадане рыжье мыл! Там, за хороший кусок рыжухи и пайка баланды двойная и срок косят на треть.
– Косят, косят, да только козлам и мужикам, а такого блатного брата, как ты держат в отдельных бараках. Вам же ворам работать впадлу. Вот только тем приписочкам, по трудодням, которыми вы раньше занимались, и за которые вам срока резались —конец пришел. Работяги теперь, от воров и блатных, в других бараках чалятся, и пахать на вас не хотят…
– Я, начальник, вор! Как мне предписано судьбой, так пусть оно и будет, – сказал Фирсан. – Время покажет и пусть оно нас рассудит…
Майор нажал кнопку под столом и в кабинет вошел вертухай.
– Вызывали!?
– Да, Васильев, веди этого босяка в камеру. Пусть еще ума набирается. Придет время, сам на стрелку напросится, – сказал майор, закинув хромовые сапоги на стол.
Конвоир подошел к Фиксе, и сказал:
– Руки за спину… Пошел вперед!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ЧЕРНЫЙ КАРЦЕР
Повинуясь охраннику, Саша Фирсанов скрестил свои руки за спиной и вышел из кабинета.
Он шел, глядя на свои ботинки, из которых так и норовили выскочить его босые ноги. Хлопая «гадами» по чугунной лестнице, Фирсанов поднимался наверх в сопровождении надзирателя, который шел сзади. Вдруг на площадке второго этажа он столкнулся, до боли знакомым ему человеком, который, так же как и он двигался под конвоем, спускаясь вниз. В одно мгновение Сашка узнал отца своего заклятого врага Краснова. Да несомненно – это был отец Красного. Поравнявшись с ним, Фирсан поздоровался:
– Здрасте, Леонид Петрович, – сказал Сашка, улыбаясь на всю ширину рта.
– А, Саша, здравствуй, здравствуй! – ответил Краснов. – Ты как здесь?
– Что ты лыбу давишь, профура? – и тут же ногой от конвоирующего вертухая получил в бок хромовым сапогом.
– Ты че сука, легаш поганый делаешь? – заорал Фирсанов и опустившись на колени, нанес удар охранника в пах. Тот взвыл от боли и схватившись за свои ушибленные тестикулы, присел. Второй охранник, стоявший за спиной новоявленного «положенца», сжав связку ключей, со всего размаха ударил ими Фирсана по голове. Фонтан искр и нестерпимая боль прокатились от затылка до самых пяток. Фирсанов упал. Упал лицом на чугунную площадку между этажами. Четыре сапога стали жестоко избивать его.
– Что же вы, делаете мужики? Он же еще пацан! – вступился Краснов, и не удержавшись ударил вертухая в челюсть.