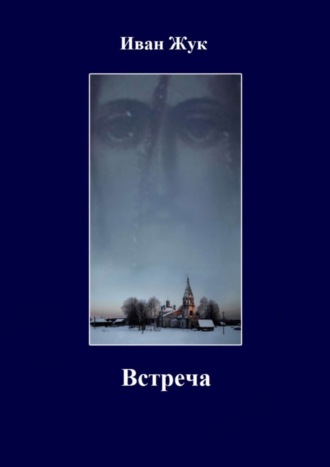
Полная версия
Встреча
Представляя обитателей палаты, Катышев так увлекся своим рассказом, что даже не заметил, как к нему подступил Сырцов.
– Ах ты, сукотина! – ринулся к ногам Катышева поэт. – Опять мои тапки стибрил! Ну, я тебя урою!
– Спокойно, спокойно! – сбрасывая с ног тапочки, улизнул от поэта Катышев. – Вообще-то – это мои тапочки. Вон – с наклеечкой. А твои я не знаю где. Может, их Алик свистнул, – метнулся он по проходу между кроватей.
– Так ты еще и брехать! – в два-три прыжка настиг его у двери поэт и, повалив адвоката на пол, принялся избивать. – Вот тебе, вот, сукотина!
Замечая начавшуюся драку, Миронка молча отбросил веник и ускользнул за дверь.
Привстав над шахматами, у тумбочки, о. Самсон примирительно пробасил:
– Братья, ну что вы делаете? Накажут же! Как скотов несмысленных!
Однако Катышев, виясь уже, будто угорь, нырнул под койку ядерщика Канищева, и, несмотря на то, что Сырцов колотил его по спине и ниже, он патетично взывал к соседям:
– Товарищи! Господа! Прошу обратить внимание: избиение среди бела дня! Мелкое хулиганство! Статья сто семнадцать «б»: от трех до пяти лет общего режима!!!
Подлетая к дерущимся, бухгалтер Салочкин подзадорил Сырцова сзади:
– Дай ему! Дай ещё! Он вчера мою кашу свистнул! А только что вон у новенького ложку увел, я видел!
Видя, что ему не спастись от тумаков поэта, Катышев возопил:
– Россия!
И тотчас стоявший до этого недвижимо ядерщик содрогнулся и грозно спросил, оглядываясь:
– Кто тут против России?!
– Вон! Вон! Бей жида! – виясь под поэтом по полу, указал на Сырцова Катышев.
Канищев занес кулак, но опустить его на приподнятый зад Сырцова ему так и не привелось. В это время из-за двери в палату влетели два дюжих малых в голубых санитарских халатах, со шприцами наготове. И, направляясь к койке, над которою замахнулся ядерщик, тот, что был чуть покрепче и поувесистей, гориллообразный Сереня, громко и злобно рявкнул:
– Утюг!
Ядерщик тотчас оцепенел. С кулаком, занесенным вверх, он так и остался стоять у тумбочки, в проходе между кроватями, тогда как два санитара, разбросав дерущихся по палате, тут же вкатили им по шприцу галоперидола в задницы.
– Это не я, не… я! – успел взвизгнуть Катышев перед тем, как его тело окаменело, а санитар Сереня одним мощным выверенным рывком подхватил адвоката с полу и отшвырнул его, оцепеневшего, на кровать.
– Фашист! – прохрипел под другим санитаром поэт Сырцов и тоже оцепенел.
Небрежно схватив поэта за воротник пижамы, менее подготовленный санитар, пыжась перед Сереней, отшвырнул и его на койку. Однако поэт, проскользнув по ней, не удержался на одеяле и плюхнулся снова на пол.
– Куда?! Не мешки, чай, грузишь, деревня! – урезонил Сереня друга и, ловко забрасывая поэта кудрявой макушкою на подушку, пригрозил санитару пальцем: – Мягче. Как мяч в корзину. Ну сколько можно тебя учить?
И, замечая листок бумаги, вывалившийся из кармана штанов Сырцова, поднимая его, сказал:
– А теперь – спать! Всем спать! Ночь на хрен!
При слове «ночь» вошедший в палату Миронка схватился руками за голову и возопил:
– Китайцы идут? Спасайся!
– День, – зло прохрипел Сереня и сплюнул с досады на пол. – Но все равно – всем спать!
При слове «день» Миронка снова пришел в себя. Он тотчас же отряхнулся и, всем улыбаясь и низко кланяясь, ускользнул на свою постель, под теплое одеяло. Там он сложил под щекой ладони и в блаженстве закрыл глаза.
– Запарили, – тихо отметил Алик и тоже прилег на койку.
Салочкин и о. Самсон прилегли на кровати тоже.
И тут, когда все больные, находившиеся в палате, за исключением, разве, ядерщика Канищева, оказалась лежащими на кроватях, со своей койки покойно встал Иван Яковлевич Корейшев. И, взяв с подоконника небольшой кусок штукатурки, отчертил мелком угол палаты в полуметре от своей кровати. После чего, опустившись там, перед пустым углом на колени, широко и размашисто перекрестился, да и принялся отбивать поклоны.
Уже находясь у двери, Сереня с трудом прочитал с листа, уроненного поэтом:
Я выше, чище, чем звезда,
Но грязь земли в меня вцепилась…
– Хм, – ухмыльнулся он своему напарнику и перед тем, как выйти, еще раз оглянулся назад на обитателей палаты.
– Э! Звезда! – замечая Ивана Яковлевича, молящегося в углу, рыкнул ему Сереня. – Ты что, меня плохо слышишь?! Я же сказал: спать!
И он потянулся уже к карману, видимо, за шприцем, да только напарник шепнул:
– Не надо. Саблер его крышует.
Сереня задумался на секунду и, переварив услышанное, сказал от двери Корейшеву:
– Ладно, звезда. Только смотри мне: одно слово услышу, живо с небес спущу!
И он вместе с товарищем-санитаром вразвалочку удалился.
По коридору шагали четверо: Саблер, Щегловитов, седой старик с окладистой бородой и санитар Сереня. Санитар докладывал главврачу:
– Как пометил кусок палаты в самом углу, за койкой, так и живет там почти безвылазно. Разве что на толчок выходит. А на кровать так даже и не садится. То на коленях торчит и молится, то лежит на полу, как труп, и ни на какие вопросы не отвечает.
– Ну, и в чем дело? – спокойно спросил главврач.
– Так, непорядок, – с трудом нашел нужное слово Сереня. – Какой пример молодежи?
Снизу вверх устало зыркнув на санитара, Саблер, уже открывая дверь, услужливо предложил гостям:
– Прошу.
И пока Щегловитов со стариком бочком проследовали в палату, главврач, замечая неподалеку санитарку Валечку, – она как раз вынесла в коридор кучу пустых банок из-под пива, – сказал Серене:
– Ваша правда, Сергей Васильевич. Дурной пример – заразительный. Еще раз увижу это безобразие, – кивком указал он в сторону пивных банок, – уволю.
Все обитатели палаты, в которой «лечился» Иван Яковлевич, каждый со своего места, провели взглядами Щегловитова, старика с окладистой бородой и Саблера.
Приблизившись к застывшему на коленях, лицом к пустому углу Корейшеву, Саблер откашлялся и сказал:
– Доброе утро, Иван Яковлевич.
Оглянувшись на посетителей, Иван Яковлевич встал с колен и, обращаясь к Щегловитову, поинтересовался:
– Ну как, дядя, проверил печень?
Щегловитов кивнул в ответ, и Иван Яковлевич продолжил:
– И какое же будущее ты выбрал? Под патриаршую тюрю в реку огненную или еще пожить?
– Пожить, – тихо, но твердо ответил предприниматель, и тогда Иван Яковлевич, улыбнувшись ему, сказал:
– Вот это правильно! Продашь, значит, все свое ничего, раздашь денежки всем обиженным и – в Иерусалим. Тут я тебе чертежик вычертил, – достал он из бокового кармана больничной пижамы свернутый вчетверо лист бумаги и, развернув его, протянул Щегловитому: – Вот. Сядешь в Одессе на пароход – и до Бар-града. Поклонишься Николаю Угоднику и прямиком на Святую гору. А оттуда до Иерусалима – рукой подать.
– Любопытный план, – пряча листок в карман пальто, сказал Щегловитов.
– Да это уж какой Господь тебе начертал, – улыбнулся в ответ Корейшев. – Главное, в Бар-граде бананов не переешь. Вспучит. А на цирроз свой наплюй. Рассосется. Ну, а тебе чего? – обратился он к старику с окладистой бородой, стоявшему рядом с предпринимателем и важно кивавшему на каждую фразу Ивана Яковлевича.
Явно не ожидая, что к нему обратятся, старик стушевался и отступил за спину Щегловитому.
– Это мой повар Артем, – представил его Щегловитов. – Я уезжаю, его рассчитываю. Вот он и хочет в деревню к себе вернуться. А его старый отцовский дом, пока он у меня служил, вроде бы рухнул, что ли? Вот он и хочет построить новый, а какой именно – сомневается: то ли со шлакоблоков, то ли бревенчатый, пятистенку. Чтобы им вместе с внучкой было бы в нем покойно.
– Приляг, – предложил старику Корейшев и указал на пол за своей кроватью: – Вот тут.
Старик затравленно глянул на Щегловитова, но тот с улыбкой сказал ему:
– Ложись, коль уж вызвался попросить совета у Божьего человека.
Старик покряхтел и лег.
– На спину. Так, – склонился над ним Корейшев и вымерял рост старика вершками: – Два аршина, десять вершков. Подушка, чтоб покойно. Ну вот, поднимайся. – И как только старик встал с пола, спокойно сказал ему: – Дом советую фанерный: два аршина двенадцать вершков. Или метр девяносто пять на семьдесят.
– Так мы же с внучкой в него не влезем, – напомнил Ивану Яковлевичу старик.
– А зачем с внучкой? Внучка тут ни при чем, – отмахнулся от старика Корейшев. – Она сама себе дом построит. Ты лучше вот что: как приедешь на родину, все свои сбережения в банку отложи да прикопай её где-нибудь в саду. Ну, и план какой-никакой составь: где, мол, копать и сколько. Положи план в конверт и конверт тот снеси соседке: внучке, мол, передашь, когда она из мест не столь отдаленных на побывку домой заявится.
– Да нет, вы что-то путаете, – возразил старик. – Она же у меня учительница. В Самаре.
– Ты слушай, коли пришел. Вдругорядь повторять не буду, – урезонил старика Корейшев. – Деньги – в банку, письмо – соседке. А с домом не торопись. Внучка сама построит. И вот еще что, – обратился Корейшев вдруг к главврачу. – Сюда скоро один человек поступит, большая шишка, из новых русских, так нельзя ли его ко мне, на мою кроватку прикомандировать. Пригляжу за ним честь по чести, можете даже не сомневаться.
– А что за человек? – извлек из бокового кармана халата ручку и записную книжку главврач.
– Карнаухов Юрий Павлович, – продиктовал ему Иван Яковлевич. – Шестьдесят второго года рождения. Бесноватый.
– Хорошо, – спрятал главврач записную книжку и авторучку обратно в карман халата.
– Да, и кирпичиков бы сюда, – вновь попросил его Корейшев.
– Кирпичиков? – переспросил Саблер.
– Ну да. Щебеночки. Бутылочек битеньких. Черепички. А то люди пойдут, надо будет их привечать. Да и по стуку скорей отыщут.
– Хорошо. Я распоряжусь, – согласился Саблер. – Санитар принесет, сколько там Вам понадобится.
– Зачем санитар? – возразил Корейшев. – Миронку вон обязуй. Он у нас по хозяйской части.
С дальнего конца палаты, со своей койки, за разговором Ивана Яковлевича и Саблера внимательно следил о. Самсон. Поэт же, склонившись к тумбочке, писал на листке стихи; а адвокат Катышев улыбался, глядя туда-сюда, высматривая поживу.
Под грохот разбивающихся камней, из глухой непроглядной темени, на свет одинокого фонаря, мерно раскачивающегося над грязью, валила толпа китайцев. Медленно, неприметно фонарь превратился в желтый, расплющенный под рукой лимон, которым Иван Яковлевич, повторяя движения фонаря, натирал пред собою стену.
Рядом с ним, перед кучей мусора, которым была завалена часть пола в углу палаты, сидел на корточках краснощекий вспотевший мужик в длиннополом вязаном свитере и с усердием бухал одной половинкой красного огнеупорного кирпича о точно такую же запыленную, разваливающуюся в руках – другую. После каждого грохота кирпичика о кирпич половинки в руках мужика раскалывались, и на огромную кучу мусора перед его ногами сыпались вместе с кирпичной пылью красные разнокалиберные осколки.
Прекращая тереть лимоном стену, Иван Яковлевич обернулся к сидящему мужику и тихо сказал ему:
– Ладно. Хорош пылить. Ну, что ж ты из кирпичей так мало песку насеял?
– Так песок же – скипелся весь, – объяснил Корейшеву посетитель.
– А жена твоя не скипелась разве с выводком-то твоим, пока ты по заработкам мотался?! Что же ты из неё побоями истерики выбиваешь? Разумно ли это, а? Ну, угробишь жену, а дальше – сам загремишь на нары. И детям сразу покойней станет. Где-нибудь в спецприемниках. Нетушки. Истерит жена – так ты её лаской исправить пробуй, личным примером, кротостью. Тогда и детишкам наука будет. Да и жена исправится, на доброго мужа-то глядучи.
– Ну, это вряд ли, – пробурчал себе под нос Краснощекий.
– А, – досадливо отмахнулся от него Корейшев и просопел затем: – Ладно, ступай уже. Завтра договорим.
И пока Краснощекий, вытирая ладонью разводы грязи на своем угревато-мясистом лице, приподнимался с пола, словно почувствовав на себе чей-то упорный взгляд, Иван Яковлевич оглянулся на толпу народа, безмолвствующую за его кроватью.
Там, среди старых тщедушных бабок в разноцветных платочках на головах и пары суровых мужчин в тулупах, стояла молоденькая монахиня. Это была та самая симпатичная девушка из Смоленска, из-за которой Ивану Яковлевичу пришлось столько выстрадать в психбольнице.
Завидев её, Корейшев радостно улыбнулся и двинулся ей навстречу:
– Таня!
– Таисия я, – порозовев, поправила Ивана Яковлевичи монахиня.
– Ну да, конечно! Экий я балбес! – стукнул Корейшев себя по лбу и поясным поклоном поздравил монахиню с пострижением. – С пострижением Вас, матушка Таисия. Вот видите, а чудо-то – свершилось. Теперь вам и за квартиру платить не надо, да и матушка всегда рядом, напоена и накормлена. Как просили.
– Слава Богу, – ответила монахиня. – Спасибо Вам, Иван Яковлевич.
– Мне-то за что? Бога благодари. Это же Он вам устроил всё.
– И все равно – спасибо.
Иван Яковлевич кивнул. И вдруг настороженно оглянулся.
Из-за двери в палату донеслось все усиливающееся похрюкиванье.
Все, находившиеся в палате, тоже взглянули в ту же сторону.
– Держись, мать, – сжал руку монахине Иван Яковлевич. – Сейчас мы увидим, как свершаются суды Божии.
В палату вошел главврач, а сразу за ним два санитара в белом вкатили за порог коляску, на которой, спеленатый по рукам и ногам в смирительную рубашку, сидел недавний богатый предприниматель Юрий Павлович Карнаухов. Пуская слюни, бывший вершитель судеб, весь как-то скрючась, дергался и громко, истошно хрюкал.
– Гость к тебе, Иван Яковлевич, – представил его главврач. – Как просил.
С грустью взглянув на умалишенного, Иван Яковлевич отвернул одеяло на своей койке и кивнул:
– Укладывайте.
– Только предупреждаю, – сказал Саблер. – Он безнадежен. Под себя ходит. Ест экскременты. Ну и визжит, как видишь. Тут такое начнется. И навсегда.
– Все в руках Божиих, – сказал Корейшев и прикрикнул на санитаров: – А вы что уставились на него? Укладывайте, укладывайте.
Санитары взглянули на главврача, а тот лишь развел руками. Тогда Сереня кивнул напарнику, и они уже быстро и слаженно отвязали Карнаухова от коляски и, уложив его на постель к Корейшеву, пристегнули руки и ноги умалишенного к спинкам кровати резиновыми ремнями.
– Ну, нет! Это уж чересчур! – срывая со лба мокрое полотенце, вскочил с постели адвокат Катышев. – Леонид Юльевич, я выписываюсь!
– Э-э-х! – потрепал себя за остатки волос бухгалтер Салочкин и тоже метнулся к Саблеру. – Уж лучше тюрьма, чем с этими! – указал на Корейшева с Карнауховым. – Я тоже здоров. И меня выписывайте.
– Очень хорошо, – улыбнулся Саблер и повернулся к Алику. – А вы, молодой человек, не хотите ли в армии послужить?
Всё время стоявший у подоконника Алик из-за плеча посмотрел на Саблера и вновь отвернулся лицом к окну.
– Ну и дура! – крикнул ему бухгалтер, но даже Алик не шелохнулся.
Тогда Саблер спросил у оставшихся обитателей палаты:
– Больше никто выписаться не хочет? Толя? Отец Самсон?
Поэт лишь пожал плечами и снова склонился к тетрадке с записями:
– Мне не мешает.
О. Самсон потупился.
– Ну, хорошо, – сказал Саблер. – Будь по-вашему, – и кивнул желающим выписаться: – Пойдемте.
В тот день посетителей в палате не было. Больные (а их оставалось всего семеро) находились каждый в своем «углу». Алик, как и обычно, поглядывал за окно, во двор; поэт сочинял стихи; физик-ядерщик памятником стоял возле своей кровати; Миронка подметал пол; и только о. Самсон, перебирая четки, молча следил от тумбочки за склонившимся над безумцем Иваном Яковлевичем.
– Спокойно, не крутись, – отмыв Карнаухова от фекалий, протер его влажной тряпкою Корейшев.
Между тем Карнаухов дернулся и, сбив ногой с табурета таз, повизгивая, захрюкал.
Иван Яковлевич привстал и, глядя, как растекается лужа воды под его кроватью, устало позвал Миронку:
– Миронка, тащи тряпку.
Миронка отбросил веник и поспешил к двери.
– Как тебя бесы-то скрутили, – наблюдая за корчами Карнаухова, с грустью сказал Корейшев. – Неужто не отобьемся? – И, осенив себя крестным знамением, начал безмолвно шевелить губами.
Видя, как от молитв Корейшева Карнаухова начинает выворачивать все сильнее, о. Самсон встал и подступил к кровати, на которой неистовствовал бесноватый.
– Давай помогу, – накрыл он огромными руками ноги умалишенного.
– Только молитесь, батюшка, – предупредил Корейшев. – Иначе не он Вас замучает.
И теперь уже они оба, – бывший священник на пару с Иваном Яковлевичем, – крепко стягивая простынями брыкающегося безумца, молча зашевелили губами.
Взглянув на них, поэт привстал со своей кровати:
– Может, и я чем могу помочь?
– Да ты уж пиши, пиши, – улыбнулся ему Корейшев. – Жги сердца, если Богом призван. А с какашками мы и сами как-нибудь разберемся.
Порозовев, поэт положил исписанный лист под подушку и не спеша подошел к кровати с похрюкивающим безумцем.
– У меня бабка так же орала перед смертью, – сказал он, поглядывая на Карнаухова. – У нее рак был. Матки.
– А у него – души, – ответил Корейшев. – Ну да не беда, отмолим.
– А это возможно? – спросил поэт.
– У Бога все возможно, – сказал Корейшев. – А ну сходи за Миронкой. Что-то он там пропал.
Поэт лишь кивнул и вышел.
В последний раз выгнувшись в пояснице, Карнаухов вдруг рухнул на спину и, прекращая хрюкать, тотчас же захрапел – уснул.
Заканчивая пеленать его, Иван Яковлевич спросил у о. Самсона:
– Говоришь, проверка закончилась?
Несколько удивившись заданному вопросу, о. Самсон лишь повел плечом и опустил глаза.
– Ну правильно, правильно, – привязывая больного к койке, утвердительно кивнул Корейшев. – В таких делах лучше не торопиться. А как насчет баньки, а, о. Самсон? Сегодня – пятница; может, вместе попаримся?
– Можно и вместе, – рассудительно ответил о. Самсон.
Вечером в бане, упершись руками в скамейку, Корейшев покрикивал на о. Самсона, который стегал его веничком по спине:
– Крепче бей, крепче. Вот так. Ну, хватит.
Распрямившись, Иван Яковлевич окатил себя шайкой воды близ душа. И, потряся головой, сказал:
– Ну и здоров ты, батюшка. Что же в дурке-то прохлаждаешься, старец божий?
– Лечусь, – сел на скамейку о. Самсон.
– И от какой же хвори?
– От уныния, сын мой.
– А я слышал, что уныние – это грех. От недостатка веры душа помрачается и тоскует, – сняв с гвоздика полотенце, принялся вытираться Иван Яковлевич.
– Может, и так…. – взглянул в покрашенное окошко о. Самсон.
– Тогда при чем тут дурка? – отбросив полотенце на скамейку, принялся одеваться Иван Яковлевич. – Молиться надо. Посты блюсти. Жить по Евангелию. Что, забыл?
С трудом поднявшись на ноги и направляясь уже под душ, о. Самсон досадливо усмехнулся:
– И какой же ты умный, Ваня. Видно, в прошлом году крестился? Что, угадал, пророк?! Советы мы все горазды. А вот как с собой справиться – это уже вопрос! Ничего, поживешь с моё – тогда и поговорим.
И о. Самсон, подняв руку ладонью к Ивану Яковлевичу, дал понять Корейшеву, что он разговаривать не намерен.
Натягивая рубашку, Корейшев понимающе кивнул.
За окном, в конусе света одинокого фонаря, с трудом освещавшего часть больничного палисадника с мусорной кучею у забора, падали крупные хлопья снега.
Наблюдая за их полетом, Алик вздохнул, потягиваясь:
– Тоска.
От кровати со спящим над уткою Карнауховым, Миронка, ссутулившись, предложил:
– Цветы вон полей. Или пол подмети. Послабит.
Полупрезрительно покосившись на сидящего в уголке Миронку, Алик снова выглянул за окно.
Глаза Карнаухова приоткрылись. Сквозь щель в едва приоткрытых веках он внимательно проследил за тем, как, поднявшись с кровати, поэт Сырцов обратился к Алику:
– А хочешь, я стихи тебе почитаю? – и он пошагал к окну.
– Тихо вы там, – зашипел на ребят Миронка. – А то Юрика разбудите, – и, в тревоге взглянув на дверь: – Как же долго они там моются.
И тут спеленатый по рукам и ногам в смирительную рубашку Карнаухов привстал с подушки, сладко зевнул, оглядываясь, и, цокнув зубами, вдруг весело рассмеялся:
– Оба-на! Я что, буянил, да? – оглядел он себя, спеленатого.
В ужасе отшатнувшись от подопечного, Миронка застыл на месте, в проходе между двумя кроватями, и в трепетном онемении покосился на Карнаухова.
Обращаясь к замершим у окна и с тревогой взирающим на него поэту Сырцову и призывнику Алику, Карнаухов доверительно прояснил:
– А я их, между прочим, предупреждал: нельзя смешивать дурь с «Текилой». Крышу снесет на раз! А они – наливай, нищак. Вот тебе и нищак. А ну-ка, пацанчики, развяжите меня…
– Куда?! Нельзя! – растерянно замахав на ребят руками, отпрянул к двери Миронка. – Я лучше Сереню вызову.
– Сереню? Дежурный доктор? – глядя на Алика и поэта, доверительно поинтересовался Карнаухов.
– Санитар, – первым направившись к Карнаухову, лениво отметил Алик.
За ним проследовал и поэт.
С улыбкой взглянув на молодых парней, привыкших всё делать в афронт начальству, Карнаухов высокомерно сказал Миронке, замявшемуся у двери:
– Ну, чего стал! Быстрее зови Сереню! Некогда мне прохлаждаться с вами. И так миллионов тридцать из-за этой гребаной презентации потерял.
Натягивая пижаму, о. Самсон сказал:
– Все мы по молодости романтики. Подвига душа жаждет. Да только жизнь, сынок, по мелочам всё больше раскручивает тебя. Оглянуться, брат, не успеешь, как ты уже не с Христом, а с Иудой в паре. А как оно так вот вышло, сразу и не понять. Вроде ж хотел как лучше. Ан предал и себя, и всех. Без всяких серебренников. Лавируя между кесаревым и Божьим.
Разглядывая дырку в своем носке, Иван Яковлевич сказал:
– Если ты имеешь в виду твои писульки в органы, так никого ты не предавал. Так, ерунду пописывал. Да и за ту покаялся. Господь тебя давным-давно простил.
Вначале несколько удивившись, о. Самсон вдруг побагровел и ударил себя кулачищем в грудь:
– Зато я себя не прощаю!
– А вот это – гордынька! – пригрозил ему пальчиком Иван Яковлевич. – Кто ты такой, чтобы суды вершить? Паства без пастыря пропадает. Душа по делу изнылась. А он, видишь ли, окопался тут и – унывает. Скажите, пожалуйста, какой совестливый попался! Прямо тургеневская барышня! Да ты забудь про себя, про свои болячки и к людям ступай, паси! И все как рукою снимет!
В это время, пока в палате поэт Сырцов и призывник Алик услужливо освобождали Карнаухова от смирительной рубашки, сам Юрий Павлович повелительно объяснял Серене, застывшему перед ним с сотовым возле уха:
– Снимешь с карточки штуку баков. Коньячку прикупи, бананчиков, шампанского, шашлычков, – подмигнул он поэту с Аликом. – Ну и девочек не забудь. Лучше звони с Пихатовной. У ее красоток хоть и ноги не от ушей растут, зато они понежнее. А то с этими моделями – одни кости. А дай-ка я лучше сам, – выхватил он телефон из рук замершего Серени и деловито заметил в трубку: – Так, Валерьян Лукич, сейчас к тебе Сергей, – и, прикрывая рукою сотовый, обращаясь к Серене: – Как там тебя по батюшке?
– Васильевич, – млея от благодарных чувств, с трудом просопел Сереня.
– Сергей Васильевич на тачке подрулит, обслужи уж его по полной! В долгу потом не останусь. Ага! Хорошо! Хоккей, – и вновь обращаясь уже к Серене: – Ладно, беги, родной! Валерьян тебе всё устроит!
В бане о. Самсон, повертев головою туда-сюда, просопел, растирая слезы:
– Поздно, сынок. Нет больше о. Самсона. Был да весь вышел. Труха одна. Тут мне жаба и цыцки даст. Да и тебе – тоже! Га-га-га! – рассмеялся вдруг, но, видя участливый, полный сострадания взгляд Корейшева, устремленный на него, тотчас же сник и спросил растерянно: – Что, обмельчал? Уязвляю, да?
– Неважно, – ответил Иван Яковлевич и принялся собираться. – Пойдемте, батюшка. А то там Юрик. Как бы Миронку не напугал.
– Прости, – вдруг рухнул о. Самсон на колени перед Корейшевым.
– Ну что Вы! Вставайте, батюшка, – попробовал Иван Яковлевич приподнять о. Самсона.
– Виноват. Прости, – настоял тот, даже не шелохнувшись.
– Бог простит, – опустился Корейшев на колени перед о. Самсоном. – И Вы меня, батюшка, простите.
– Спасибо, – обнял Корейшева о. Самсон и смачно поцеловал в щеку. – А я грешным делом думал, что ты колдун. А ты вот он какой, оказывается.
В ожидании возвращения отъехавшего за девочками Серени, Юрий Павлович разлил по кружкам спирт и усмехнулся уже хорошо подвыпившим поэту Сырцову и Алику:
– Жизнь, она, братцы, единожды нам дается. И прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно. Правильно? Мироныч, друг, – вдруг обнял он старика и чмокнул его в залысину. – Ну что, пацаны, вздрогнули? За удачу!



