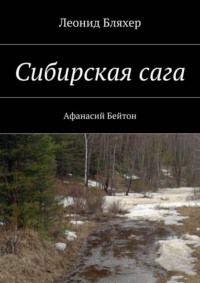Полная версия
Кадиш по Розочке
– Додик? – подняла глаза бабушка на вошедшего в ее комнату внука. – Проходи, садись. Надо было сразу с тобой все обговорить. Да времени все не было.
– Я слушаю, бабушка, – ответил внук, присаживаясь.
– Ты уже понимаешь, что мы сворачиваем дела в России. И, конечно, интересуешься, почему я так поступаю. Так?
– Вам виднее, бабушка.
– Не лукавь.
– Да. Не понимаю. Неужели все настолько плохо?
– Как посмотреть. Если по биржевым котировкам, то все не очень плохо, хотя и не радужно. Если бы дело было только в них, я не стала бы создавать столько цорес всем окружающим. Бывало и хуже, но выкручивались. Дело в другом. Это непросто объяснить. Даже сказать непросто. Тут не логика, которую так любит твой дядя. Тут чутье. Я почувствовала: Россия почему-то сошла с ума. Почему? Не знаю. Даже не скажу, что для меня было последней каплей. Но точно знаю, что она сошла с ума, а в стране, которая сошла с ума, делать дела я не смогу. Я тебе говорила, что хочу успеть позаботиться обо всех вас до своей смерти?
– Говорила, бабушка.
– Вот и я о том. Конечно, сегодня мы многое потеряем.
– Я посчитал. Мы при продаже и переводе потеряли почти пятнадцать процентов капитала. Кроме того, если прибавить те контракты, которые могли быть, можно добавить еще пять.
– Все так, внучек. Это еще не все. Кое-что придется оставить здесь. Я продала не все дома в Бобруйске. Какие-то деньги тоже пока останутся здесь. Я тебе потом все расскажу. Итого, потери будут около трети. Но это допустимо. Я положила на издержки тридцать пять процентов. Зато остальное благополучно отбыло частично в Британию, частично в Американские штаты. Это будет нашей веревочкой, по которой мы выберемся в новую жизнь. Я думаю, что, как только ты окончишь училище, мы все уедем в Лондон. Там, в центре мировой торговли, мы все начнем сначала. Все вместе. Ты меня понимаешь?
– Бабушка, родная моя! Но почему мы должны уезжать из России? Ведь через полгода или год война закончится. А там будут стройки, будут засеиваться новые поля. Мы с нашими лесопилками и мельницами могли бы сделать хорошие дела. Разве нет?
– Давид, – голос бабушки вдруг стал сильным и горьким. – Я тоже долго, слишком долго думала именно так. Но все это зря. Люди попробовали крови, узнали ненависть. В Бобруйске самые ленивые и нищие соорудили… как его… совет депутатов. Вот этот совет депутатов уже почти правит в городе. Они – евреи, поляки, русские – грабят или очень хотят грабить таких же евреев, поляков и русских. Все связи, которые делали их людьми, ослабли. Пойми, хорошо уже ничего не будет. Все будет хуже и хуже.
Друзья твоего дяди Насона, которые надеются быть здесь главными, заблуждаются. Их отшвырнут и не заметят. Думаешь, мне хочется на старости лет, с моим положением и связями бросать все и устраивать этот тарарам с переездом? Ни Боже ж мой. Я отбивалась от этой мысли, как могла. Но в конце концов поняла, что решение здесь может быть только одно. И я его принимаю.
– Я могу подумать, бабушка?
– Нет. Поверь, я знаю, как лучше. Когда-нибудь, хоть раз, я сделала что-то тебе во вред?
– Нет, но…
– Вот и никаких «но». Объясни все Розочке. Потихоньку готовьтесь. Думаю, что около полугода у нас еще есть. Но не больше. В июле ты получишь свидетельство об окончании училища. А в августе мы уедем через Гельсинфорс. Навсегда. Если я окажусь неправа, то Всеблагой меня простит. Совсем плохо вам там не будет. Зато, если я окажусь права, то вы все будете живы. А это для меня самое важное. Ты понял? Вот и хорошо. Иди.
Вечером, в кабинете, Додик рассказал все Розочке. Как ни странно, Розочка отнеслась к известию вполне спокойно. Оказалось, что уже несколько месяцев в письмах от ее родителей обсуждался переезд. Правда, Алекснянские пока перебирались из прифронтового Минска в Москву. Но то, что жизнь меняется, причем не в лучшую сторону, понимали и они. Понимали это все вокруг. Особенно в последние месяцы. Но почему-то это понимание никак не воплощалось хоть в каких-то действиях. Вокруг шли одни разговоры о том, как все еще может кончиться вполне благополучно. Эти разговоры часто были остроумными и даже мудрыми. Только до дел они не доходили.
Как раз что-то делали те, кто вел страну к катастрофе. Причем, преуспевали здесь и правительство, и социалисты. В Петрограде были расквартированы части «четвертой очереди», то есть резервисты, которых должны были отправить в окопы, причем не молодые люди, а резервисты старших возрастов, оторванные от семей и хозяйства. Брожение в этих частях было постоянным. Но то, что рядом с солдатами, обреченными на холод, окопную грязь и, быть может, смерть, разворачивались картины «яркой жизни» столицы, было для них невыносимым.
Агитаторов самого разного толка здесь встречали, как своих, прятали от начальства. Матросы и солдаты, агитаторы-социалисты собирались по городу. Их становилось все больше. Власти, напротив, проявляли непонятное прекраснодушие по отношению к ним. То есть, кто-то кого-то арестовывал, об этом писали в газетах, этим возмущалась прогрессивные журналисты. Но брожение окраин становилось в центре все слышнее. Казалось, что власть этими арестами не столько борется с подступающим хаосом, сколько пытается убедить себя, что она еще есть.
Несмотря на богатый урожай и введение обязательных поставок в казну, в больших городах многие голодали. Крестьяне в ожидании «настоящей цены» прятали урожай. Власть все стремительнее теряла нити управления и представление о том, что происходит в стране. Таяла, как дым. Оставались только ее внешние атрибуты. Жители гигантской империи, еще не оголодавшие и не озлобившиеся на мир, завороженно смотрели на приближающийся край, не в силах сделать хоть что-то. Бабушка была здесь редким исключением. Остальные в лучшем случае пытались жить, как прежде, старательно не замечая происходящего.
Додик мучительно пытался понять причины этого состояния людей в преддверии бездны. Жалко их (и себя)? Безусловно, жалко. Но почему? Почему умные и образованные люди упорно заслоняются от реальности с помощью красивых слов и показных действий? Может быть, потому, что их жизнь – жизнь столичных умников и надземных властителей – никогда не соотносилась с той почвой, которая их кормит? Они и прежде жили чужими в стране, только сама страна об этом не догадывалась. А тут вдруг встала перед ними во весь свой гигантский рост и пристально посмотрела в глаза. Этот страшный и незнакомый взгляд и заворожил всех, кто мог хоть что-то сделать.
В обозленном и голодном городе, как и прежде, зажигались огни театров, работал синематограф, рестораны распирало от публики. Балы и вечеринки шли одна за другой, словно не было ни стачек заводских рабочих, ни полного развала частей Петроградского гарнизона, зараженного смутой. Это казалось намеренным издевательством, но было, скорее, подсознательным желанием элиты гибнущей империи не пустить в жизнь то страшное, что подступало со всех сторон.
Но, как ни странно, жизнь Давида и Розочки продолжалась почти без изменений. Додик после окончания практической части обучения вновь приступил к занятиям в училище, где единственным новшеством было создание совета учащихся и разделение педагогов по партийным симпатиям. Юноша упорно шел к золотой медали лучшего выпускника, хотя особого смысла в ней уже не было. Скорее, привычка быть лучшим. Смешно, проживая в Лондоне, быть почетным гражданином Петрограда.
Вечером теперь чаще оставались дома. Здесь все было, как прежде: тепло натопленные печи, уютный свет лампы под абажуром… Дом стал средоточием счастья, которое вдруг оказалось хрупким, как хрустальная ваза, но от того еще более ценным и желанным.
Только на русский новый год выбрались к бабушке, традиционно устроившей собрание с танцами, угощением и множеством увеселений. Собрались все члены семьи, кто в это время был в городе. Кроме семьи было множество знакомых и каких-то не вполне знакомых людей. Играл приглашенный оркестр. В самой большой комнате квартиры устроили танцевальную залу, освободив центр. Бабушка царила на этом собрании. О готовящемся отъезде не говорилось. Пили шампанское, провозглашали тосты и здравицы, кавалеры галантно ухаживали за дамами.
Додик и Розочка так и не смогли включиться в общее веселье. Что-то мешало. Что-то во всем этом было неправильное. Холодное и неприятное чувство неуместного веселья перед казнью томило обоих. Так они и просидели до конца вечера на удобном диванчике у стены, отбиваясь от попыток приобщить их к танцам. Захмелевшая от шампанского Розочка уснула в пролетке, под утро доставившей молодых домой. Додик осторожно вынес любимую из пролетки. Думал донести до двери. Не вышло. Пришлось будить. В освещенных окнах домов еще мелькали тени уходящего праздника. Наступил 1917 год.
В новом году события уже не нарастали, а неслись, как телега с горы. В феврале начались голодные бунты. Как-то горничная Ксения, вернувшись с рынка, рассказала «барыне», что на Петроградской стороне люди громят хлебные лавки и магазины, а солдаты из гарнизона вышли на улицу с ружьями. То здесь, то там вспыхивали слухи, что на Петроградской стороне убили полицейского, а на Выборгской стороне толпа рабочих избила чиновника, пытавшегося уговорить их разойтись. Нарыв в самом сердце империи назревал.
К концу февраля мало кто из официальных лиц мог без опаски покинуть центр города, жавшийся к Зимнему дворцу и Адмиралтейству. Возле мостов были выставлены посты солдат с оружием, по улицам проносились конные отряды казаков. Но ни выстрелы в толпу, ни казачьи части с нагайками уже не могли удержать прорвавшую плотину человеческой ненависти, мишенью которой оказался государь-император. Додик, попавший как-то на Адмиралтейскую набережную, видел вдали огромные толпы, рвущиеся к центру. По другой стороне Невы, уже на Васильевском острове, шла демонстрация студентов университета.
В училище прекратились занятия – профессура просто опасалась выходить из дома. Все свободное время, которого вдруг оказалось много, Додик проводил дома, изредка посещая бабушку или дядю Насона. Ему же приходилось ходить по магазинам, потому что горничная и кухарка наотрез отказывались покидать дом, хотя в центре пока было тихо. Впрочем, недолго. Самого Додика все чаще охватывало чувство безнадежности. Они опоздали. То страшное, от чего собиралась бежать бабушка со всеми своими родственниками и ближайшими работниками, их догнало. Оно здесь, рядом.
27-го февраля выстрелы стали доноситься со стороны Литейного проспекта и Троицкого моста. Толпы вооруженного и безоружного народа текли по проспектам к центру, сливались в огромные озера митингов. Девятый вал катил по городу. К рабочим и солдатам примкнули студенты, просто горожане. По словам дядюшки, это движение возглавили представители Государственной Думы. Но движение, похоже, об этом не догадывалось. Город уже дышал насилием. Улицы опустели. Горел большой дом на Шпалерной. Были разгромлены «Кресты», охранное отделение. Не закрывшиеся лавки грабили, били витрины магазинов. Отчаяние в еще недавно счастливом мирке Додика и Розочки перешло в оцепенение. Молодые сидели в кабинете, держась за руки. Здесь же сидели девушки-служанки. Казалось, что вместе не так страшно.
Временами кухарка Ксения всхлипывала, а горничная Варвара мелко крестилась. Розочка из последних сил пыталась держаться, как будто заслоняясь этим от надвигающегося ужаса. Додик пытался успокаивать женщин. Достал из ящика стола маленький пистолетик, некогда купленный в оружейной лавке, и положил его на стол, как зримый символ своей способности защитить близких. Но сам он в эту свою способность уже не очень верил. Огромный мир гигантского города, столицы огромной страны, сжался до комнаты, где от страха и неопределенности страдали три молодые женщины и молодой мужчина. Все остальное превратилось в пустой звук, воспоминание.
Вечером 1-го марта в дверь квартиры Додика и Розочки постучали с парадного. Он, как единственный мужчина, пошел открывать.
– Кто там?
– Мы от хозяйки, Паи Абрамовны, – проговорили из-за двери.
Вошли трое крепких, скромно, но прилично одетых мужчин, с какими-то не питерскими лицами.
– Здравствуйте, Давид Юделевич! Хозяйка сказала, что в городе неспокойно, и мы побудем с вами здесь, пока все не утихнет, – проговорил один из вошедших. Додик не без труда узнал в нем служащего из бабушкиной конторы, обеспечивающего охрану грузов.
– А как она сама? – спросил Додик. Телефонная связь не работала, добираться же до Невского проспекта в эти дни было почти безумием. Выстрелы раздавались со всех сторон, толпа уже лютовала в самом центре. Права была бабушка: страна сошла с ума. Только случилось это раньше, чем она предсказывала.
– Хозяйка? – переспросил гость (остальные стояли молча). – Да все в порядке. Ее голова никому пропасть не даст.
Додик спохватился, что держит гостей в прихожей.
– Вы проходите, пожалуйста, – проговорил он, пропуская гостей в квартиру.
– Нет, Давид Юделевич! Мы побудем у входа. Только вечером нам место, где спать, выделите. Остальное мы сами порешаем. Вот и девчата нам помогут, – подмигнул он показавшимся в прихожей горничной и кухарке. От мужчин шла какая-то эманация уверенности. Додик облегченно вздохнул.
Все решилось наилучшим образом. Девушки расчистили кладовую, поставили там топчан и застелили его старыми шубами. Мужчины, обнаружив, что припасы в доме подходят к концу, выбрались на улицу.
Денег не взяли. Додик хотел протестовать. Но старший из пришедших, которого звали Петр, объяснил ему, что лавки все равно закрыты. А у них – «свои средства». Юноша боялся даже подумать, какие это средства. Посыльные ходили долго. Но вернулись, нагруженные сумками, которые тут же последовали на кухню.
Так, под охраной, они и прожили это тревожное время – хоть и волнительно, но неплохо. Происходящее на улицах как будто отодвинулось в сторону. Крепкие мужчины, присланные бабушкой, встали между молодыми супругами и смутой, заслонили их. Напротив, Англия стала казаться чем-то близким, реальным и даже желаемым. Днем Додик читал книги по организации дела в Англии. Читал Британские газеты. После обеда, во дворе, Петр учил его стрелять из пистолета. Стреляли теперь везде, потому выстрелы со двора никого не привлекали.
Некогда Додику показывали, как стреляют; теперь он порой стал и попадать. Петр показал ему и несколько приемов кулачного боя. Сказать, что Додик их освоил, будет слишком, но он очень старался. И невероятно гордился собой, когда что-то получалось. Розочка рассматривала модные журналы с выкройками, думала об их той, другой жизни.
Вечерами охранники и девушки собирались в их комнате (один всегда оставался у двери), а молодые привычно сидели в кабинете, обсуждая свою будущую жизнь. Так продолжалось почти три недели. Во второй половине марта ситуация как-то успокоилась.
Государь отрекся. Радостные толпы вновь покатили по Питеру. Оказалось, что нереволюционеров в городе почти не было. С официальных зданий сбивали двуглавых орлов, снимали портреты государя, которого теперь называли «полковник Романов». Но в этот раз уже дворцов не жгли. Напротив, происходило братание всех со всеми. Красный бант на груди стал знаком своего, знаком сторонника «нового мира». Красные банты носили и рабочие, и члены правительства, почему-то называвшегося временным. Красные банты были даже на груди у полицейских, которых теперь называли милиционерами.
Вновь открылись магазины. И хоть цены опять несколько выросли, но продукты были. Постепенно, один за другим заработали заводы. Начались занятия в университете, да и в училище. Во главе страны стали те самые «хорошие люди», о которых спорили на вечерах у дяди Насона. Похоже, бабушка все же поторопилась. Или нет?
Однако успокоение в городе было совсем не полным: толпы схлынули, но какие-то странные люди продолжали собираться на улицах, выкрикивали лозунги против этих самых «хороших людей». Они требовали немедленного мира, хлеба и сокращения рабочего дня на заводах. Окраины продолжали бурлить. Еды в городе не хватало. Был создан совет депутатов, которому подчинялись солдаты гарнизона. Но приличные люди и жили прилично, продолжая возмущаться непоследовательностью реформ.
К концу весны, когда вся семья и ее присные активно готовились к отъезду, а у Додика приближалась пора выпускных экзаменов, из Москвы дошло письмо от отца Розочки, перевернувшее всю их жизнь. В письме сообщалось, что мама Розочки, никогда не отличавшаяся крепким здоровьем, заболела. Врачи подозревают чахотку. Лечение на Французской Ривьере или в Италии невозможно по причине войны, но возможно в Крыму. Отец просит ее, Розочку, быть с матерью, поскольку сам он уехать из Москвы никак не может, а Вера и Люба еще слишком малы и легкомысленны.
Сказать, что Розочка была расстроена – ничего не сказать. И она, и Додик были ошарашены. Долго обговаривали, но не помочь больной матери было невозможно. Это понимал и Додик. Поняла это и Пая-Брайна. Хоть это и ломало ее планы, но святость семьи была для нее превыше всего. На общем совете решили, что Розочка с сопровождающим поедет в Москву. А уже оттуда путешествие продумает ее отец. Лето она будет ухаживать за матерью, к осени же вернется. Тогда все и тронутся в дальний путь.
Глава 4. Решение принято
Розочка уехала. Жизнь Додика вдруг стала пустой и ненужной. Нет, он, как и прежде, готовился к выпускным экзаменам, до которых оставалось все меньше времени, помогал родне с организацией переезда. Только все эти занятия стали какими-то пресными и не трогающими. Вечерами он один садился в кабинете и писал Розочке длинные письма, мало отличающиеся друг от друга. Он писал, что очень скучает, что ждет ее возвращения. Подробно описывал все, что происходило за время, прошедшее с отправления последнего письма.
Ответные письма тоже были нередкими, хотя почта и работала все хуже. Розочка описывала, как она прибыла в Москву, как встретилась со всей родней. Долго описывала состояние здоровья мамы. Хотя нежные слова в строчках ее писем встречались реже, для Додика каждое ее слово дышало нежностью и любовью.
К середине июня, когда в училище шли выпускные экзамены, пришло письмо, что Розочка с мамой и двоюродным братом Мироном, который должен был оберегать их, благополучно добрались до Ялты. При внимательном обследовании чахотка у матери не подтвердилась. Розочка очень тому радовалась. Но лечение было прописано. Врач сказал, что мама перенесла воспаление легких и, если не лечить, то все может кончиться очень печально. После лечения, которое должно завершиться в августе или начале сентября, они планируют поехать обратно. Это было важно. Додик в первую же свободную минуту поспешил к бабушке.
После долгих разговоров и просьб отъезд было решено отодвинуть до начала октября. Но ждать дольше бабушка отказывалась.
– Давид! – строго сказала она, выпрямившись и глядя в сторону. – Ты знаешь, что я тебя люблю больше, чем своих собственных сыновей.
– Знаю, бабушка, – тихо ответил юноша.
– Но как бы я тебя ни любила, в сентябре, в самом крайнем случае – в начале октября, мы все уедем. Я не могу жертвовать всей семьей. Не имею права. Мне по сердцу твоя Розочка. Но и это не станет причиной, по которой мы задержимся. Если вы успеете, то я буду прыгать от радости. Если нет, то мне будет больно. Только это ничего не изменит. Мы уедем.
– Я понимаю.
– Пока не понимаешь, поскольку сам еще юный. Если доживешь до моих лет, до детей и внуков, то поймешь. Раньше времени не забивай себе голову. Я надеюсь, что Розочка вернется и все будет хорошо.
Давид уже не чувствовал уверенности в голосе бабушки. Она «отрезала» этот кусок души. Тот кусок, где жила нежность и любовь к нему, как некогда отрезала кусок души, связанный с дочерью. Додик печально шел домой, не особенно разбираясь в том, что происходит вокруг. Обида и растерянность душили его. Он настолько привык ощущать себя частью большой семьи, жить ее интересами, что перспектива жизни без всего этого казалась не просто печальной, а невозможной для совсем молодого человека.
Мимо него проходили какие-то люди, проезжали пролетки. Он не видел. Свернул с Невского. Остановился на мосту над каналом. Вода была совсем близко. Вот по воде корабль и повезет его родню к другой, новой жизни. Наверное, эта жизнь будет лучше, чем здесь. Может, бросить все эти трудности и проблемы, да отправиться с ними? А Ефим Исаакович потом привезет Розочку в Лондон. На какой-то миг эта мысль показалась ему привлекательной. Но только на миг. Предать жену? Нет. Он ее обязательно дождется. Уедут родственники или нет – в конце концов, не так уж и важно. Важно, чтобы они с Розочкой были вместе.
Стало легче, хотя понятнее не стало. Дни снова потекли своим чередом. С тем огромным трудом, с которым дается всякое ненужное дело, он сдал экзамены. Большую золотую медаль первого ученика ему не дали. Дали малую, что тоже неплохо. Точнее, было бы неплохо в прошлой жизни. А в этой? Кто ж его знает…
Окончание училища, которое уже не именовали «императорским», отметили ужином в кругу семьи. В этот раз за столом чувствовалось напряжение: то, что Розочка может не успеть к отъезду, понимали все.
В июле по городу опять прошли демонстрации. В отличие от февраля, шли они с оружием. Оно и понятно: свобода – это хорошо, но еды не прибавилось, война шла, а расквартированные части ехать на фронт не хотели. Прекращение войны становилось не просто лозунгом, но навязчивой идеей взбудораженных масс. Кроме лозунгов про мир и хлеб, демонстранты несли полотнища с лозунгами про власть советам. Видимо, речь шла про те самые советы депутатов.
Глава правительства князь Львов вывел на улицу казачьи части. Опять, как в феврале, то там, то тут завязывались перестрелки. Но в этот раз фортуна была на стороне Временного правительства. Войска популярного генерала Корнилова, ставшего командующим вооруженными силами округа, заняли город. Социалистов, организовавших выступление, арестовывали. Рабочих разоружали, били нагайками, оттесняли от центра на окраины, где просто разгоняли выстрелами. Расформированию подверглись и части, выразившие симпатии социал-демократам. Правда, Львову пришлось уйти в отставку, а новым кумиром Петрограда и всей России стал министр юстиции господин Керенский, который был еще и членом Совета депутатов.
Самое странное, что новый глава страны был из того самого сословия, что и дядюшка Насон. Может быть, они даже были знакомы. Однако, в отличие от дядюшки, уютно чувствовавшего себя только в салоне или в аудитории, Александр Федорович Керенский любил толпу, хорошо с ней общался. И толпа платила ему тем же самым. Полувоенный френч, холодные внимательные глаза, яркая речь – что еще нужно для народного кумира?
А время шло. Короткое северное лето повернуло на осень. Август близился к концу, а Розочки все не было. Появился новый бич – дезертиры. Все последние годы дезертиров хватало, но теперь это приняло какую-то острую форму. Десятки тысяч вооруженных людей, бежавших с фронта или не доехавших до него, бродили по стране, нападали на усадьбы и дачи, грабили железнодорожные поезда и даже станции. Особенно страдал от них юг страны. В какой-то момент прервалась всякая связь с Крымом. Доходили какие-то неопределенные вести про взорванную в Крыму железную дорогу. Слухи были неопределенные, но печальные. В Москве тоже ничего не знали о судьбе родных. Додик едва не каждый день звонил тестю. Ефим Алекснянский клял себя, что отправил жену с дочерью туда. Только толку от тех проклятий было чуть.
Дождливый питерский сентябрь шел уже к концу. В городе было неспокойно. Вечерами люди старались не выходить из дома. По городу ходили вооруженные матросы, останавливая всех, кто казался им подозрительным. Участились грабежи. То в одном, то в другом месте происходили перестрелки. Кто теперь власть было все менее понятно.
Отъезд семьи Додика приближался. Путь был до Гельсингфорса, а там – на корабле до Лондона. Ехали не только бабушка с детьми и внуками – с ними отбывали едва ли не двадцать человек охранников, приказчиков и прочего нужного люда, решившего и далее быть с семьей. За несколько дней до отъезда, когда было уже понятно, что Розочка не приедет, бабушка попросила Давида зайти к ней. Последнее время он редко виделся с родней. Все как-то незаметно отдалились от него, потому приглашению он удивился. Но пошел.
Квартира уже не напоминала Бобруйск. Скорее всего, она вообще ничего не напоминала. Большая часть вещей была отослана. В полупустой комнате в кресле сидела его вдруг постаревшая бабушка. Пая-Брайна – символ могущества семьи – неожиданно стала выглядеть на свои семьдесят три года. Спина сгорбилась. Глаза уже не смотрели столь остро и властно. Даже голос изменился, став мягче и тише.
– Здравствуй, Давид! – медленно проговорила она, когда внук вошел в комнату. – Вот и прощаемся. Все, что могла, на что Всевышний дал мне сил, я сделала. Ты один и остался моей невыполненной ношей. Твой брат сам не пожелал ехать с нами.