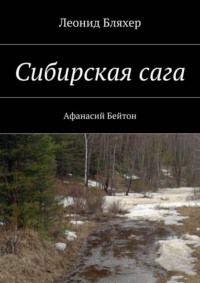Полная версия
Кадиш по Розочке

Кадиш по Розочке
Леонид Бляхер
Моим дорогим бабушке и дедушке посвящается…
Редактор Ирина Батраченко
© Леонид Бляхер, 2018
ISBN 978-5-4493-2803-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ
Утро было невероятным, чистым и свежим – в далеком южном городе в кольце синих гор, напоминающих купола гигантских мечетей, утренние часы ранней весной бывают именно такими. Небо, напоенное синевой, раскинулось над многоэтажками, над глинобитными домиками за высокими заборами, над улицами, где по краям журчали арыки и росли ряды чинар, сплетающихся ветвями над головами прохожих. Еще немного – и серая пыль покроет дома, улицы, деревья, жителей. Станут привычными жара и липкий пот, текущий за шиворот. Пока же – только свежесть и прохлада.
На далеких холмах, подернутых нежной зеленой травой, то здесь, то там загорались всполохи первых тюльпанов. Праздник природы, проснувшейся после зимы и вступившей в силу, катился по земле, заставляя чаще биться сердце всякого, способного чувствовать, видеть, переживать.
На окраине города в кольце синих гор, во дворе дома, на явно самодельном табурете, врытом в землю, сидел старик. Точнее, немолодой человек, враз ставший стариком. Легкий ветерок ворошил венчик пегих волос вокруг его загоревшей лысины. В саду ласково шелестели листьями яблони, уже покрывавшиеся белыми цветами. На розовых кустах намечались бутоны. Майнашки – местные скворцы – распевали свои вечные трели…
Сам же старик как-то не гармонировал с окружающим его праздником природы, не вписывался в ликующую картину утра. На его коричневом от загара лице было… нет, не горе – скорее, удивление. Бесконечное удивление и обида. Вопрос «почему?», казалось, застыл на его губах.
Рядом с ним, на сдвинутых лавках, стоял гроб, обитый красной тканью. В нем лежала она – та, что была привычной целью и смыслом всей его уже совсем не маленькой жизни. Или не она?.. Было странно и страшно находить в неподвижном лице покойницы знакомые черты. Старик неуверенно протянул руку к ней. Но что-то – не совсем понятно, что – остановило его. Рука зависла на полдороге и неожиданно для самого старика упала на колено.
Во дворе суетились люди; краем глаза старик видел их. Вот недалеко стоит сын. Взрослый уже совсем. Глаза красные, напряженные. Вот прошла невестка. На ней поминки. Побежала на кухню хлопотать. Вот кто-то подходит к нему. Что-то говорит. Наверное, соболезнования. Но все это было где-то там, в другой реальности, где наливалась весенней силой новая, молодая жизнь. В его мире был только этот гроб с женщиной, лежащей в нем. Розочкой. Его Розочкой…
Он помнил каждую минуту последних дней вместе. Знак тревоги тогда словно висел над всем, что было вокруг. Болезнь – неожиданная, неправильная, ненужная – вползла в их жизнь, заполнила ее до отказа. Он долго не хотел соглашаться на операцию. Почему-то сама мысль, что его жену станут резать (пусть даже во благо), претила ему. Но она приняла эту напасть, как и все в жизни – с терпением и спокойствием: значит, так надо. Так когда-то давно приняла она замужество, решенное родителями; решенное без нее. Так принимала все, что посылала жизнь с ее непутевым Додиком. Приняла и это.
Долгих пятьдесят два года отмерила им судьба вместе. Разное было. Но было главное – семья. Не потому, что так говорили старшие, не потому, что так учили мудрые Книги – просто она любила его, любила безоглядно. За что? Тут и не скажешь… За их первую ночь в той, совсем уже далекой, юной жизни в Бобруйске. За их первые долгие вечера в съемной петербургской квартире при желтом свете настольной лампы. За уют их дома, где бы этот дом ни находился. А может быть – за его жесткую ладонь, которая всегда оказывалась рядом, нежно и крепко сжимая ее ладошку. А может, за что-то другое. Или ни за что… Да и не любят «за что». Просто любила и все. Где-то совсем в глубине души сидела непоколебимая уверенность, что он, ее Додик, сумеет вытянуть ее из любой беды. Так и было. За любовь он платил такой же неожиданной, но безоглядной, навзрыд, любовью.
В самый последний их день было как-то не по себе; да и не только ей. Все вокруг нервничали, старались реже попадаться друг другу на глаза. Тогда она смогла собраться, подавить страх. Старик помнил, как спокойно, уж слишком спокойно, она поговорила с сыном. «Будто завещание прочитала», – пришло тогда в голову ему, не привыкшему к многословию своей молчаливой жены.
Долго сидела с невесткой в дальней комнате дома. О чем говорили? И не узнаешь теперь; у женщин свои тайны. Вышли оттуда обе со слезами в глазах. Крепко прижала к себе внучат. Теперь понятно – чувствовала, что уходит; прощалась.
Тогда ему казалось, что все это немножко слишком. Обещали, что операция будет несложной, через неделю можно будет забрать больную домой. Уже когда подъехало такси, чтобы отвезти ее в больницу, Роза подошла к мужу. Долго, непривычно долго смотрела она на него, вглядывалась в знакомые черты; потом вдруг припала к его груди. И сказала то, что не говорила никогда в прежней жизни: «Я тебя люблю, Давид! Очень люблю!»
Не привыкший к таким выражениям чувств, муж смутился. Почему-то стал проверять сумку с вещами – не забыли ли чего? Потом… Потом крашеная грубой синей краской дверь в хирургическое отделение закрылась, уводя от него его Розочку. Навсегда.
Тогда, неделю тому назад, он еще не понимал этого. Ходил с передачами, договаривался с врачами и сиделками, чтобы все прошло хорошо. Кого-то благодарил. С кем-то ругался. Бегал по городу, находя знакомых, имеющих отношение к медицине, чтобы они «поговорили с кем надо».
Но открылась дверь, и молодой врач в застиранном халате будничным тоном сказал, что операция прошла неудачно – сердце больной не выдержало. И замолчал. А Давид все ждал, что сейчас он продолжит и скажет, что нужно сделать, чтобы все было хорошо, чтобы они были вместе с Розочкой. Молчание затягивалось. Наконец, Давид выдавил из себя невозможную фразу:
– Она умерла?
– Да. Примите мои соболезнования.
Он не понял. Не принял. Выражение обиды и удивления легло на лицо и уже не покидало его. Это не может быть правдой! Это какая-то путаница. Они ошиблись! Но известие, от которого отказывалось сознание, приняло тело: крепкий, хоть и немолодой мужчина вмиг превратился в старика. Огромные плечи ссутулились; он устало опустился на ближайшую скамейку в длинном коридоре и завыл.
Вот и теперь словно стена отделила его от суеты вокруг. Он сидел рядом с телом жены – оторванный, вырванный из всего. И чем более зыбкими становились очертания жизни вокруг, тем явственнее проступала та, ушедшая жизнь. Жизнь, в которой они были вместе.
Глава 1.
Путешествие из Петербурга в Бобруйск
Паровоз исправно дымил, колеса выстукивали одним им известный ритм. В коридоре вагона первого класса у окна стоял молодой человек, почти мальчик, в ученической шинели с вензелем на наплечнике. Накинутая на непропорционально широкие плечи шинель придавала всей его фигуре какой-то угловатый вид, более подходящий вокзальному грузчику, а не пассажиру первого класса. Правильные черты лица, почти прозрачные голубые глаза и густые темно-русые волосы несколько исправляли ситуацию. Впрочем, любоваться его внешностью было некому, а самому ему она была в тот момент не особенно важна.
Юноша растерянно, даже как-то отрешенно, смотрел на чахлые деревца, проплывающие мимо, на покосившиеся избушки, уныло провожающие маленькими окнами пробегающий поезд, на незасеянные по военному времени поля. Иногда мимо поезда и навстречу ему проносились другие составы. Чаще – военные, уже ставшие привычным атрибутом ежедневного быта. Война шла уже третий год. Юноша не был заинтересован пейзажем – скорее, пытался собраться с мыслями, глядя на пустые поля.
Причиной растерянности (как и самой поездки) стало неожиданно полученное письмо от бабушки. Бабушка Пая-Брайна была не только его воспитательницей и опекуншей, но и главой огромного торгового клана, раскинувшегося от Сибири до Лондона. Собственно, ее стараниями он и жил в Петербурге. Для всех ближних (и не только ближних) в родном городе юноши, Бобруйске, ее слово имело силу закона. Да разве только в Бобруйске? Лесная торговля, торговля тканями и колониальными товарами, банки, сибирские меха, паровые мельницы и одному Единому известно, что еще. Все это держала в своих цепких руках его бабушка.
Первая купеческая гильдия, в свидетельство о которой был вписан и сам юноша, давала ей возможность открывать представительства во внутренних губерниях, торговать иностранными товарами, поставлять русские товары на международные рынки, давать детям образование. Вот и юноша, носивший библейское имя Давид, заканчивал не какой-нибудь хедер в Жмеринке, а Императорское коммерческое училище. Об этом говорил и вензель на шинели, и цвет околыша фуражки, лежащей на полке в купе.
Лишь однажды всемогущая Пая-Брайна, которую в Бобруйске называли не иначе, как «хозяйка», столкнулась с неповиновением. И чьим? Любимой дочери, в которой она души не чаяла. Следствием этого неповиновения и стало появление Додика, а также его брата и сестры. Было это уже почти двадцать лет назад.
В одном из галантерейных магазинов Паи-Брайны, торгующих на центральной – Муравьевской – улице, служил приказчик Юдель. Приказчик и приказчик. Бойкий малый, язык подвешен, лицом тоже совсем не урод. Происходил он из семьи меламеда, учителя – едва ли не самой непрестижной профессии в городе. В отличие от мясника или, к примеру, молочника меламеду платили всегда в последнюю очередь. В синагоге его место было у самой двери. А домик располагался неподалеку от кладбища, на городской окраине.
От отца Юдель унаследовал любовь к книгам, причем, далеко не только Священным. Из книг же Юдель заимствовал обороты, которые потом вплетал в свою речь. Обороты те наповал разили робкие сердца окрестных девиц. Да и фамилия у него была подстать – Соловейчик. Несмотря на бедность, выглядеть он старался настоящим франтом: до блеска начищенные штиблеты, накрахмаленный воротничок, отутюженные брюки, аккуратно застегнутая жилетка. Если к тому прибавить еще и глубокий и томный взгляд, то станет понятно, что ни одна покупательница не уходила из магазина без покупки, а девичий стон сопровождал его проход по улице в выходной день так же, как крики «ура» – проезд монаршего поезда. Одним из сердец, разбитых проклятым сыном меламеда, на беду стало сердце дочери Паи-Брайны, Ханны.
Девушка из приличной семьи, которой прочили лучшие партии в городе, совершенно потеряла голову. В штетле (местечке) трудно было что-то скрыть, и несмотря на всё могущество семьи и уважение к ней всех горожан, по городу поползли сплетни, одна хуже другой. Говорили, что Ханна уже предалась блуду с Юделем; называли даже места их свиданий. Находились умники, которые утверждали, что молодые уже решили стать выкрестами и гоями, чтобы бежать из Бобруйска. Обсуждали, конечно, и то, что будет делать Пая-Брайна или ее старший сын, Насон – просто набьют наглому голодранцу смазливую физиономию или сгноят его на сибирской каторге?
И только Юдель и Ханна не чуяли сгущавшихся над их головами туч, не ждали надвигающейся грозы. Юдель, похоже, и сам не рад был, что его возлюбленной оказалась дочка Хозяйки (а Хозяйку он боялся до дрожи), но поделать с собой ничего не мог. Тайные свидания продолжались, и гроза разразилась. Юделю указали на дверь, настоятельно рекомендовав как можно скорее покинуть город. А с Ханной был долгий и очень не тихий разговор в кругу семьи. Но Ханна была дочерью своей матери. Унаследовала она не только холодные голубые глаза, но и стальную волю. На все увещевания домашних ответ был один: я буду с ним! Выгоните из города – уйду с ним бродяжничать. Посадите в тюрьму – поеду за ним. Убьете – умру вместе с ним. Родственники не поверили.
Ханну заперли в доме, приставив к дверям двух рослых девок «для услужения». Тогда она столовым ножом попыталась вскрыть себе вены. Попытка не удалась, но перепуганная видом окровавленной дочери мать решила переиграть дело по-другому. Юделя отыскали, привели в приличный вид и… женили на Ханне.
Свадьба проходила с соблюдением всех установлений, с заключением брачного договора, благословлением невесты из уст самого уважаемого раввина. Вот только радости у Паи-Брайны было немного. Но судьбу нужно принимать, а не роптать на нее. Магазин, где прежде управлял ненавистный сын меламеда, похитивший сердце и разум ее дочери, Хозяйка выделила в их совместную собственность. Купила им дом неподалеку от Базарной площади – должна же дочка с чего-то иметь курочку к столу и приличную одежду при посещении синагоги.
Но в сердце она этот брак не приняла, не смогла пересилить неприязнь к зятю, змеей прокравшемуся в ее дом. Не смягчило ее сердце даже то, что, на зависть всем окружающим, молодые жили душа в душу, а муж не только не поднимал руки, но даже голоса на свою супругу не повышал, боготворил ее. Даже когда дочь одарила ее первым внуком, и могущественная женщина позволила своим нелюбимым родичам бывать в доме, холод в отношениях оставался. Впрочем, внука, Додика, она любила самозабвенно, постоянно забирая его к себе «на пару дней». Додик был добрым и общительным мальчиком, унаследовавшим от деда Исаака, покойного супруга Паи-Брайны, широкие плечи и сильные руки.
Но счастье Юделя и Ханны было недолгим: после Додика был второй сын, Рувим, а еще через год – дочка; родами дочки Ханна и умерла. Не спасли ни дорогие врачи, ни усердные молитвы. Пая-Брайна забрала детей дочери к себе. Сама оформила опекунство, сама и воспитывала. С отцом видеться не запрещала, но и не поощряла эти встречи.
Впрочем, Юдель и сам интереса к своему потомству не проявлял. После смерти супруги он так и не пришел в себя. Все чаще прикладывался к рюмке. Застывал на месте. Упирался взглядом в стену напротив себя. Так он мог сидеть часами. От прежнего лоска не осталось и следа – Юдель ходил по городу растрепанный, постоянно что-то бормотал себе под нос… Его увещевали уважаемые в городе раввины, смотрели врачи, но толку с того было кот наплакал. За магазином стал присматривать доверенный человек семьи. Деньги на жизнь бывшему зятю Пая-Брайна выделяла, хотя тот, похоже, и не замечал этого – голодал по нескольку дней, сидя, как верный пес, на могилке жены. Если бы не служанка, приставленная тещей, он и вообще бы забывал про пищу земную. Через несколько лет такой жизни Юдель исполнил свою мечту – оказался рядом с любимой. На городском кладбище…
Дети же росли у бабушки. Были они на удивление крепкими и благополучными. Старший внук, Додик, с младых лет отличался недюжинной силой. Однако характер имел мирный, и потому верховодил всегда его младший брат, Рувим. С ним вместе они дрались с мальчишками с других улиц, залезали в соседские сады за кислыми яблоками и сливами, строили «тайные штабы».
Пая-Брайна легко прощала детские шалости, хотя для порядка и бранила расшалившихся внучат. Впрочем, бабушке более по сердцу был Додик. Ее порода в нем чувствовалась сильнее. В Рувиме нет-нет, да и проскакивали мечтательность и авантюризм сына меламеда. Оба внука отличались успехами в чтении, письме и счете, с гувернанткой учили французский и английский языки. Приходящий учитель занимался с ними русской словесностью, а раввин – изучением Книги Книг. Дочка Ханны Ребекка, очень похожая на мать, росла пока без науки, на руках нянек. Ей бабушка прочила хорошую брачную партию, потому науками внучку особо не утруждала.
Когда Додику исполнилось одиннадцать лет, он, сопровождаемый старшим приказчиком, по воле бабушки отправился к дяде, старшему сыну Паи-Брайны, жившему в Петербурге. В письме от бабушки, которое прибыло вместе с ними, было приказано найти для Додика хорошее учебное заведение. Рувим же поступил в ту пору в гимназию в Вильно. В конце концов, после долгой беготни, консультаций со знающими и влиятельными людьми дядя Насон добился, чтобы Давида допустили до экзаменов в Императорское коммерческое училище – «Училище у Пяти углов», как его называли горожане.
Додик до сих пор помнил, с каким трепетом он шел на свое первое испытание. Помнил ощущение тесного воротника, мешавшего вертеть головой, чтобы разглядеть разные диковины. Костюм стеснял движения, а тщательно уложенные и покрытые бриолином волосы очень хотелось взлохматить. Был конец августа – самое любимое время года там, дома. Здесь же казалось, что всё природное, живое вытеснено на задворки. Серый камень, серое небо. Огромный город с высоченными домами, множество хорошо одетых и незнакомых людей, конки и экипажи, плотным потоком текущие по широченному проспекту – все это смущало и подавляло мальчика.
В родном Бобруйске дома были в один, два, редко – в три этажа. Число высоких зданий было наперечет. А встретить незнакомца в городе было делом совсем не частым. Даже крестьяне, съезжающиеся на базарную площадь продавать продукты своего хозяйства и покупать в лавках городские товары, были знакомыми. С ними дружили или не дружили – как выходило. При этом все знали, что у Василия Степановича лучшее молоко. А вот овес хороший у Демьяна-хромого. Каждый раз, когда Додик проходил или проезжал по городу с бабушкой, им встречалось множество знакомых людей. Они останавливались, приветствовали их. Бабушка обязательно отвечала. Спрашивала о здоровье, о гешефте. И только после отправлялась дальше, по своим делам.
Здесь же все было чинно и странно. Люди, идущие навстречу друг другу, не здоровались, не останавливались для беседы. Они, как и экипажи, словно протекали по проспекту, казавшемуся Додику бескрайним. От реки-проспекта отделялись человеческие ручейки, затекавшие в дома, присутственные места, магазины. Поначалу каждый дом ему представлялся дворцом государя императора или по крайней мере министра. Правда, дядюшка быстро объяснил ему, каков он, императорский дворец. Такой не спутаешь. Зимний дворец и огромную площадь перед ним, важных гвардейцев, охраняющих подходы к площади, мальчик запомнил надолго. Но и кроме этого диковин хватало: огромные магазины с подсвеченными электричеством витринами, фонари, освещающие вечерние улицы, театры, похожие на древние храмы из рассказов учителей, да много еще чего.
Приближаясь по Фонтанке к зданию, где должно было состояться испытание, он едва не задыхался от волнения. Но все обошлось. К отпрыску купца первой гильдии, племяннику известного профессора, отнеслись терпимо, несмотря на иудейское вероисповедание (правда, при упоминании об этом факте экзаменаторы несколько изменились в лице). Вопросы были несложные, а письменные задачи так и вовсе простые. На следующий день Додик узнал, что принят в число учащихся.
Особо близких товарищей в училище не появилось. Дети питерского купечества, как и дети состоятельных крестьян, держались отдельно, подчеркивая свое столичное происхождение. Приехавшие со всех концов огромной империи провинциалы ходили одиночками, насторожено присматриваясь к окружающей их жизни. Также настороженно смотрел на мир и Додик.
Уже на первых занятиях оказалось, что знает он много больше своих однокурсников. Счет, письмо, даже русская словесность давались ему легко. Языки он знал – к бабушке часто приезжали ее партнеры из Англии, Франции и Германии, а в обязанности Додика было водить важных гостей по городу. В результате переход с языка на язык не был для него проблемой. Правда, с греческим языком и латынью отношения были напряженными, но упорство и здесь приносило свои плоды. Хуже обстояли дела с историей: Додик никак не мог понять, зачем нужно знать даты битв, которые произошли тысячи лет назад, для чего ему нужно жизнеописание правителей, чьи кости уже давно истлели? История казалась ему чем-то схожей с изучением Талмуда: понимать не обязательно, нужно просто заучить. Преодолевая лень и скуку, он заучивал бесконечные ряды дат и имен. Профессура, и даже учитель истории, его явно выделяли.
Поначалу питерские однокашники решили «поставить его на место», но крепкие руки и привычка к драке сыграли свою роль. Хотя синяки и шишки долго не сходили, а инспектор, надзиравший за младшими учениками, как правило, оказывался на стороне обидчиков, последние скоро поняли, что «просто пугануть» не выходит – Додик не желал быть жертвой. А синяки и кровоподтеки появлялись также и на их лицах и боках. В конце концов, его оставили в покое. Появились даже приятели, хотя и не близкие.
Гораздо больше приятелей появилось у него среди продавцов и приказчиков петербургских лавок поблизости от дома дядюшки, располагавшегося недалеко от Сенной площади. Это были свои, понятные люди. С ними можно было поговорить о жизни, о торговле, о ценах. В свободное время он часто околачивался на Сенной, сравнивая питерские цены с ценами в родном Бобруйске. Внимательно приглядывался к тому, как приказчики привлекали покупателей, как предлагали товар. Это было важно. Постепенно он стал там своим. Хотя дядюшка и не одобрял этого общения («для тебя это неподходящее знакомство»), но и не запрещал. Его супруга с сыном, двоюродным братом Додика, и вовсе смеялись над увлечением бобруйского родственника. Но главное, что это было интересно самому Додику. Да и в учебе помогало.
В училище же было намного скучнее. На переменах, в туалетах и укромных углах бесконечных коридоров разговоры шли все больше о происках немцев и англичан, о политике и страшных революционерах, которые стреляли в самого царя. Ученики пересказывали разговоры старших. А те, в свою очередь, делились друг с другом мнением популярной газеты. Этих разговоров Додик не любил и не понимал. Зачем сотый раз повторять чье-то мнение, даже если оно верное? Правда, были и «нормальные» разговоры: про дело родителей, про жгучую тайну взаимоотношения полов. Старшекурсники тайком курили в туалетах. Вскоре к этому занятию попытался приобщиться и Додик но удовольствия не получил. Скорее, даже испугался, когда после глубокой затяжки закружилась голова и стали слезиться глаза. Он под смех старшекурсников тихо сполз по стенке, решив, что курить он не будет. Там же, в ученическом туалете, эдаком неформальном клубе училища, Додик впервые увидел изображение обнаженной женщины, которое один из старшекурсников демонстрировал своему приятелю.
Впрочем, еще меньше нравились ему вечера в доме у дядюшки. Дядюшка жил в большой квартире, расположенной на втором этаже нового дома совсем недалеко от огромного Невского проспекта. Весь дом – от крыши до полуподвала – покрывали какие-то завитушки, украшения, которые, с его точки зрения, больше подошли бы торту, а не дому. Да и сама атмосфера в доме дяди была какой-то ненастоящей.
У Додика постоянно возникало чувство, что все окружающие играют в какую-то непонятную игру, которая никак не связана с жизнью, известной мальчику. Дядя играет в какого-то «европейского интеллектуала». Он постоянно что-то судил, говорил об общественном прогрессе, о европейском пути и о тому подобных, далеких от мира Додика, вещах. Если мальчик, пытаясь понять что-то из сказанного дядей, обращался к нему, то вместо ответа получал нуднейшее рассуждение о «спящей провинции» и «незрелых умах современной молодежи». Впрочем, в делах практических дядя тоже был вполне сведущим человеком, сыном своей матери. Это невероятно удивляло мальчика. Дядя Насон то говорил, как какой-нибудь клоун в цирке, то действовал совсем как настоящий купец – быстро и жестко.
Тетушка Ребекка (Раиса Михайловна) играла в «романтически настроенную даму». Так она сама сказала как-то Додику. То есть, она сказала, что она «романтически настроена в жизни». Насколько понял Додик, это означало постоянное восторженное состояние, неестественную речь, восторг по поводу каждого модного спектакля, книги или музыкального произведения, участие во всех мероприятиях, где собиралась «духовная аристократия нашего времени», то есть популярные поэты, писатели и музыканты.
По вторникам у дяди Насона тоже собирались «аристократы духа». Правда, немного в другом составе. Здесь преобладали его университетские коллеги, известные адвокаты. Журналисты тоже были. Бывали «на вторниках» и поэты, чьи имена встречались в модных журналах. На таких вечерах говорили о вещах и вовсе непонятных: о реформах, о законах и параграфах, об «ответственном министерстве». То вдруг заводили споры о «воле и представлении», о воле к власти или еще какой-то другой несуразности; пели какие-то не очень понятные Додику песни, пили кислое вино. Супруга дядюшки и его сын присутствовали на этих собраниях с большим удовольствием – собрания были важной частью их жизни. Додик же, пару раз посидев в уголке на диване во время жаркого диспута о будущем России, предпочитал уклоняться от них, ссылаясь на большие задания в училище.
В своей комнате он чувствовал себя намного увереннее. Там на полке аккуратно расставлены учебники по его любимым предметам: бухгалтерскому учету и логистике. Там в толстой ученической тетради медленно и тщательно составлялся план его будущего предприятия, которое принесет ему богатство. А деньги, как известно, это и независимость, и слава, и возможность сделать что-то такое, от чего дух захватывает. Там же под крышкой письменного стола была спрятана фотография матери и отца, которых он почти не помнил. Это был его маленький Бобруйск, куда он сбегал от столичной суеты.