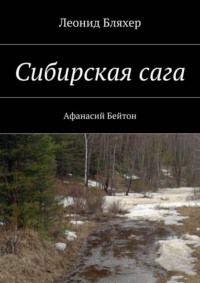Полная версия
Кадиш по Розочке
Следом за девочкой, опираясь на плечо слуги, из экипажа выбрался дородный господин в дорогом пальто, лакированных штиблетах по виленской моде и с тростью с тяжелым серебряным набалдашником. А следом за ним тихо спустилась невысокая девочка, может быть, годом или двумя старше первой. В отличие от сестры (а в том, что они сестры, не было сомнений) черты лица ее были несколько крупнее, но это не портило ее. Напротив, лицо казалось более выразительным. Густые темные волны волос были аккуратно уложены, заплетены в косу, спускающуюся из-под шляпки. Взгляд ее был хоть и взволнованный, но твердый, без вызова и агрессии.
Девочка, теребя в руках платок из тонкой шелковой материи, опустила глаза. Почему-то в этот момент Давид сразу понял, что это она, его невеста. Что-то в ее облике показалось Додику невероятно теплым и знакомым. Она чем-то напоминала ему его маму на немногих старых фотографиях, хранившихся в петроградском доме. Это показалось странным – у матери были огненные волосы и голубые глаза. Здесь глаза были карими, а волосы черными. Вот только взгляд…
Дородный господин радостно и как-то по-свойски приветствовал бабушку. Кивнул дядюшке и подмигнул с хитринкой Давиду: мол, не теряйся, парень. От этого Давиду как-то сразу стало легче.
– Ну, здравствуй, матушка Пая-Брайна, – громко провозгласил гость, приблизившись к хозяевам. – А это – дочки мои, Роза и Вера. Прошу любить и жаловать.
Девочки, поднявшиеся следом, вежливо сделали книксен перед хозяевами.
– И тебе здоровья и благополучия, Ефим Исаакович! И дочкам твоим, – степенно отвечала бабушка. – А это – мой сын Эфроим и внук Давид.
Все чинно проследовали в гостиную, где был накрыт завтрак. Роза, проходя мимо Давида, только скользнула взглядом. Спокойно и как-то по-доброму улыбнулась. Давид улыбнулся в ответ. Сердце вернулось на свое законное место и… опять стало тихонечко екать. Правда, теперь от ожидания. Вера, младшая дочь, напротив, внимательно и долго – на грани приличия – осматривала Давида, как диковинного зверька, после чего недовольно хмыкнула.
За столом говорили все, кроме Давида и Розочки. Несмотря на то, что их посадили рядом, что-то не давало им свободно обратиться друг к другу. А может, Розочка (уже не Роза, а Розочка) просто была молчаливой. Они сидели, уткнувшись в тарелки, и разглядывали на дне что-то необычайно интересное. Только к концу завтрака молодые немножко расслабились. Стали обмениваться взглядами, в которых было не только любопытство – ведь им вместе теперь жить много-много лет. Додик помнил свой неудачный опыт платной любви. Но к Розочке оно как-то не вязалось. От нее веяло чем-то другим, волнующим и совсем не гадким.
Бабушка, успевавшая обсуждать с отцом Розочки и Веры очередную совместную сделку, следить за столом («чтоб все у меня тут сыты были») и посматривать на молодежь, вдруг заявила:
– Вот что, молодые люди, пойдите-ка, погуляйте по городу. Давид, покажи девушкам Бобруйск. А нам, старикам, еще о делах поговорить нужно.
Додик с облегчением покинул стол; девочки тоже поднялись. Пока Роза и Вера надевали пальто и шляпки, он нашел извозчика, придумал, куда повезет свою невесту и ее сестру. Собственно, выбор был небольшой: синематограф «Эдем», а потом кафе в гостинице «Березина», самом большом и красивом здании в городе. Почему-то без взрослых было проще. Он был старшим, Розе исполнилось пятнадцать лет, а Вере было и того меньше, потому должен был заботиться.
Это было понятнее, чем роль жениха, которая его смущала донельзя. Да и Роза, перестав быть «невестой», оказалась девочкой вполне общительной и дружелюбной. Даже Вера, которую Додик про себя звал «Веркой-вертихвосткой», была вполне терпимой. Фильма была про любовь. У девочек в глазах блестели слезы. Додик же едва не заснул в темном и теплом зале синематографа. Зато в кафе, угощаясь сладкими пломбирными шариками с шоколадной заливкой, все трое болтали без умолку.
Роза в этом году выпустилась после седьмого класса института. Вера еще училась. Она очень смешно показывала своих учителей и классную даму. Роза сердилась, говорила, что это невежливо и грубо. Оказалось, что Розе тоже очень нравится театр. Но еще больше – книги. Особенно такие, где приключения и далекие страны. Додик тоже любил почитать. Хотя и не очень. Биржевые сводки и бухгалтерские отчеты, как ему казалось, говорили о жизни гораздо больше. Хотя об этом своей невесте, которая нравилась ему все больше, он пока решил не говорить. Зато очень много рассказывал о Петербурге, о театрах и кафе, об огромных витринах магазинов, о Неве и каналах. Домой вернулись друзьями. То есть, предстоящее бракосочетание продолжало смущать обоих, но уже не казалось катастрофой. Во всяком случае, Додику.
Гости поселились во флигеле. День свадьбы (как и дни перед ней) был наполнен суетой и беспокойством. Бабушка и отец Розы постоянно что-то обсуждали, привлекая к разговору и Додика, и дядю Эфроима. Додик больше молчал, поскольку обсуждали вещи, в которых он мало что понимал. У Алекснянского была меховая фабрика, где шили шубы, шапки, манто и прочие предметы одежды. Бабушка же поставляла меха и сукно на эту фабрику. Но долгая дорога делала себестоимость мехов огромной. Особенно теперь, когда большая часть составов везла военные грузы. Сложности были и с вывозом готовой продукции. Потреблялось это в основном в Англии, Бельгии и Голландии. Что-то покупали в Германии и западных губерниях России.
Обычный путь товара через Германию отпадал. Год назад после отступления русской армии отпала и Польша. Обсуждали северный маршрут, через княжество Финляндское и Швецию. Додик порой вставлял замечания по учету, уменьшению налогооблагаемой суммы, по прохождению таможни. Когда он предложил более дешевого перевозчика, о котором знал от своих учителей, Алекснянский посмотрел на него с уважением и вниманием.
Вместо того, чтобы поститься с мыслями о Едином, думать о своих обязательствах перед будущей женой и их потомством, Додику вместе с бабушкой и сватами пришлось множество раз оговаривать и переговаривать брачный договор, который, несмотря на всю светскость будущей родни, составляли по всем правилам Галахи. Сваты обещали выделить молодым по двадцать пять тысяч рублей «на прожитие и гешефт». Подробно описывались обязанности мужа перед женой при разных жизненных коллизиях. Казалось, что старшие решили предусмотреть все, что может случиться с их потомками.
Чтобы увидеться с Розочкой, перекинуться с ней словом, расспросить, как прошел день, Додику удавалось найти минутку лишь изредка. Это немало огорчало юношу. Почему-то быть с Розочкой ему хотелось гораздо сильнее, чем обсуждать условия гешефта. Он уже не думал о будущей свадьбе, как о сделке. С Розочкой ему было просто и хорошо. Впрочем, день свадьбы, которая и радовала, и смущала его, приближался.
И, несмотря на все старания, назначенный день настал. В зале установили хупу – брачный шатер, символизирующий крышу общего дома, под которую входит новая семья. Приехали брат Рувим, дядюшка из Питера, многочисленная родня невесты. Кого среди гостей только не было: русские, литовцы, евреи, поляки – друзья дома и семьи, родичи, просто уважаемые люди губернии. Были здесь важные господа из Вильно, Минска, Бобруйска и Гомеля, гости из царства Польского…
Под чтение благословений Додик дрожащими руками закрыл лицо Розочки бадекеном (вуалью). Вместе вошли под сень свадебного шатра, хупы. Розочка была какой-то другой – не смущенной как при первой встрече, не веселой, как в кафе, а строгой и торжественной, отстраненной. Вместе произносили слова молитвы.
Голос дрожал, когда Додик надевал на палец невесты кольцо, произнося слова на древнем языке: «Вот, с этим кольцом ты посвящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля». Их пальцы встретились, а лица сблизились. Додик вдруг увидел сквозь вуаль, что у Розочки в глазах плещутся слезы, губы чуть заметно вздрагивают. Он словно впервые увидел ее лицо, полное истинной библейской красоты и жертвенности.
– Господь наш, какое же она чудо! И Она – моя жена! – пронеслось в голове у Давида. Он почти не чувствовал мира вокруг себя. Он видел только свою Розочку, казавшуюся с каждыми мигом все более красивой и желанной. Бабушка поднесла бокал с вином невесте и передала его Хаиму, который поднес его Давиду. Юноша неожиданно для себя отхлебнул изрядный глоток. В глазах тестя, принявшего бокал, заиграли смешинки. Вино было терпким и ароматным. Стало немножко легче. Он уже уверенно разбил стакан, завернутый бабушкой в кусок ткани.
– Мазл тов! Счастливой жизни! – кричали гости.
Потом все смешалось перед глазами. Танцы, здравицы, опять танцы. То быстрые и веселые, то тягучие и грустные звуки инструментов лучших кляйзмеров Бобруйска, шутки бадхена, обязательного тамады на свадьбе. Громогласная бабушка, несколько скрипучий и «начальственный» голос отца Розочки, выкрики непоседливого Рувима, который теперь, после гимназии, осваивал мировую новинку – самолет, монотонное чтение положенных молитв раввином… Все это смешалось в одно пестрое колесо.
Помнилось только немного испуганное, а потому особенно строгое лицо Розочки, ее огромные карие глаза, дурманящий запах, идущий от ее волос. Его мужской опыт был слишком мал и не особенно радостен, чтобы вообразить себе то, что последует позже. Он скорее боялся этого, чем желал. Но желание гладить эти волосы, целовать эти губы было почти невыносимым.
Когда же они, наконец, остались вдвоем, их обоих охватила неуверенность. Двери в комнату под совсем даже не смешные шуточки бадхена закрылись, а они продолжали стоять, не решаясь сделать первое движение, боясь ошибиться, обидеть другого. Как быть и что делать не знали ни он, ни она.
Минуты бежали. Наконец, Давид медленно подошел к своей жене – уже жене. Снял с лица вуаль, медленно и очень осторожно, точно боясь разбить, провел кончиками пальцев по лицу Розочки, по волосам и также осторожно коснулся губами ее губ и почувствовал движение ее тела навстречу…
Потом была долгая ночь с неумелыми ласками, неуклюжими попытками выглядеть более опытным, чем был на самом деле.
…Уже под утро, когда, измученные ночным приключением, от которого полагается приходить в восторг, они тихо лежали рядом друг с другом на огромной постели под балдахином, Розочка уткнулась лицом в грудь Давида и заплакала. Плакала она долго и сладко-сладко. О чем? Да ни о чем. О жизни, о мужчине, которые уже стал для нее самым родным, о своих детских грезах, о том, что она стала женщиной и женой, но ничего в себе нового не чувствует.
Додик, пытаясь успокоить, нежно гладил жену по голове:
– Ну, что ты? О чем ты? – шептал он.
А она все плакала и плакала. Слезы лились из глаз, вымывая все дурное, что было в душе, унося прочь страх и тревогу. Благословенные слезы счастья, горя, освобождения.
А потом был долгий и сладкий сон.
Додик проснулся первым; приподнялся на локте. Сквозь тяжелые плотные шторы свет едва пробивался. Розочка спала. От ночных слез ее губы и носик припухли. Но Додику это казалось особенно трогательным. Он долго-долго смотрел на свою жену, свою женщину. Потом осторожно коснулся губами ее щеки, шеи.
Розочка открыла глаза. Пальцы скользнули в пышную шевелюру мужа.
– Додик… Хороший мой…
– Розочка, – почти прошептал он. И жадно припал к ее губам.
***
Через три дня поезд уже вез Додика в Петроград. Но если в Бобруйск он ехал в самых растрепанных чувствах, то сейчас настроение было совсем другим – рядом с ним в купе сидела его любимая женщина, его жена, его Розочка. Радость распирала его от темечка до пяток. Сердце екало при каждом взгляде на Розочку. Даже колеса отстукивали веселый ритм. Унылый пейзаж за окном с чахлой зеленью вдоль дороги и тот казался радостным. И Додик, и Розочка болтали о всякой всячине, поминутно вскакивая к окну, чтобы показать друг другу «нечто особенное» в пробегающих мимо чахоточных красотах. Даже когда уже совсем ничего не показывалось, они просто держались за руки и смеялись. Радость просто рвалась наружу. От чего? Просто от жизни. Оттого, что они рядом, а дальше судьба сулит им только счастье.
В соседнем купе ехал дядюшка Насон. Он испытывал гораздо меньше радости. Сама поездка была ему не то чтобы в тягость, но особого удовольствия не принесла. Множество новых забот. Вот и с молодыми. Нужно будет подыскать им квартиру в Питере – в его квартире им совсем не место. Ну, это ладно. Не большая проблема. Гораздо хуже то, что происходит в стране. Цены растут, люди звереют, войне нет конца. Ох, не кончится это добром. И что делать прикажете? Уже долгие месяцы эти мысли не давали ему покоя.
Нет, он, конечно, за прогресс и свободу. Только вот получается, как правило, не прогресс со свободой, а якобинство с террором, беззаконие. И что тогда? Кому тогда нужен ординарный профессор? Матушка уверена, что любую беду пересилит. До сих пор так и было.
А вот он уверен гораздо меньше. Жизнь-то будет другая, с другими правилами. Если в той жизни вообще будут какие-то правила. И им в той новой жизни места нет. Никому нет. Ни коммерсанту, ни профессору, ни адвокату. Насону уже давно было страшно – с того дня, как он, случайно оказавшись на окраине Питера, первый раз увидел огромную толпу безоружных – пока безоружных – солдат и матросов из резервных частей, громко выкрикивающих антиправительственные лозунги, и полицейских, мирно стоящих поблизости, со вниманием слушающих солдатские речи и крики. Они, а не люди его круга и есть революция. Просто не все еще это осознали.
Им – нищим, неудачникам и бездельникам – нужны не прогресс и свобода, не европейский путь развития. Им нужна месть. Страшная месть всем, кто выше, успешнее и образованнее. Они и будут править бал. Они, как новые гунны, опрокинут все, что породила цивилизация. А все прекраснодушные мечтатели будут просто раздавлены этой страшной серой массой.
Его коллеги толкуют о новом человеке, рождающемся на наших глазах. Как же. Это – не новый человек и не естественный человек, которого придумал мечтатель Руссо. Это – страшный маргинал, который прежде таился в подвале вместе с крысами и тараканами. Теперь он уже заявляет о себе на улицах Питера и Москвы. Он и придет к власти на волне крови. Какие счастливые дурачки, эти Додька с Розочкой. Милуются рядом. И нет им дела до того, что весь мир, столетия культуры полетят в тартарары. И ведь скоро полетят…
Насон вышел покурить, но сигара не успокаивала. Смех, доносившийся из соседнего купе, раздражал. Наконец, стихло. За окном стояла глубокая ночь. Колеса продолжали свой бесконечный перестук. Уже и в нем усталому сознанию мерещилось что-то враждебное. Насон попробовал заснуть. Чем больше он старался, тем меньше было сна. За стенкой зашуршало. «Милуются», – почему-то зло подумал он. Однако это и отвлекло его от печальных мыслей. Сон, наконец, начал входить в его мир. Поезд уже приближался к Петрограду.
Глава 3. Петроград – холодный город
Питер принял их сумрачным и дымным холодом позднего осеннего утра. Еще не рассвело, и фонари горели вовсю. На перроне сновали военные, но и гражданских лиц хватало – толкались извозчики, носильщики, торговцы с лотками. Додик быстро спрыгнул на перрон, помог спуститься Розочке, отвел ее чуть в сторонку от снующих по перрону толп. Сам вернулся, чтобы проследить, как носильщик будет спускать их багаж из вагона. Дядюшка – не выспавшийся, с самым недовольным выражением лица – пошел искать извозчика. С трудом загрузились и поехали; пока – к дядюшке. Розочка крутила головой во все стороны, поминутно задавая вопросы, ахая от очередной столичной диковинки. На правах столичного жителя Додик объяснял ей, что к чему. Ему была приятна роль знатока; он радовался, что Розочка с ним, в его жизни. Даже серое утро и недовольный вид дядюшки не особенно портили настроение.
У дядюшки не задержались, даже вещи не стали распаковывать. Только привели себя в порядок и отправились искать квартиру внаем. Собственно, отправились дядюшка и Додик, а Розочка осталась дома. Додику показалось, что это неправильно – ведь им в этой квартире жить вместе, значит, она тоже должна посмотреть. Но дядюшка строго заявил, что это блажь.
Сначала, конечно, смотрели объявления в газетах (за чаем в гостиной). Прикидывали цены, описание. Додику понравилась квартира на Миллионной. Но там за вполне скромное жилье с одной спальней, гостиной, кабинетом и комнатой для прислуги просили тысячу рублей в год. Больше тысячи просили за наем жилья на Итальянской улице, недалеко от училища. Вот в районе Литейного проспекта цена была меньше, а квартира лучше. Совсем дешевые квартиры сдавались на Петроградской стороне. Там за год просили меньше пятисот рублей. Но уж очень далеко это было. Да и место недоброе. В конце концов нашли квартирку возле Загородного проспекта, недалеко от дома дядюшки. И до училища можно пешком дойти, если выйти чуть пораньше. Почти центр. И цена приемлемая – шестьсот рублей в год.
Бабушка и тесть увеличили содержание молодых до ста рублей в месяц. Сумма немалая; должно хватить и на проживание, и на обустройство. Все было, как положено. Дядюшка, как ни торопил его Додик, все внимательно осмотрел. Осмотром дядюшка остался удовлетворен. Заключили договор найма, все честь по чести. Уже через три дня Розочка и две нанятые девушки (одна – горничной, другая – кухаркой) приводили квартиру в жилой вид, десятки раз переставляя мебель, подбирая цвет занавесей в гостиной и спальне, расставляя всякие женские мелочи, от которых жилье становится родным. Постепенно все как-то встало на свои места.
Возвращаясь из конторы, в которой проходил практику, Додик всякий раз наблюдал дома какую-то приятную перемену. Временное жилье становилось их с Розочкой домом. И главным украшением этого дома была, конечно, сама Розочка – всегда внимательная, очень спокойная и, одновременно, общительная. Она с интересом слушала рассказы Додика о коммерческих премудростях, которые он узнавал, о новых знакомых. С радостью угощала супруга освоенным ей блюдом.
Впрочем, кухонная премудрость давалась ей не особенно. Всякий раз, когда она сама, без кухарки, хотела побаловать мужа чем-то новым, блюдо подгорало, невероятно огорчая Розочку. Но Додик не просто мужественно съедал все, но и искренне хвалил любимую. Розочка рассказывала, где была в городе, что видела. Ее первые рассказы были самыми восторженными. Огромный город, экипажи, сотни нарядных людей на улицах, магазины с самым разным товаром, сама Нева – все это восхищало ее.
Однако чем дальше, тем больше появлялось в ее рассказах тревожных ноток. На улицах, даже в самом центре, все чаще стали появляться совсем другие люди, непривычные в имперской столице: множество каких-то солдат, матросов и плохо одетых гражданских лиц. Все они собирались в кучки, громко разговаривали, кричали страшные вещи. Исчезало чувство безопасности. Полицейские уже не просто не старались задержать или хотя бы призвать к порядку крикунов, но сами стали от них прятаться. Да и стало полицейских намного меньше.
Зато на улицах в изобилии развелось карманников. Как-то Розочка долго плакала, когда на Сенной у нее вытащили кошелек с деньгами. Додик, как мог, успокаивал любимую. Оставив ее на несколько часов одну, он отправился в бильярдную, где не бывал с самого возвращения из Бобруйска, и вернулся с «похищенными» тремя рублями. Выиграл. Но пока решил больше не бывать там. Ведь теперь он рисковал не своими, а их деньгами.
Вечерами часто ездили в театр. Это и Додик, и Розочка любили больше всего. В дом проникала какая-то новая атмосфера, дыхание праздника, другой – яркой и возвышенной – жизни. Они долго подбирали одежду, ждали экипаж. Додику невероятно нравилось ехать в экипаже по городу, беседуя с женой, как бы невзначай касаясь рукой ее руки или волос, выбивающихся из под шляпы. Огорчало только то, что по зимнему времени экипаж был закрытым. Да и на улице уже стояла темнота. Додику хотелось хвастаться своей замечательной, невероятной супругой, своей нежной Розочкой всему миру.
Иногда они вдвоем выбирались поужинать в рестораны. Это тоже было событием: сверкающие залы ресторана «Метрополь», строго одетые господа, дамы с многочисленными украшениями и в открытых платьях, расторопные и корректные официанты. Хотя ресторанную кухню Розочка не особенно полюбила, зато ей нравилось сидеть за столиком рядом с Додиком, ловить на себе его восхищенные взгляды, слушать певицу, поющую «чувствительные» романсы.
Но еще больше ей нравились «длинные» вечера дома. Впрочем, Додику тоже. После неторопливой трапезы, которая особенно хорошо получалась, если Розочка полностью доверяла ее кухарке, они шли в «кабинет». В кабинете стоял настоящий письменный стол с удобным креслом для работы, был книжный шкаф с законами и установлениями, регулирующими коммерческую деятельность. На столе стояли письменный прибор, лампа под зеленым абажуром. Для конторы, где Додик проходил обучение, он там порой что-то писал. Он очень любил составить план своих дел на следующий день, чтобы потом, вычеркивая каждый уже исполненный пункт, идти по этому плану.
Но главное здесь было не это. Напротив книжного шкафа с официальными и деловыми книжками высился его собрат с книжками совсем не деловыми: стихи, романы, литературные журналы здесь правили бал. В кабинете стояли два удобных кресла, небольшой журнальный столик, тоже с лампой под абажуром; небольшой, но удобный диван, который Розочка долго выбирала в магазине. Собственно, комната эта, хоть и называлась кабинетом, была, скорее, именно для таких вечеров.
Они, отпустив прислугу, усаживались в кресла. Порой Розочка забиралась с ногами на диван, укрывала колени пледом. На столик возле кресел выставлялся чайник с ароматным напитком, вазочка с любимыми конфетами и… вечер начинался. Они рассказывали друг другу о той далекой и странной жизни, когда еще не знали друг друга, читали вслух любимые книги, просто сидели рядышком, наслаждаясь покоем, теплом, идущим от жарко натопленной печи-голландки, радостью от того, что самый родной и важный человек в мире – рядом. Додику в эти минуты представлялось, что он всегда знал Розочку, что всю жизнь они прожили вместе.
Казалось, что этой невероятной и одновременно реальной жизни не будет конца. Казалось, что мир будет состоять из спокойных, заполненных приятными заботами дней и жарких ночей, которые из непонятной обязанности все больше превращались в самое желанное время в жизни, когда весь белый свет сжимался только до их горячих тел, существующих только друг для друга.
Но все менялось в мире, постепенно сжимаясь вокруг маленького счастья двух молодых людей страшным стальным кольцом. Настоящая злая и мерзкая реальность все сильнее надвигалась со всех сторон, вползая в самые теплые уголки их жизни, давя и разрушая все, что было дорого.
Первым звонком стал приезд бабушки. Под самый конец декабря она прибыла на поезде вместе со всей бобруйской частью семьи. Кроме дядюшки и Додика «бобруйскую хозяйку» встречали на вокзале десятки каких-то не совсем понятных людей. Пая-Брайна резко и вдруг поменяла всю работу фирмы. О причинах перемен она не распространялась, а люди привыкли делать то, что скажет «хозяйка». Она распродала большую часть своих предприятий. Продан был даже дом, который она так любила.
Бабушка тоже сняла квартиру в Питере, правда, в самом центре, на Невском. Да и квартира была не в пример больше, чем жилье Додика и Розочки. После недолгой встречи она, да и все, кто был с ней связан, начали жить совершенно в другом темпе. Большая часть средств семьи изымалась из банков, переводилась за границу. Главным образом, в банки Британии. Предприятия продавались, контракты передавались связанным с ней фирмам.
Додик, как и прежде, старательно готовился к занятиям, но теперь гораздо больше времени проводил с дядьями и бабушкой, помогая им тихо и не особенно заметно сворачивать деятельность фирмы в России. При этом ответа на вопрос «а зачем это нужно?» он долго не получал. Да, положение в стране сложное. Идет война. Но победы генерала Брусилова давали надежду на ее скорое окончание. Австрияки практически разбиты, немецкий фронт стабилен, а сами германцы все менее хотят воевать. Все идет к победе. А там все потихоньку выправится. Тем более, что появятся новые земли, новые торговые пути, новые рынки. Так он считал или так ему хотелось считать. Да и не ему одному. Мысль, что все как-нибудь успокоится, сквозила в речах почти всех знакомых и полузнакомых Додика. Только как должно выглядеть это «как-нибудь» не понимал никто.
Казалось, что только родня Додика выпадает из общей картины. Правда, там, на окраине Петрограда, где квартировали части, направляемые на фронт, там, где располагались заводы, была иная жизнь и иные настроения. Но это – где-то в другом мире, а здесь все было хорошо. Ну, почти хорошо, но как-нибудь образуется.
Однажды под вечер, после долгой возни с бумагами, беготни по банкам и самым разным учреждениям, бабушка пригласила его к себе. В бабушкиной квартире жили дядя Эфроим с женой и сыном, сестра Рива. Брат Додика, Рувим, не приехал: самолеты в его жизни заслонили все. Еще при встрече в Бобруйске он рассказал, что сам уже поднимался в небо. И после этого жить «ползая по земле» он просто не может. Квартира бабушки – огромная, в два этажа, и множество комнат – напоминала дом в Бобруйске. Не только обилием вещей, прибывших вместе с ней, или окнами в пол, но каким-то неуловимым запахом дома. Разговор был тот самый, ожидаемый.