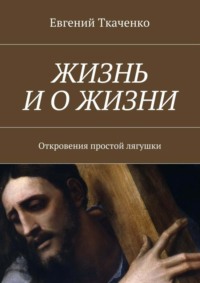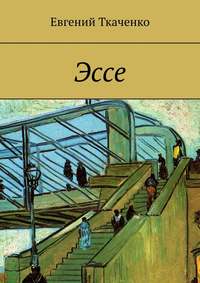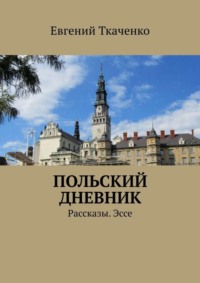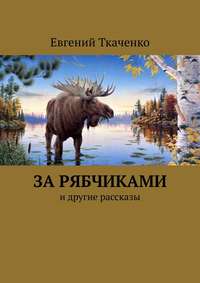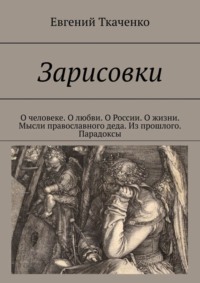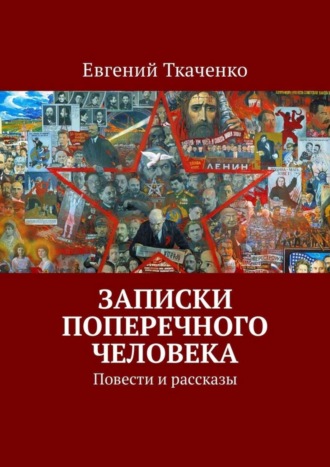
Полная версия
Записки поперечного человека. Повести и рассказы
То, что я пережил, получая среднее образование как раз и было искусственным влиянием власти на судьбы граждан. Да это конечно не было таким жестким и порой кровавым насилием над людьми, какое у нас процветало в довоенные годы, но все же это было массовым насилием.
Класс, набранный по конкурсу, в который я попал, оказался очень сильным. Все три года обучения я жил в атмосфере серьезной конкуренции в точных науках и, кстати, в спорте. Для меня это в результате стало благом, позволившим впоследствии достаточно легко поступить в Политехнический институт. Благом это оказалось для всего класса, поскольку в технические институты удалось поступить всем, кто поступал. Правда, через год-два не менее половины из моих школьных друзей были отчислены. Ребята пострадали, лишившись прекрасных студенческих лет, совсем не потому, что способностей не хватило, а из-за элементарного разгильдяйства. Питерские институты держали марку, и не каждому удавалось подстроиться под их жесткие требования. Некоторые из отчисленных, отслужив армию, доучились на вечерних или заочных отделениях.
В нашем выпускном классе было 13 мальчиков. С девятью из них я поддерживал приятельские отношения, невольно видел их личную жизнь и отследил судьбу каждого. Так вот, удивительно то, что судьбы их оказалась схожими, невзирая на разность в талантах и способностях. Все были физически сильными мужиками, в юности разрядниками по легкой атлетике и даже чемпионами области. К 65-ти годам пятеро из них ушли в мир иной по одной и той же причине – конфликт с текущей жизнью из-за потери смыслов и на фоне неумеренного потребления алкоголя. Краем глаза я отслеживал такой же сборный класс, учившийся в нашей школе годом позже меня. Там были три мальчика, ну уж прямо таки вундеркинды. Один из них решил такой сложности математическую задачу, что был принят без экзаменов в Питерский университет. После его окончания работал преподавателем математики в институте. Двое других в точных науках кроме отличных оценок других не имели. Судьба этих мальчиков еще трагичнее; спились все, причем очень рано, никто не дожил и до пятидесяти лет. Эти таланты были так грубо обесценены в 90-е годы, что пережить их не смогли. По моим наблюдениям люди, не обремененные талантами и интеллектом, эту социальную перестройку пережили значительно легче.
Перед закатом Советского Союза на целых полгода судьба свела меня с известным ученым Игорем Анатольевичем Голосенко – российским социологом, одним из первых историков русской социологии в мире, доктором философских наук, профессором. Кстати он единственный из наших ученых переписывался с основоположником социологии Питиримом Сорокиным. Это один из многих великих русских искусственно вычеркнутый из нашей истории коммунистами. Думаю, имеет смысл кратко напомнить о нем, для того чтобы не забывать соотечественников, прославивших Россию.
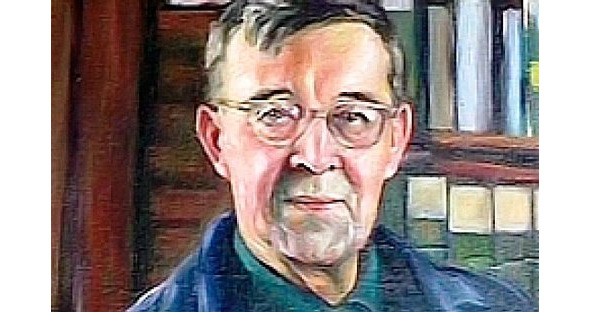
Питирим Сорокин
Биография Питирима Александровича Сорокина, автора ряда известных социологических теорий, вместила в себя все драматические события первой половины двадцатого века. Он являлся непосредственным свидетелем и даже участником многих резких поворотов истории, постигших Россию в ту эпоху. Один из самых выдающихся социологов мира пережил, две революции и гражданскую войну. В 1922 году его вместе с группой других ученых, которые не приняли большевистскую политику и марксистскую идеологию, выслали из России. После изгнания Сорокин год жил и работал в Праге. В 1923 году его пригласили читать лекции в Иллинойский и Висконсинский университеты, в США. После успешных лекций его пригласили в Миннесотский университет на пост штатного профессора. Питирим продолжал активную работу над своими лекциями, статьями и книгами. За всю жизнь он опубликовал больше 30-ти книг и сотни статей, впоследствии переведённых на сорок восемь языков. К сожалению, важность научных трудов Питирима Сорокина не была оценена по достоинству ни в России, ни в Соединённых Штатах Америки, которые стали его второй родиной. По мнению многих современных экспертов, его теории, раскрывающие проблемы и противоречия человеческого общества, остаются актуальными и в наши дни.
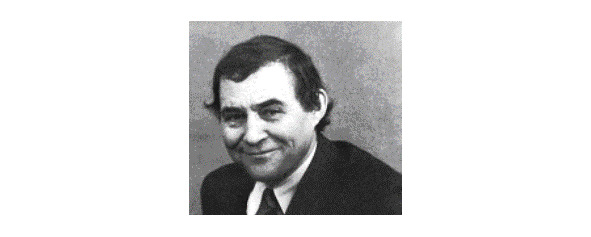
Профессор Голосенко
Это был 1985 год, я надумал сдать кандидатский минимум и посещал лекции Голосенко. Преподавателем он был, безусловно, талантливым, слушая его, я забывал обо всем на свете. Лекции были особенные, только для нас, аспирантов, а нас в аудитории было не больше десяти. Вел он себя с нами как с коллегами, свободно и непринужденно до такой степени, что через раз приходил на лекцию явно под мухой, а читая лекцию, всегда курил.
В лекциях было много парадоксального, но по отношению к власти не очень криминального, так на грани, что ли. 17-го мая во всех газетах печатают горбачевский антиалкогольный закон, а на следующий день лекция. Голосенко на кафедру забежал шустрее, чем всегда. Широко улыбаясь, окинул нас взглядом и торжественно произнес:
– Действия нашей власти вынудили меня отменить плановую лекцию. Два часа сегодня будем говорить об алкоголе и о взаимоотношении человека с ним, поскольку алкоголь категория очень даже философская.
Лектор был в ударе, и эта лекция оказалась одной из лучших. Кстати, конспект ее я сохранил. Понятно, что о примитивизме, элементарной безграмотности руководства страны он не говорил, но из лекции это было и так понятно. В конце он рассказал нам, чем это мероприятие закончится и когда. Все сбылось, даже в мелких деталях.
Анекдот про Горбачева во времена сухого закона:
Стоит огромная очередь за спиртным, народ негодует.
Один не выдержав, сказал: «Всё иду убивать Горбачева!»
Через какое-то время приходит и говорит: «Туда очередь еще больше».
Прослушав курс лекций, каждый должен был написать работу, причем тему нужно было выбрать самому. Я выразил желание писать о религии. Игорь Анатольевич, услышав это, как-то немножко недовольно сморщился. Потом подумав, написал на листке – Яблоков «О секуляризации». Посмотрев мне в глаза, сказал:
– Воспользуйтесь этой книгой как руководством к действию.
Я тогда понятия не имел, что из-за своих взглядов на религию у Голосенко был серьезный конфликт с властью. Как-то он написал очень злую работу «О значении воинствующего материализма» В. И. Ульянова (Ленина). И оказался в «списках невыездных» до конца существования СССР.
Работу я написал, правильно поняв его намек, но мне за нее до сих пор стыдно. Писал то, что надо было, а не то, что на самом деле думал. Правда если бы писал искренне, что думал, вряд ли получилось бы лучше, мне только казалось, что в этих вопросах я что-то понимаю. Сейчас вижу, что тогда не знал я и не понимал ничего.
Я вспомнил о Голосенко потому, что ушел он из жизни рано в 2001 году, прожив всего 63 года, собственно в то же время, что и мальчики-математики. Уверен, что причина ухода у них одна. Та же причина и у парней из моего класса, просто в силу своего природного здоровья одноклассники мои задержались на земле чуть дольше. Причина совсем не алкоголизм – это следствие, а причина в разочарованиях и потере смысла жизни. У моих друзей я видел это задолго до их ухода.
Наши отцы тоже любили выпить, но почти все прожили больше восьмидесяти. Они, пережив страшную войну, умели радоваться малому, в них был оптимизм и страсть к жизни.
И все же мне было не до конца понятно, почему так легко уходили самые лучшие и талантливые, причем даже, внешне состоявшиеся, как Голосенко, например, и при этом в основном мужчины. Имеющее быть резкое обесценивание интеллектуально развитого населения, на этот вопрос полностью не отвечало.
Окончательный ответ пришел неожиданно и совсем недавно. По программе «Спас» показывали серию из шести фильмов Никиты Михалкова «Русские без России». Я просмотрел все, несмотря на то, что именно эта информация для моей души самая тяжелая и мучительная. Почему-то я очень тяжело с юных лет переживаю судьбы носителей нашей национальной культуры во время революции, и после нее. Они так разрывают мне душу, что по этой причине не смог дочитать некоторые прекрасные книги. Стоит у меня в библиотеке хорошо изданная книга Ирины Головкиной «Лебединая песнь (Побежденные)». Автор – внучка композитора Римского Корсакова. Книга прекрасная, написана талантливо, как раз о судьбе тех, кто остался в России. Прочитал только треть, дальше читать не могу, душа разрывается.
Так вот о фильме – состоит он из двух частей, объединённых одной темой – гражданской войной, и последовавшей за ней русской эмиграцией:
В первой части документального сериала «Русский выбор» рассказано о судьбах военных, вынужденных покинуть Родину после окончания братоубийственной Гражданской войны. В сериале показана жизнь генералов Врангеля и Деникина, адмирала Колчака, трагедия русской эскадры, судьба мальчиков-кадет и казаков. Через призму трагедии писателя Ивана Шмелёва продемонстрирована участь тех, кто, поверив обещаниям советской власти, остался на Родине.
Во второй части сериала «Русскіе безъ Россіи» рассказывается, как строилась жизнь русских изгнанников на чужбине и что помогало им выжить. Каким может быть русский образ жизни, не изуродованный революционными преобразованиями? Каким может быть русский язык, сохраненный в благородном своем качестве и звучании, и самое главное – какой может быть вера в Россию?
Вторая часть оказалась для меня настоящим откровением. Я прозрел, поняв, что без веры, без любви к родине, ближнему, цели жизни пропадают, и она теряет смысл.
Что там наши испытания 90-ми годами! Да это игрушки по сравнению с тем, что претерпели русские, изгнанные с любимой родины. Основное, что помогало им выживать – это православная вера, русская культура и память предков.
Сегодня многим стало ясно, какое страшное преступление перед Россией совершили коммунисты, наполовину уничтожив и наполовину выгнав за пределы страны лучших носителей ее культуры. А ведь это не менее четырех миллионов человек. Они лишили народ наш главного; веры, культуры, памяти и поэтому полностью на их совести неправедное унижение и ранний уход из жизни в 90-х годах лучших представителей русской интеллигенции, выросшей уже при советской власти. Они, именно они лишили нас веры, десятилетиями искусственно унижали культуру, а в девяностые многих ее представителей лишили финансирования и выставили на улицу, сказав: «Вы стране победившего социализма, а теперь принимающей капитализм не нужны, культуру мы возьмем на Западе».
К счастью вторая половина моей жизни проходит в радости в основном потому, что на моих глазах, тяжело с серьезным сопротивлением коммунистов и либералов, но все же возвращается на родину настоящая русская культура.
Прямо с какой-то войной, продолжавшейся больше года, но вышел-таки на экраны документальный фильм, посвященный жизни великого русского философа, писателя и публициста Ивана Солоневича. Возвращается вера, вот уж и церковь наша православная объединились с зарубежной, вернулись к нам изгнанные почти на сто лет русская философия и литература. Даже исконно русские кадетские традиции, трогательно показанные Михалковым в фильме, невероятным образом восстанавливаются в военных училищах. Видел по телевизору несколько передач посвященных хору Жарова, честно говоря – возгордился. Благодаря Михалкову узнал об удивительном поэте-казаке Николае Туроверове. Его стихи переворачивают душу:
Уходили мы из КрымаСреди дыма и огня.Я с кормы всё время мимоВ своего стрелял коня.А он плыл, изнемогаяЗа высокою кормой,Всё не веря, всё не знаяЧто прощается со мной.Сколько раз одной могилыОжидали мы в бою.Конь всё плыл, теряя силыВеря в преданность мою.Мой денщик стрелял не мимо —Покраснела чуть вода…Уходящий берег КрымаЯ запомнил навсегда.Глава 5
Про дедушек и коммунистов
Детство есть детство, я просто рос, набираясь опыта, а вот в юности уже начал замечать и сравнивать, например, культурную среду в которой существовали дедушки, бабушки и отцы с матерями. Правда про дедушек я подзагнул, за все свое детство видел и общался всего с одним, звали его дед Тима. Жил он в деревне, на первом этаже дома, хозяйкой которого была моя бабушка. Бабушка занимала второй этаж, а первый отдала своей младшей сестре бабе Ксюте. Дед Тима был ее мужем. Запомнился он мне высоким, сутулым с громадной прокуренной бородой и выцветшими, слезящимися глазами. Делая какие-то движения, он всегда громко кряхтел. Во дворе дома стоял большой стол с лавками вокруг. У деда за ним было свое место, и он никогда посиделки не пропускал. Летом вечерами за этим столом всегда собиралась компания, балагурили, смеялись, играли в карты или домино. Дед говорил мало, слушал, явно внимательно и с удовольствием, поскольку живо на все реагировал, хмыкал, поддакивал, смеялся вместе со всеми. Медленно непослушными пальцами время от времени он делал из газеты козьи ножки, набивал их махоркой и с наслаждением закуривал. Любимое занятие деда Тимы – игра в карты. Мне кажется, он знал все картежные игры, и я не помню, чтобы он проигрывал. Днем он иногда медленно ходил по двору, опираясь на клюку, грубо сделанную из кривой толстой березовой ветки, часто останавливался и о чем-то думал. Позже, когда уже деда не стало, узнал, что сразу после войны он получил десять лет лагерей, отсидел восемь, вернулся в деревню в конце 1953, после смерти Сталина.
Уже взрослым я вдруг спохватился, понял ненормальность того, что вырос в окружении одних бабушек. Дедушек не было нигде, не помню ни одного в социалистическом городке Кировске, в котором прошло мое детство, и даже в деревне встретил всего одного.
Мои дедушки оба погибли. Дед Кузьма – нелепо, еще перед войной, от гангрены, сломал ногу и пытался лечиться ее домашними средствами. Дед Иван после войны пропал в сталинских лагерях.
Да, отсутствие дедушек действительно величайший негатив для нас, русских. Целых два поколения выросли без дедушек и, отчасти, с дефицитом отцов. Это явление началось с Первой Мировой войны и сразу за ней – Гражданской. Напомню читателю, что Первая Мировая унесла порядка 3 млн. русских жизней, а гражданская около 10 млн. Понятно, что более 10 млн. из погибших – мужчины, к ним необходимо прибавить и не менее 1,5 млн. мужчин, выгнанных советской властью из России.
Самая страшная потеря мужчин была у нас в мирное время путем совершенных коммунистической властью репрессий в 30-х годах. Раскулачивание, искусственный голод в стране в 1932—33 годах, ГУЛАГ – унесли порядка 15 млн. мужских жизней, а потом сразу Вторая Мировая война и плюс к ним еще 20 миллионов. Неудивительно, что мы, послевоенные дети, росли без дедушек. Два последних поколения в своем подсознании невольно зафиксировали, что дедушки они как бы и не нужны. Набирает силу и новое явление, связанное с распространяющимся по миру феминизмом, отрицания отцов. Когда дети вырастают, все чаще отцы им тоже не нужны. А еще сегодня из-за информационной революции так сильно обострились отношения между поколениями, что они почти совсем перестали понимать друг друга.
Кто-то иногда поштучно спохватывается, например, таким образом: В рамках проекта «Клуб читателей» газета ВЗГЛЯД представила однажды текст Виктора Пляшкевича о том, зачем нужно звонить своим отцам: «Отец – самый ненужный человек на свете. Неизвестно, для чего он существует. Что, собственно, с ним делать? О чем с ним говорить? Вот шеф, друзья, любовница, подруга любовницы, собака, в конце концов, жена – с ними есть о чем разговаривать, потому что за звучащими переливами слов стоит цель. А от отца какая цель, польза-то какая от него? Зачем ему звонить, встречаться? Кажется, странные вопросы задаю. Однако не я один так думаю. Другие тоже говорят, правда, робко. Вот и у Жванецкого на всю страну постоянно проскакивает это: „Сынок, ты хоть позвони!“ Не звонит».
Задача женщины выкормить и вырастить своих детей, а еще она может помочь вырастить внуков, что-то полезное делать на кухне и потому востребована детьми до конца своих дней. А что же дедушка? Задача дедушки – стратегическая, передать следующему поколению национальный код, знание истории своей страны, как минимум того времени в котором дедушка жил. От правильного выполнения этой задачи зависит будущее нации и государства. Совсем не случайно говорят, что народ, забывший свою историю, не имеет будущего. А мы забыли не только историю своего государства, но и память о семьях наших, рода нашего, как правило, обрывается на бабушках. Как же важно помнить собственных предков, гордиться ими! Ведь это заставляет человека жить достойно, праведно, чтобы не только не запятнать честь рода, но стараться прославить его, зная, что потомки будут помнить тебя и поминать добрым словом.
Сегодня у меня нет сомнения в том, что дикий социальный переворот в 1991 году, сотворенный по духу совсем не русскими людьми оказался возможным в основном потому, что два поколения подряд у нас выросло без дедушек. Мы за это время забыли свою историю и национальный код, перестали себя уважать, приняли в души как главные ценности деньги, жратву и развлечения, в результате по незнанию своему и незаметно для себя очень легко предали родину и своих предков.
Даже я, человек, много читающий и что-то знающий из истории родины, кроме истории КПСС, которой нас мучили в школе и институте, на какое-то, хоть и короткое время, но растерялся и тоже посматривал на Запад как больной на врача, с надеждой, что вылечит.
Получив такой страшный урок мы, понятно, спохватились, пересмотрели многие ценности, стали меняться, уверен, что в лучшую сторону, но настоящих причин своего падения так и не поняли.
Вернусь к той культурной среде, в которой прошла моя юность. Официальная среда была навязчивой, примитивной и властью подавалась грубо с серьезной долей насилия. Октябрята, пионеры, комсомольцы, партия – вокруг всего этого с утра до вечера песни, гимны и барабанный бой. Культура власти была на столь низком уровне, что перебора они не замечали. До них не могло дойти очевидное, что если человека перекормить, то его вырвет. Уже юношей, живя в атмосфере этой примитивной пропаганды, я ощущал небольшой рвотный рефлекс. Судя по анекдотам, ощущали его многие. Например, на всех углах висели лозунги – «Слава КПСС». Распространенный в то время анекдот – один человек обращается к другому: «Ты случайно не знаешь кто такой КПСС? Я, например, знаю, кто такой Слава Метревели, а кто такой КПСС понятия не имею». Или такой.
Чукча приехал домой из Москвы и говорит:
– Чукча в Москве был, чукча умным стал, все знает. Оказывается, Карл, Маркс, Фридрих, Энгельс не четыре человека, а два, а Слава КПСС – вообще не человек.
Теперь о том, что я видел в культуре отношений в семьях, между полами и поколениями? Видел винегрет, но с серьезным, основательным и, кстати, очень приятным душком той старой, еще дореволюционной культуры.
Бабушка моя была маленькой сухонькой тихой женщиной. И как же меня удивляло подчеркнутое почтение к ней крупных довольно в быту грубых ее дочерей и их мужей. Мужчины, даже самые безобразники, в присутствии женщин смирялись и старались грубо не выражаться. К старшим и учителям, какие бы они не были, молодежь всегда относилась с почтением. Я не помню, чтобы к учителям предъявлялись бы какие-то претензии со стороны родителей, ну уж со стороны учеников – это вообще было невозможным. Тогда еще работала формула: «Старший всегда прав». В некоторых семьях моих друзей дети родителей называли на «вы».
Однако падение культуры общения в то время имело место быть и шло оно от коммунистической власти. Взяв власть в России не по праву, внутренне чувствуя свою интеллектуальную и профессиональную несостоятельность, посаженные в высокие кресла коммунисты, пытаясь хоть как-то поднять свою значимость, стали бесцеремонно присваивать себе лично достижения других, находящихся по статусу ниже, и даже менять сложившуюся столетиями культуру отношений. Так высший в иерархии коммунист всех низших называл на «ты», невзирая на возраст и заслуги, при этом к нему все низшие обращались на «вы». Об этом хорошо написал Даниил Гранин, вспоминая свои встречи с секретарем обкома Ленинграда Григорием Романовым. Мной такие случаи воспринимались с некоторым юмором и даже вспоминаются где-то снисходительно, как к культурному примитивизму. В стране тогда вся работа была построена на системе разносов. Руководитель собирал совещание и обязательно кого-то разносил, не стесняясь в выражениях. Этот принцип управления негласно был принят всей вертикалью власти. В 1982 году я попал на совещание к министру транспорта в Москве и с удивлением слушал эти разносы в его громадном кабинете с применением очень грубых слов.
Коммунисты искусственно культуру отношений в стране перевернули с ног на голову, все население ее, разделив на классы. Рабочих объявили самыми передовыми и требовали брать с них пример. Интеллигенция в их понимании – это вообще не класс, а какая-то прослойка, и она должна была учиться у рабочего класса, но я за всю свою жизнь так и не понял чему. В результате этого культурный уровень интеллигенции за время советской власти значительно опустился, в ее среде почти исчезли традиционные понятия чести и порядочности. Неприятно, что это бескультурье принесло свои несимпатичные плоды во все слои нашего общества.
Так, недавно я смотрел передачу по «Спасу» под названием «Парсуна». По-русски – это будет «личность» или «персона», персоной в ней был Никита Михалков, а вел передачу Владимир Легойда. Передача хорошая, оторваться невозможно, но одно обстоятельство сильно царапало мне душу и мешало получить полное удовольствие. Михалков к Легойде обращался на «ты», а Легойда к нему на «вы».
Как же так? Ведь Никита Михалков почитается мной как олицетворение русской культуры, его род – один из самых древних и уважаемых в России. Начиная свою историю с XV века, он включает в себя гербы Романовых, Толстых, Пушкиных и Одоевских. И вдруг такой прокол в этикете. Честно скажу, что для меня это шок какой-то. Ведь эту передачу смотрят миллионы. Даже мне, не относящемуся к культурной элите, ведомо, что общение на «вы» обязательно во время конференций, интервью и т. п., вне зависимости от форм общения в неформальной ситуации. В официальной обстановке даже к хорошо знакомому человеку необходимо обращаться на «вы».
У них большая разница в возрасте, но ведь Легойда совсем не мальчишка. Между прочим, он специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома».
Да даже если и мальчишка, хотя бы на этих двух каналах, «Спасе» и «Культуре», необходимо вести себя подчеркнуто культурно и к мальчишке. Особенно мне непонятно его поведение на этой передаче потому, что Михалков не только любит и хорошо знает Чехова, но судя по его фильмам, тонко его чувствует.
Давным-давно я читал рассказ Чехова «Мальчики», рассказ очень хороший, но навсегда запал в мою память только один маленький фрагмент, и запомнился он как элемент культуры общения в 19-м веке, умиливший меня, подобного не пришлось встретить за всю мою жизнь.
Ученик второго класса приезжает на Рождественские каникулы к родителям и привозит с собой приятеля, в сенях их встречают родители. Вот этот кусочек текста:
« – Володичка, а это же кто? – спросила шёпотом мать. – Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я привез его с собой погостить у нас. – Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться!».
Обратите внимание, что отец обращается к мальчику, ученику второго класса на «вы», да и какая вообще культура общения!
И вот такую красоту мы забыли, и в первую очередь ее забыли самые высокопоставленные члены Советского общества. Их понять можно они пытались построить свою, так называемую пролетарскую культуру, причем на обязательном отрицании великой русской культуры. Нашлись, конечно, в среде представителей нашей культуры талантливые хамелеоны, для которых главное в жизни личное благополучие и они тут же подстроились под новую власть. Поэтому объяснение этого прямо скажем некультурного поведения Никиты Михалкова на передаче найти несложно, поскольку он носит фамилию Михалков. Его отец известный писатель Сергей Михалков. Как мы знаем, он был самым гениальным в стране конформистом, обласканным высшей партийной властью и вхожим во все высокие кабинеты. Сергей Михалков автор текстов к гимнам: Сталинскому, Брежневскому и Путинскому, он лауреат Ленинской премии и трех Сталинских, да и вообще награжден всеми наградами, которые существовали в СССР. Элементы хамской пролетарской культуры, витающие в высоких кабинетах, каким-то образом проникли в семью Михалковых и, наверное, впиталось в душу Никиты, да, причем так сильно, что даже высокая русская культура девятнадцатого века, которую он явно любит, не смогла ничего изменить. Роли Паратова в фильме «Жестокий романс» и проводника в «Вокзале для двоих» удались Никите Михалкову особенно, думаю потому, что в какой-то степени он играл там самого себя, а эти элементы были ключевыми.