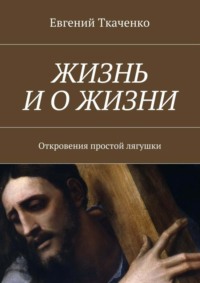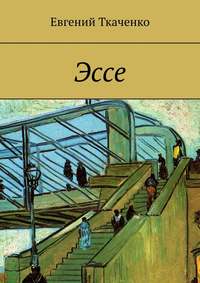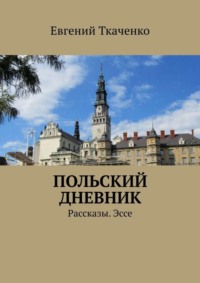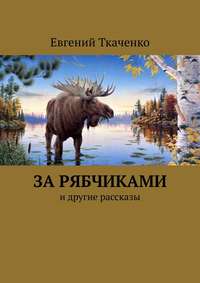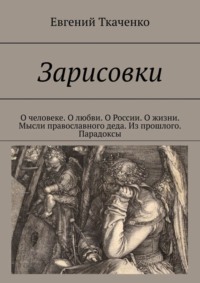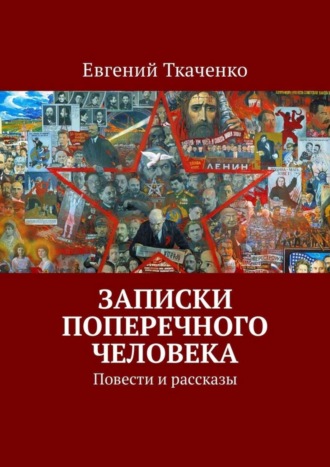
Полная версия
Записки поперечного человека. Повести и рассказы
Я уверен, что это целомудрие и стремление к красоте присутствует в душе каждого. Вот только понятие красоты зависит от той среды, в которой человек вырос, оно не абсолютно и что для одного красиво для другого это может быть совсем не красотой. Так один из моих приятелей, кандидат наук, кстати, родился в деревне. Так вот для него счастье и красота спать на сене и чтоб обязательно вокруг прыгали блохи.
Но что особенно портит человека так это его эгоизм, который часто подавляет и красоту, и целомудрие. В неприкрытом виде мы его можем видеть у мальчиков-подростков. Пытаясь быть более значимыми в среде сверстников, они готовы на многое, порой на гадкое и мерзкое, причем важно, чтобы о содеянном зле знали, а еще лучше, чтобы видели. Удивительно, что эта зараза сегодня распространилась и на девочек. Как-то в новостях показывали избиение девочки группой ее подружек, записанное на телефон, причем били ее ногами. Ради лайков сегодня подростки массово гибнут в рискованных селфи, и даже устраивают самоубийство. У некоторых взрослых все тоже, только уже завуалированное и не так заметное на первый взгляд. Дети тонко чувствуют культуру среды, в которой существуют и невольно проявляют ее нам. Мы, взрослые, ахаем, ужасаемся, осуждаем своих детей и мало кто осознает, что видит в них свое истинное фото, без ретуши и прикрас.
Чем же определялся уровень культурной среды в послевоенное время, когда информационное поле было очень бедным? В первую очередь родителями, родственниками, семьями приятелей и соседей, а они, в то время, еще несли в себе традиционную бытовую культуру, наработанную нашим народом за тысячелетие. Это совсем не то, что мы наблюдаем сегодня. Девяностые годы и информационная революция серьезно изменили культурную среду, грубо внедрив в нее западную масскультуру. А тогда не было никаких заборов и обособления людей друг от друга. В некоторых женщинах еще просматривалась какая-то загадочность из прошлого девятнадцатого века, они еще носили шляпки, а одна моя тетя никак не могла расстаться с муфтой. Женщины не использовали ненормативную лексику и не курили, а мужчины, даже самые хулиганистые, в их присутствии вели себя смирно и старались грубо не выражаться. Недостаток информации успешно компенсировался обилием праздников, на которые собиралась родня, друзья, а порой и соседи. Существовало какое-то особое доверие друг к другу, все и все были на виду. Отношения строилось, понятно, на добром чувстве, но самое главное на терпимости. Ведь на этих искренних встречах выявлялись не только нравственные изъяны каждого, но и дурь, конечно. Удивительно, что тяга к общению, особенно у женщин была так велика, что прощали они друг другу все оскорбления высказанные сгоряча на предыдущей встрече. А в этаком стандартном диапазоне – вначале радость встречи, объятия, лобызания, а при расставании претензии и оскорбления друг друга – проходила значительная часть праздников. Мужчины за праздничным столом выпивали крепче, но вели себя обычно ровно и сдержанно. Инициаторами конфликтов, как правило, будучи существами более эмоциональными, были женщины. Мужчины в эти разборки не встревали. Помню часто повторяемую ими шутку: «На то они и гусыни, чтобы шипеть». Для меня это была удивительная школа познания человека, на моих глазах отношения препарировались до истинной сути, как в анатомическом кабинете.
То послевоенное время я охарактеризовал бы одним словом – терпимость. Она в полной мере проявлялась к власти, в отношении друг к другу и, кстати, в отношениях жены и мужа. Как-то вот я в детстве только это и видел, невероятную терпимость, но не видел настоящей любви и ничего о ней не знал.
Так уж получилось, что и прочитать об этом я нигде не мог. Опять же издержки культурной среды, в которой рос, порядка 80% бумаги тогда в стране тратилось на политическую литературу. Библиотека у нас в городе была бедная, на хорошие книги очередь. Несколько лет стоял в ней на «Трех мушкетеров», так и не прочитал. В школах я не встретил ни одного достойного преподавателя, способного увлечь своим гуманитарным предметом. Помнятся и поминаются мной добрым словом только два преподавателя – по физкультуре и математике.
Именно поэтому после окончания школы в большую жизнь я вышел в некотором смысле интеллектуальным уродом, был силен физически, с достаточно хорошо развитыми логическими мозгами, но почти нулем в самом главном, душевном и духовном развитии. К счастью, я мужчина, а потому имел шанс объективно оценить себя, переосмыслить, изменить собственную шкалу ценностей, и стать другим. Надеюсь, что мне в некоторой степени это удалось. Только вот путь этот был очень длинным, почти в целую жизнь.
Интересные, очень почтительные отношения у меня сложились к книгам. В доме их было не больше десятка, о природе и охоте. Их читал отец, страстный охотник. Зимой он не охотился и, наверное, чтением этих книг утолял свою охотничью страсть. В нашем доме жил книголюб по фамилии Лозовский, владелец достаточно большой библиотеки. По просьбе моего отца он позволил брать книги, при условии, что я никому их давать не буду. Было мне тогда восемь лет. Книги я брал регулярно и за 3—4 года перечитал все сказки народов мира и детскую приключенческую литературу. Потом в чтении моем наступил длительный перерыв. Школа, стадион и улица отнимали все время, и было не до чтения, да и ни один учитель литературой увлечь не смог, для положительной оценки достаточно было хотя бы что-то сказать про образ «Безухова» или «Ноздрева», например, изложенный в хрестоматии. Правда, был в моей школьной жизни момент, со школой, кстати, совсем не связанный, который, пожалуй, и зародил в душе любовь к литературе и отечественной истории. Когда гостил в Питере в семье моей тетушки, то непременно вечерами листал толстенные дореволюционные журналы «Нива», которых у них было несколько штук, передо мной открывался какой-то красивый неведомый мир. Мне было очень странно и непонятно то, что он был совсем недавно и, вдруг бесследно исчез. В студенческие годы иногда читал журналы «Наука и жизнь» и «Техника молодежи». Прочитанные книги помню только две «Денис Давыдов» и «Анна Каренина». Систематически и с интересом начал читать литературу только лет с двадцати пяти. Почти два года я отработал в командировке в Польше, там оказались хорошие магазины с русской книгой и, главное что мне удалось оттуда привести – это книги, больше двухсот томов качественной литературы. Собственно с этих книг и началась моя библиотека.
В целом, семейная культурная среда, в которой я произрастал, была странная и противоречивая. Основу ее составляли шесть женщин-сестер из деревни Сологубовка, самая младшая из них моя мать. Сестры были организаторами встреч нашей родни на протяжении многих лет. Все они были крупными, сильными и в некоторой степени напористыми дамами, хорошо усвоившими правила игры в социуме навязываемыми нам коммунистами. Из войны извлекли однозначный урок, что самое беспроигрышное находиться рядом с кухней и продуктами. Четверо из них работали при столовых и буфетах. Конечно, все они любили сладко поесть и выпить. В детстве мне это нравилось, только у тетушек меня всегда угощали чем-то вкусненьким, для меня невиданным. В гостях у них я впервые попробовал буженину, оливки, твердую колбасу под названием «Советская», маринованные миноги и много еще других вкусностей.
Образование у сестер, понятно какое, выучены были только считать и писать. Их мужья образованы были значительно лучше, культуру имели более высокую и разнообразную, кто-то писал стихи и любил Беранже, кто-то хорошо играл на гармони, отец профессионально разбирался в ботанике, знал большое количество украинских стихотворений и иногда по просьбе гостей читал их. К женам своим относились они терпимо и очень снисходительно. Из всех сестер развелась с мужем только одна, но у них не было детей. Загадка для меня то, что шесть таких крепких женщин родили на всех всего-то только шестерых детей. Но что удивительно, в них таких вроде бы примитивных и не имеющих в душах настоящей культуры, она эта культура где-то на поверхности присутствовала и была очень заметна. Дело в том, что сестры выросли в православной старообрядческой семье, подчиняясь советской пропаганде верующими не стали, но какие-то основные красивые понятия: аккуратности в быту, почтения старших, отрицания табакокурения и ненормативной лексики, знание ритуала многих православных праздников несли по жизни. Все сестры были, по сути, ленинградцами еще с довоенных времен. Культура Питера не могла не отразиться на их поведении. Деревенский же примитивизм в них проявлялся в полной мере только тогда, когда сестры расслаблялись, встречаясь в своей родной деревне Сологубовке. Мой отец сестер называл лизоблюдами, сологубовские праздники не любил, старался их избегать, но уж если мать сильно наседала, то всегда поддавался. Ну, а я им очень благодарен. В детстве часто ездил в гости к ним в Питер и каждый раз это была для меня серьезная культурная программа.
На примере своих тетушек я увидел, что может сделать с человеком семья, традиции и культурная среда, в которой он существует. Оказывается, может сделать почти невозможное, из необразованного и не совсем умного человека сотворить личность достаточно культурную, хотя бы внешне.
Глава 3
Любовь
Советская действительность – это не христианство, любви не учило. Разве что к партии, ее лидерам и коммунизму. Самые пострадавшие от этой идеологии, противной естеству человека, оказались девочки и женщины. В массе своей они эту кривизну, усвоенную в детстве и юности, волокут по жизни, так и не найдя пути к настоящей любви, за исключением единиц с тонкой душевной организацией, или выросших в семьях где эта любовь присутствовала. Думаю, что самая большая ошибка советского времени – недооценка гуманитарного образования для девочек.
Никак не был осмыслен опыт русских женских гимназий и институтов. Человек, интересующийся историей, невольно встречается с целой плеядой русских женщин – носительниц высоких идеалов чистоты, благородства, человеческого достоинства. Оказывается, все они оканчивали либо гимназию, либо Институт благородных девиц. Предметы, которые там изучались: Закон Божий, русский язык, литература, арифметика, геометрия, география, история, главнейшие понятия из физики, правила хорошего тона, домашнее хозяйство и гигиена, чистописание, рукоделие, гимнастика, французский и немецкий языки, рисование, музыка, пение, танцы.
А еще, особенно в институтах, девочек учили практической деятельности по ведению хозяйства – вести записи расходов, приобретать товары, оценивать их качество и производить расчёты, помогать учительницам в воспитании младших детей.
Мне кажется, сейчас в период реформы среднего образования самое время обратить внимание не только на советский опыт, но и дореволюционный. Особенно на Закон Божий, знание которого было главной скрепой в семье. Он учил любви, и только из него можно было узнать об иерархии устроения семейной и социальной жизни.
Понимание значимости любви в жизни, путь к ней и умение любить – все это имеет место быть там, в науках гуманитарных. Ведь женщина – это основа семьи, именно она создает в ней атмосферу любви, либо агрессии.
Профессор Юрий Вяземский как-то сказал:
– Понимаете, что… Любовь «трехэтажна». Есть любовь и совместимость физиологическая, социальная, духовная. Когда мужчина встречает женщину и они совпадают на всех трех «этажах», – это идеально, это редкое счастье. Как правило, в юности, прежде всего, важна физиология: поцелуи, страсть, постель, невозможность физически жить друг без друга. Если отсутствует социальная и духовная совместимость, за редчайшим исключением, физиологическая быстро проходит, наступает пресыщение.
Так вот мне, уже довольно пожившим на белом свете и дважды женатым, невозможно с этим мнением профессора о любви не согласиться. Однако думаю, что даже тремя этажами описать то, что двое начинают жить вместе невозможно, существуют еще нюансы, которые в состоянии брак, в конце концов, разрушить. Они с любовью не связаны, обязательно несут в себе какую-то прагматическую составляющую. Бывает что эти нюансы, в конце концов, в любви тонут, но так бывает не всегда. Читая, например, Чехова мы эти моменты очень даже замечаем. Промотавшийся дворянин женится, порой, из-за приданного, а девушку отдают замуж ради титула и положения в обществе. Не только писатели, но и наши великие русские художники мимо этих нюансов пройти не смогли. Так Павел Федотов за картину «Сватовство майора» получил звание академика и общероссийскую известность, настолько тонко и с добрым юмором ему удалось передать сцену сватовства дворянина за купеческую дочь. Не менее известна и картина Василия Пукирева «Неравный брак» за которую он получил звание профессора живописи. В сегодняшней нашей жизни нюансы благополучно сохранились.

Василий Пукирев «Неравный брак»
Что я видел в своих браках? В первом браке прожил 33 года, а на самом деле в любви всего три, да и то в этих трех была совместимость только физиологическая, а дальше после рождения дочери и она исчезла, остались муки и сожительство ради детей. Совместимости и любви социальной не было, хоть и были дети. Жена детей обожествляла и ревновала их ко мне. Я попал на случай хорошо описанный в литературе, когда женщина любит мужа только до рождения первого ребенка. Нюансы; с моей стороны я, намотавшись по общагам, вдруг резко захотел семейной гавани, а еще сильно на меня повлиял контраст жесткости в отношении меня со стороны моих родителей и мягкости и внимания, которые я встретил в семье невесты. С ее стороны, как мне кажется, все проще и банальнее – двадцать лет, природа кричит и требует, и тут появляется поклонник, высокий, да еще и перспективный.
Во втором браке физиологическая, чуть-чуть социальная и отчасти духовная. Это уже здорово, настолько, что любовь в моей жизни до сих пор присутствует. На этот раз женился на женщине православной и умной, мне это было очень важно. Но оказалось, что общая особенность женщин, и умных тоже, воспринимать православие в основном на ритуальном уровне. Просто в палитру отработанной схемы жизни у них добавляется еще одна краска, совсем не главная, но в чем-то дополняющая ее, эту жизнь. Наверное, бывает и иначе, но мне как-то не встретилось. Ох, для меня это загадка, такая загадка!
Теперь о нюансах; моя непонятная официальной медицине начинающаяся болезнь и ее, профессионального врача, заверение в моей поддержке и утверждение того, что неизлечимых болезней не бывает. Понятно, что я не мог не зацепиться за это, как цепляется утопающий за соломинку. Но самое главное, что я был очарован ею, поскольку впервые встретил женщину не только приятную мне, но и с мировосприятием подобным моему.
Сразу понимал и то, что возможен негативный вариант развития наших отношений, поскольку быстро терял физические силы и мог стать обузой для всех. Собственно так и случилось. Вначале имел место с ее стороны, кроме симпатии ко мне и очевидный прагматизм или по-другому свои нюансы. Были у нее финансовые сложности. Выяснилось это только в процессе совместной жизни. Прошло время, болезнь брала свое. Когда разрешились ее проблемы, отношение ко мне поменялось, но уйти друг от друга нам не удалось, несмотря на то, что я действительно превратился в обузу для всех. Частичная духовная совместимость, которая была между нами, оказалась для любви исключительно важным элементом. Остались и чувства, может на уровне тления головешки и может только у меня. Слава Богу и за это, в таком возрасте костров, пожалуй, уже и не бывает. Правда, пишу я, как и обещал, искренне, от сердца и это мое восприятие. На самом деле такую жизненную ситуацию куда лучше меня описал Шекспир.
Мои глаза в тебя не влюблены, —Они твои пороки видят ясно.А сердце ни одной твоей виныНе видит и с глазами несогласно.А вот еще одна мысль о любви, мне очень симпатичная и понятная, ее высказал философ Григорий Померанц, которого я считаю гением любви к женщине: «Настоящая любовь немыслима без внутренней зрелости, может быть, ранней, но зрелости. Способность к истинной любви созревает медленно, слишком медленно».
К понятию любви к женщине он добавляет два очень важных слова – «настоящая» и «истинная». Мне кажется, гармония любви возможна только при их выполнении. Кстати сам Померанц созрел для истинной любви только в 38 лет, в результате прожил два брака во взаимной любви, причем, во втором пятьдесят лет с известным поэтом Зинаидой Миркиной, в исключительной любви и гармонии.
Он так гениально писал о любви, что невозможно удержаться от цитирования: «Опыт любви и опыт бесконечности – братья. Не открывшись бесконечности, нельзя до конца отдаться любви. Я не о влюбленности говорю; я о на-всю-жизнь любви. Поэтому любовь пугает…. Церковный обряд, которым в старину скрепляли брак, – это, в конце концов, отсылка на глубину, прикосновение бесконечного к конечному. Но кто сегодня относится всерьез к символам бесконечности, кто действительно видит в них таинство? Или – кто способен безо всяких символов и обрядов тянуться к глубине? Чувство глубины почти атрофировалось. Это что-то вроде новой болезни, разрушающей иммунитет культуры; только вирус не физический, а духовный: потеря благоговения. Что остается, если нет благоговения к любви? Только волны быстротекущей жизни».
Как жалко, что вся эта важнейшая для каждого человека информация приходит только на склоне лет, когда изменить уже ничего невозможно. Конечно, мне очень хотелось семейного счастья, но не удалось. За это я на судьбу не обижаюсь, поскольку хорошо понимаю, что сам не идеален, ведь моя мать не могла не внести определенную кривизну в мое восприятие женщины, и мне пришлось нести ее по жизни, хотя внутренне женщину я всегда идеализировал. Понятно, что приходилось в дополнение ко всему существовать в атмосфере примитивного отношения к любви, навязываемого социумом. Я захватил то время, когда было нормой выносить семейные проблемы на суд общества. Они обсуждались на комсомольских и партийных собраниях.
Инициаторами этих разборок всегда были женщины. Это естественно, поскольку самая большая кривизна, она сидит как раз в душах женщин, сущностях более консервативных, чем мужчины, сформировавших свое мировоззрение на ценностях советских, где муж и семья были вторичны относительно идеологии, а позже к нему добавились и ценности бандитских 90-х годов, которые опустили семью до уровня рынка. А еще не обидно потому, что за свою жизнь, наблюдая сотни семей и людских судеб, с настоящей любовью встретился всего два раза. По жизни видел терпимость, нетерпимость, предательства, склоки и даже драки между теми, кто соединил свои жизни, чтобы до конца этих дней на земле быть одной плотью, единым целым.
Опишу те два случая истинной любви, с которыми мне посчастливилось встретиться. Я уверен, что каждому о настоящей любви читать приятно, поскольку все к ней стремятся, но мало кому удается ее достичь. Начну по порядку.
В 1951 году моя семья получила квартиру в восьмиквартирном двухэтажном доме немецкого типа. На втором этаже в квартире №5 поселилась семья Брюховецких. Он – высокий мужчина с рябым грубым лицом, Она – изящная, стройная, симпатичная женщина, похожая на киноактрису. У них было двое детей, Люся – моя одногодка, училась в параллельном классе и сынок Толик, на три года младше. Я довольно часто приглашался к ним в гости, понятно с подачи Люси. Мы говорили о прочитанных книжках, о школе, о дворовых ребятах, иногда рисовали. Толик был тихим мальчиком и нам не мешал, возил машинки по полу, иногда доставал из коробочки ордена с медалями и игрался с ними. Должно быть, его папка храбро защищал нашу страну в войну.
Что же я там еще видел? В первую очередь культуру, сильно непохожую на нашу, мало отличающуюся от сельской. Я видел ее в виде картин на стенах и дизайна вещей наполняющих их квартиру. Все здесь было нестандартно, не так как у всех. У окна в большой кадушке стояло лимонное дерево высотой почти до потолка и на нем висели лимоны, а между рамами окон росли дыни. Это было Ее хобби, выращивать что-то оригинальное. В воскресенье Он иногда собирал в своей квартире дворовых детей и показывал фокусы. После представления всех угощали конфетами.
Для меня, мальчишки, взаимоотношения Его и Ее были на втором плане. Сейчас, вспоминая их, они вышли на первый план. Я это семейство почти боготворил, и мне было удивительно постоянное осуждение и обсуждение Его и Ее женщинами нашего двора причем, всегда в негативном плане. Как только Он получал на работе какие-то деньги, то всегда шел домой с роскошным букетом для жены и тортом для детей, а каждый праздник его жена во дворе появлялась в новом красивом платье. Женщины на лавке бухтели: «Вот опять дорогой ерунды накупил, а потом деньги занимает». Только сейчас я понимаю причину этого группового дворового осуждения. Зависть, женщинам тяжело наблюдать такое. Однажды Он вдруг исчез. Люся сказала мне, что ее папа уехал строить Братскую ГЭС и когда получит квартиру они переедут к нему в Братск. Действительно через полгода они уехали навсегда.
Второй случай настоящей любви я наблюдал, когда был уже взрослым и работал на заводе конструктором. Иногда приходилось курировать машины, изготовляемые на экспорт. Они обязательно проходили полный монтаж в испытательной станции. Там я и познакомился с Алексеем, бригадиром электромонтажников. Это был невысокий, тихий, интеллигентный человек лет тридцати пяти, и исключительно разумный.
Так получилось, что в возрасте тридцати двух лет я вынужден был два месяца отработать в заводском лагере пионервожатым. Только при таком условии дирекция позволила взять мою пятилетнюю дочь на дачу в Вырицу. Такое отношение к ИТР тогда было в норме. Строго соблюдался негласный закон по которому премии и всевозможные блага инженеры получали по остаточному принципу, впереди всегда были рабочие и заводская администрация.
В моем отряде оказалась двенадцатилетняя дочь Алексея, Олечка, девочка невысокая, тихая, скромная с круглым личиком и большими голубыми глазами. На нее невозможно было не обратить внимания, казалось, что она светится, может оттого, что на лице всегда присутствовала доверчивая полуулыбка. Она знала, что мы с ее папой знакомы и относилась ко мне с особым доверием, как к родственнику, что ли. На даче у нее была младшая сестра, и мы иногда туда ходили вместе, я навестить дочь, а она сестру. Дача для детсадовских детей находилась рядом с пионерлагерем. Алексей с женой к своим девочкам приезжал не только в родительский день, но каждое воскресенье. Жена и дочь Оля были удивительно похожи друг на друга. Наблюдая эту семью, невозможно было не заметить какое-то тихое особое отношение тепла и любви между ними.
Лет через пять после этой лагерной эпопеи я на пару недель загремел в больницу на неврологическое отделение и к своему удивлению встретил там Алексея. Он был очень подавлен, ни с кем не общался, в основном лежал в домашней пижаме поверх одеяла. Ходил с трудом, мелкими шагами, придерживаясь за стенку. Каждый вечер к нему приходила жена. Крепко держа его за рукав, она ходила с ним по коридору, потом он ложился на кровать, а она садилась рядом, двумя руками брала его руку и прижимала к своей груди. Они почти не разговаривали, а просто смотрели друг на друга. В таком положении они могли просидеть целый час. Палата большая, кроватей на восемь, моя была в противоположном углу. Из него я посматривал на эту пару, и всегда мне казалось, что от них исходит какое-то волшебное свечение. Конечно, мы несколько раз разговаривали, и он сказал, что врачи диагностировали ему рассеянный склероз. Лечащий врач у нас был один, и я как-то поинтересовался болезнью Алексея. Тот ответил, что форма у него тяжелая и прогноз неутешительный.
Понятно, что на заводе я его уже никогда не встречал, понимал, что в Испытательной станции о его судьбе знают, но спросить сил в своей душе не нашел, да и вскоре с завода уволился.
Глава 4
Политика и судьбы граждан
Внутренняя политика власти очень сильно влияет на личную судьбу каждого человека в государстве. Окончательно понял я это только на склоне лет. По жизни думал, что моя судьба зависит только лично от меня. Мне казалось, что я свободен и всегда сам делаю свой выбор. Сейчас-то понимаю, что был марионеткой, которую вели за ниточки, и мне только казалось, что я свободен. Понемногу это понимание стало проявляться только в зрелые годы, и связано оно конечно со мной, моими школьными друзьями и отчасти студенческими, в общем, с постепенно накапливаемым опытом жизни. Так уж получилось, что я сначала окончил семь классов в школе-семилетке, когда учился в ней, она была десятилеткой. Как раз в это время в стране количество школ-десятилеток было резко сокращено, их превратили в семилетки, а некоторую часть в одиннадцатилетки, в которые принимали по конкурсу аттестатов и после собеседования. Учась в такой школе, год нужно было отработать на производстве и получить рабочую профессию. Аттестат у меня был хороший, и меня приняли. Так неожиданно и быстро начиналась хрущевская реформа школы, по ней ставка делалась на рабочий класс и ПТУ. Через четыре года также быстро Брежнев, придя к власти, ее, эту реформу, отменил.