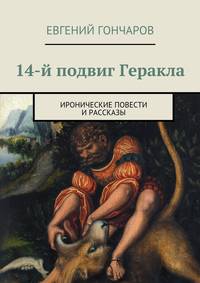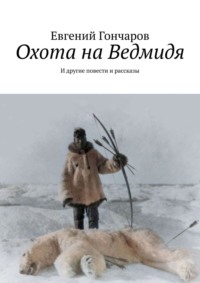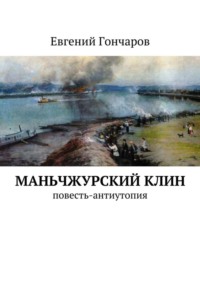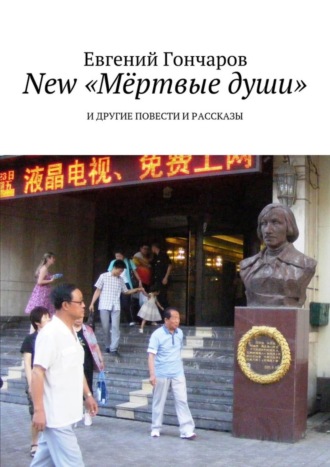
Полная версия
New «Мёртвые души». И другие повести и рассказы
Несколько десятков лет признательные записи Тараканова хранились под грифом «Совершенно секретно!». Их многократно подвергали графологической экспертизе – в надежде обнаружить фальсификацию. Но все без исключения экспертизы подтвердили, что под протоколами допросов стоят подлинные подписи арестованного, его же рукой написано многостраничное раскаяние и донос на товарищей по подполью.
За это время именем героя революции и гражданской войны были названы село, где он родился, улица, где он погиб, судостроительный завод, педагогический институт, теплоход, сквер; у его могилы принимали в пионеры и в комсомольцы, отсюда отправлялись отряды на целину и на стройки пятилеток.
Новые власти не спешили принимать политическое решение о демонтаже памятника Пантелею Тараканову и о переносе его могилы на городское кладбище. Так и стоял он, покрытый слоем купоросно-зелёной окиси, с высоты гранитного постамента безучастно взирая на карусель окружающей жизни. Про таких говорят: «Ни богу свечка, ни чёрту кочерга».
А Миша Воробьёв добросовестно выполнил свою работу, записав в бланке инвентаризации:
«Могила ТаракановаФИО: Тараканов Пантелей АфанасьевичДаты рождения-смерти: 1878—13.03.1919Материал памятника: гранит-бронзаОграда: якорная цепь, 3,5х3,5 мСостояние могилы (подчеркнуть):хорошее, среднее, плохое.Особые отметки: нет».Птица тройка
Откуда-то издали донесся звон бронзового колокольчика, какой висит под дугой коренного жеребца в русской тройке. Колокольчик звучал всё громче и ближе, и, наконец, на кладбищенской дороге показалась бричка, запряжённая в тройку лошадей.
– Тпру! – крикнул извозчик и натянул вожжи.
Бричка встала, и из неё вышел господин «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод», одетый во «фрак брусничного цвета с искрой».
«Чичиков приехал!» – сразу узнал господина из брички Миша.
– Что, Михаил, много ты сегодня для меня мёртвых душ переписал? – спросил Чичиков у Воробьёва.
– Здесь сто восемьдесят три, – ответил Миша и протянул Чичикову свою сумку-планшет с заполненными бланками инвентаризации кладбища. – Остальные я сдал главному инженеру. Там много – пятнадцать тысяч с лишним. Только вот как же мне их теперь взять оттуда для вас.
– Я уже забрал, – успокоил его Чичиков, принимая исписанные бланки – в подтёках от капель пота, в пятнах крови от раздавленных комаров.
– Павел Иванович, – робко попросил его Миша, – теперь меня с работы точно уволят, возьмите к себе на службу.
– Беру, Воробьёв, тебя своим секретарём, – обрадовал Мишу Чичиков. – Садись рядом со мной и приступай.
Счастливый Воробьёв взобрался вслед за своим новым начальником в бричку.
– Поехали! – толкнул Чичиков в войлочную спину извозчика.
Тот крикнул:
– Н-но, треклятые! – И взмахнул при этом вожжами.
Кони рванули, бричка с грохотом понеслась. Сначала она тряслась по гравийной дороге, то и дело наезжая колёсами на большие булыжники, но потом ход её стал плавным. Миша с удивлением увидел, что кони вместе с бричкой уже летят по воздуху, набирая высоту, отталкиваясь коваными копытами – будто это был не небесный эфир, а земная твердь. И уже далеко внизу, как на Гугл-карте, осталось и кладбище, затем и город, а потом и вся эта огромная – от Балтийского моря до Тихого океана – страна.
«Так вот почему – птица тройка!» – успел радостно подумать Миша.
А внизу медленно проплывали величавые реки и озёра, красивые леса и горы, и уже не были видны за дальностью расстояния все мерзости России, как то: раздолбанные дороги и покосившиеся избы деревенек, вызывающе роскошные дворцы и яхты, и сам бедный русский народ, и его ненасытные паразиты-кровопийцы.
Птица тройка летела прямиком к ослепительно белому, взрывающемуся термоядерными протуберанцами шару дневного светила. С каждой секундой становилось всё жарче, и скоро и кони, и люди распались на атомы, из которых были кем-то и зачем-то замешены и вылеплены.
О Воробьёве спохватились лишь через три дня. Сначала подумали, что Миша запил и забил на работу. Потом, на всякий случай, послали смотрителя кладбища поискать по участкам. Труп техника-инвентаризатора лежал на спине, на его лице застыло выражение полного счастья. Судебно-медицинская экспертиза показала ненасильственный характер смерти, а врач-паталогоанатом назвал её причину – геморрагический инсульт (как говорили во времена Гоголя, апоплексический удар).
Из морга тело Михаила Воробьёва никто не забрал, и его похоронили за счёт государства на участке для безродных покойников. Закопав некрашеный гроб, несентиментальные могильщики пустили по кругу из горла бутылку водки, зажевав печеньем с чьей-то свежей могилы. Через неделю студентка на каникулах, принятая на освободившееся место, аккуратно описала его могилу на бланке инвентаризации.
А потом случилось нечто таинственное, не поддающееся какому-то материалистическому объяснению. Когда решили оприходовать инвентаризационные бланки, заполненные Воробьёвым за два с половиной месяца, обнаружилось, что во всех десяти картонных коробках из-под принтерной бумаги «Снегурочка» лежали незаполненные пустографки. Кто-то предположил, что Воробьёв делал записи исчезающими симпатическими чернилами. Бланки смотрели на просвет и гладили горячим утюгом, но на них ничего не проявилось.
Опросили всех сотрудников офиса, не заметили ли они в последнее время чего-то необычного или подозрительного. Завхоз и уборщица показали, что в день Мишиной смерти к конторе «Ритуального сервиса» подъезжала чёрная бричка, запряжённая в тройку вороных коней, которую они приняли за новый катафалк в ретро-стиле. Из брички вышел какой-то господин, одетый по старинной моде, который поднялся на второй этаж, где кабинет главного инженера, а потом спустился с большой полосатой китайской сумкой, наполненной чем-то. Были внимательно просмотрены записи за тот день с камер внешнего и внутреннего наблюдения, но на них ничего такого зафиксировано не было. Чтобы не прослыть ротозеями, тем паче шизофрениками, решили не сообщать о таинственной пропаже в полицию.
Как говорится, замяли для ясности.
И правильно поступили – какой может быть спрос с Чичикова.
Парусник Маака
Повесть – ретроспектива
Посвящается неутомимому и мужественному исследователю и патриоту Приамурского края
Ричарду Карловичу Мааку.
Тетрадь в коленкоровом переплёте
После развода с женой и раздела нашей трёхкомнатной квартиры мне досталась однушка в двухэтажном доме послевоенной постройки. Скрипучая деревянная лестница, площадка на три квартиры, высокие потолки и комната в два окна, с тесной кухонькой и совмещённым с ванной унитазом – общей площадью 30 квадратов. Да, забыл, ещё ветхий балкон, на который страшно выйти без парашюта.
Расставив привезенный скарб и подключив Интернет, я отправился искать старшего дома, чтобы узнать, который из подвальных чуланов мой. Моя кладовка была первой от входа налево. Прежде чем занести туда сетку картошки и картонную коробку с луком, мне предстояло освободить чулан от хлама, оставшегося от старых хозяев.
К моей радости, наследства было немного, да и то оказалось не совсем бесполезным.
Ну, кто сейчас выбрасывает на мусорную площадку старый венский стул, который после несложной реставрации может стать украшением квартиры в стиле ретро. В фанерном футляре я обнаружил ручную швейную машинку Подольского завода, производства 1963 года – вещь вполне антикварную, и достойную того, чтобы стоять в моей квартире на почётном месте.
Годовые комплекты журнала «Коммунист» застойного брежневского периода интереса для меня не представляли, и были вынесены на свалку истории. Затем на мусорную площадку, по той же причине, последовали собрания сочинений двух писателей – поэта и прозаика, лауреатов Сталинских и Ленинских премий, Героев Социалистического Труда. Свёрнутый рулоном узбекский ковёр и неполный чехословацкий хрустальный сервиз также пошли на вынос.
В тусклом свете двадцативаттной лампочки накаливания под раздачу чуть не попала и старая тетрадь в коленкоровом переплёте. Только выйдя из подвала на свет дня, я рассмотрел, что было в этой общей тетради. Я увидел записи, сделанные чернильным пером – каллиграфическим почерком, с наклоном и нажимом. Но главное, с архаическими «ѣ», «і» и твердыми знаками в конце слов.
Вечером, поставив на вертушку винил рок-группы Pink Floyd и поудобней улегшись на диване, я открыл старую тетрадь. Чтение захватило меня с первых строчек.
Это была рабочая тетрадь благовещенского журналиста, жившего во второй половине XIX века. Звали-величали его Дмитрием Макухиным, и был корреспондентом еженедельного литературно-сатирического издания «Амурский ротан», которое почило в бозе, не успев появиться на свет (увы, бывает и так, когда речь идет о газете или журнале).
Чтобы не испортить неподражаемого стиля Дмитрия Макухина, я публикую его тетрадь полностью, но с изменениями, выражающимися во вставке слов и целых предложений, утраченных в тех местах, где листы были безнадёжно попорчены мышами. Старинные русские и китайские меры длины, веса и объема я дополнил современными европейскими. Также сделал, где надо, сноски-пояснения.
Между страницами тетради был вложен в качестве закладки лист белой рисовой бумаги, по краям также потраченный мышами. Но рисунок цветной китайской тушью на нём хорошо сохранился. Казалось, огромная бабочка яркой раскраски сейчас взмахнет крыльями и полетит. Под рисунком стояла надпись печатными буквами: «Парусникъ Маака (Papilio maakii). А ещё ниже – размашистый автограф: «Ричардъ Маакъ. 17-го августа, 1886 года, г. С.-Петербургъ».
Краткое вступление
Детство моё прошло в доме на улице Зейской. Отец мой, мелкий чиновник городской управы, утонул при купании в Амуре, когда мне было семь лет, и матушка, чтобы прокормить нас, троих детей, из коих я был самым старшим, сдавала комнаты жильцам. При доме был огород, служивший нам большим подспорьем в части пропитания, и я с юного возраста помогал матушке поливать и пропалывать грядки.
И вот там, в нашем огороде, однажды увидел я огромную бабочку необыкновенной красоты. Цвет её крыльев, отливающих металлическим блеском, невозможно было описать: но был и чёрный, и лазоревый, и зелёный сразу. Матушка не знала, что это за бабочка: на её родине, в Саратовской губернии, таких не было.
Тогда я ещё не мог и вообразить, что пройдут годы – и мне доведётся встретиться с учёным-естествоиспытателем, чьим именем названо это дальневосточное чудо, эта самая большая бабочка России. С человеком из числа сподвижников графа Муравьёва-Амурского, одним из творцов истории Русского Приамурья – Ричардом Карловичем Мааком. О встречах с которым и хочу поведать вам, уважаемые читатели.
Прошу вас по возможности быть снисходительными к шероховатостям моего стиля изложения, поскольку вы читаете не творение писателя, а всего лишь записки провинциального журналиста.
«Амурский ротан»
Когда в Благовещенск из Петербурга была доставлен новый журнал «Ревизор», я обратил внимание на статейки, напечатанные в разделе «Фельетоны». Критическое содержание и саркастический тон этих заметок, авторы которых скрывались за подписями Старый брюзга, Недовольный ворчун, Язва московская и прочими подобными, подвигли меня на подражание. Озарённый вдохновением, я в один присест написал свой первый фельетон.
«НЕ ОБМАНЕШЬ – НЕ ПРОДАШЬ
Земля амурская слухом полнится, что в Благовещенске есть чиновники и купцы, взявшие себе девизом русскую народную присказку «Рука руку моет, вор вора кроет». Вдвоём можно добиться того, чего одному не удаётся. И хорошо, если такой дружеский союз заключен во благо себе и обществу. А если во благо себе, но во вред обществу? Увы, бывает и так.
В Благовещенске за такими примерами далеко ходить не надо. Вот последний случай, живо обсуждаемый во всех домах и присутственных местах.
Скоро будет год, как в городе существует Дом призрения престарелых и увечных отставных нижних чинов. Сие заведение находится под покровительством городского головы, благотворителями и жертвователями его являются уважаемые граждане города.
Заглянем же в столовую этой богадельни и посмотрим, что там варится в котле для призираемых инвалидов.
Вот в бочках солёная кета, а вот в мешках просяная крупа. Согласно записям в амбарной книге, кета эта последнего улова, а просо привезено из-под китайского города Гирина. Но что мы видим при ближайшем рассмотрении? Кета в бочках заветрена и с неприятным душком. Просяная крупа мелкая и засоренная отходами молотьбы. В лабазах Благовещенска ходят слухи, что это вовсе и не кета, а горбуша, и хранится она уже, самое малое, три года, а просяная крупа самого низкого сорта куплена здесь же неподалеку – у зазейских маньчжуров.
Кто же поставщик залежалых и скверного качества продуктов? Купец второй гильдии Яков Фролович Кузеванов, пять лет назад начинавший с лоточной торговли снедью и шинкарства*. А кто принимал и оплачивал эти поставки? Чиновник А. из канцелярии при городском голове. Плохо верится, что здесь не обошлось без подкупа должностного лица.
*Незаконное изготовление, хранение и торговля спиртными напитками.
Что же это выходит?! На сиротский стол попали некачественные продукты, за которые ещё и заплачено втридорога! А нажились бессовестный купчишко и жадный крючкотвор.
Заглянем в большой энциклопедический словарь Konversations-Lexikon и найдем там подходящее к этому случаю слово korruption, в переводе с немецкого языка означающее: подкуп, продажность и разложение.
На вопрос: «Куда мы катимся?», есть только один ответ: «Мы катимся в пропасть!».
P. S.
Кстати, обозначенный купец является и поставщиком интендантской службы Благовещенского гарнизона. Что в котле у наших доблестных воинов?
Дятел благовещенский».Запечатав свой фельетон в конверт, я отправил его в редакцию журнала «Ревизор». С очередной доставкой почты из Петербурга пришёл последний нумер сего издания, в котором я, к своей неописуемой радости, обнаружил произведение, вышедшее из-под моего пера.
Окрылённый успехом, в тот же вечер я написал фельетон в стихах про наших нахлебников.
«ПОЧЕМУ МУКА СТОИТ 5 РУБЛЕЙ*Прежде был я – как яблок наливный,А теперь я – как спичка! Ей-ей!Это что же? Зерно-то – 3 с гривной,А мучица-то 5 аж рублей!!!О, наивный обыватель!Как же глуп и тёмен ты!Загибай за мной, приятель,На руках свои персты!Ну, считай: зерно – 3—10,А теперь гляди, земляк:Чтоб отмерить, ссыпать, взвесить —Положи еще пятак.На усушку, на утруску,На подноску, на разгрузку,Тут, приятель, как ни как,А добавишь четвертак,Дальше: возчики,Переносчики,Посыльные,Рассыльные,Да затем на контрагентовТоже надо что-то дать.Хочешь не хочешь, а процентовПоложи, примерно, пять.И торговый комитетСебе просит на обед:На бумагу и чернила,Чтоб в казне не пусто было.Дальше – подходим к помолу:30 копеек гони мукомолу,Пока мука дойдет до куля,Глядь, набежало еще до рубля.А пока доставишь в лавку —Тоже сделаешь прибавку:На извозчиков,Переносчиков.Чтобы счесть, сколь пуд утратит,Чтобы всё принять на вид —Я боюсь, перстов не хватитИ у всех, кто тут сидит!!!Пока кусок несешь до рта,Не остается ни черта!Дятел благовещенский».*Сокращённое и немного измененное одноименное стихотворение, опубликованное в еженедельном литературно-сатирическом издании «Дятел беспартийный», №1 от 14 (27) января 1918 г., автор – Фёдор Чудаков.
И опять, получив очередной нумер «Ревизора», я увидел напечатанным своё произведение.
Решив испробовать своё перо в новом жанре, я сходил в городской храм Талии и Мельпомены, после чего родил на свет рецензию на спектакль.
«СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК?
В новом здании Благовещенского театра, построенном на добровольные пожертвования горожан разных сословий, поставлена комедия «Ябеда»*.
*Комедия «Ябеда», драматург Васи́лий Васи́льевич Капни́ст (1758 – 1823).
Кратко о содержании этой нравоучительной комедии.
Отставной асессор Праволов – ябедник и сутяжник, затевает процесс против служащего полковника Прямикова – бесхитростного и порядочного человека, чтобы отсудить у того законное наследство – имение отца. Праволов заявляет, что это имение ранее уже куплено им, а Прямиков не тот, за кого себя выдает.
Праволов дает председателю гражданской судебной палаты Кривосудову взятку, и тот соглашается решить дело в его пользу. Прокурор, секретарь и члены судебной палаты также задобрены Праволовым.
На именинах у Кривосудова заходит разговор о назначении нового губернатора – Правдолюба. Судейские опасаются, как бы им самим не попасть в кутузку из-за взяток, ведь Правдолюб честен и неподкупен, рассматривает по справедливости все жалобы.
Пьяные гости поют:
«Бери, большой тут нет наукиБери, что только можно взять,На что ж привешены нам руки,Брать, брать, брать».Решением судебной палаты имение Прямикова отдано Праволову.
Но тут приходит два пакета из Сената. В первом – приказ, сковав, под стражу взять Праволова – ябеду, разбойника и душегуба. Во втором – приказ, судить всю гражданскую палату уголовным порядком за взятки и толк кривой в делах.
Кроме того, что игра актеров любительской труппы отставляет желать лучшего, а театральные декорации состоят из старой мебели Общественного собрания, сказать об этой постановке мне почти нечего.
Забыв слова своей роли, то один, то другой актёр с мольбой смотрит в сторону будки суфлера. Так и хочется спросить такого: «Если у тебя отшибает память, так зачем же ты лезешь в лицедеи?»
Шепелявость Софьи – невесты Прямикова, при каждом ее появлении на сцене вызывала гомерический смех в зале. Но после спектакля выяснилось, что это просто дефект речи у артистки.
После просмотра комедии «Ябеда» у благовещенского зрителя неизбежно и закономерно возникает вопрос: «Не намёк ли это на местное кривосудие и скорую смену нашего губернатора?
P. S.
Объективности ради нужно также сказать, что буфет с напитками и закусками, устроенный в антракте между действиями спектакля, был выше всяческих похвал.
Дятел благовещенский»В свежем нумере журнала «Ревизор» моя заметка была напечатана в разделе «Театральная критика».
При выходе с почты, меня остановил какой-то господин в черном кителе с эмблемами в петлицах – в виде двух перекрещенных электрических разрядов в обрамлении двух почтовых рожков, и в фуражке с синим кантом и такой же кокардой, представившийся Прохором Кузьмичом Полозовым – помощником начальника почтово-телеграфной конторы города Благовещенска.
– Поздравляю вас, господин Макухин, с успешным дебютом на ниве журналистики! – сказал он, энергично пожимая мне руку.
– Откуда вы узнали? – удивился я.
– Используя английский дедуктивный метод, – отвечал Полозов. – Я сопоставил два факта. Первый: только вы трижды отправляли письма в адрес редакции журнала «Ревизор». И второй: вскоре в этом журнале трижды появились сатирические зарисовки автора из Благовещенска, скрывающего своё настоящее имя за псевдонимом Дятел благовещенский.
– Надеюсь, вы никому не раскроете моё инкогнито? – попросил я.
– Клянусь здоровьем моей матери! – обещал Прохор Кузьмич. – Будьте так добры, составить мне компанию – я приглашаю вас в ресторацию.
Через полчаса, угощая меня шампанским вином и устрицами из Шанхая в отдельном кабинете кафе-шантана «Версаль», мой новый знакомый изливал мне свою душу:
– Посудите сами, Димитрий Егорович, какие у меня перспективы карьерного роста? Дослужиться до должности начальника городской почтово-телеграфной конторы или, не дай Бог, быть назначенным начальником отделения шестого разряда в какую-то Тмутаракань. Положить жизнь и здоровье на алтарь служения государству и уйти на пенсию после тридцати пяти лет беспорочной службы в чине коллежского секретаря с годовым содержанием в четыреста рублей? Нет уж, увольте, это не для меня! После Рождества Христова подам прошение о досрочной отставке.
– Чем думаете заняться потом? – поинтересовался я для приличия.
– До недавнего времени собирался вложить свои скромные накопления в золотодобычу. Но буквально вчера вечером переменил свои жизненные планы и решил заняться издательским делом, – с горячечным жаром говорил Полозов. – Печатать свой журнал – всё одно, что печатать ассигнации.
– Полагаете, это так выгодно?
– Несомненно! Скандальные сообщения вызывают ажиотажный интерес читающей публики. Тираж еженедельного городского литературно-юмористического журнала 200 экземпляров будет обеспечен. Если продавать одну книжку журнала за полтинник, получится 400 рублей месячного дохода. Приплюсуйте сюда платные объявления по 25 копеек за строку, станет ещё на 100 рублей больше. За вычетом всех накладных расходов, останется не менее 300 рублей чистой прибыли за месяц. Недурственно?!
Но не всё измеряется презренным металлом. Издатель и редактор городского журнала – уважаемый в обществе человек, с мнением которого считаются не только толстосумы, но и власть предержащие. Одна лишь острая критическая статья может низвергнуть любого сильного мира сего. После власти Государя-Императора, Святейшего Синода и Сената, я убеждён в этом, четвёртой российской властью станет журналистика.
Я слушал его с открытым ртом. Наконец, выпитое шампанское урожая 1860 года так ударило мне в голову, что я уже смотрел на Полозова, как на нового Мессию, был готов стать его апостолом и повсюду следовать за ним. К чему он меня, собственно, и призывал.
– Я предлагаю вам стать моим компаньоном, – предложил Прохор Кузьмич.
– Но я крайне стеснён в деньгах, – честно предупредил я.
– Ваш вклад в наше общее предприятие будет состоять не из материального, а из интеллектуального капитала, – сказал Полозов. – Литературный талант, которым вы владеете, эквивалентен тысяче золотых червонцев.
Польщённый столь высокой оценкой своего литературного творчества, я согласился стать компаньоном Полозова по изданию журнала города Благовещенска, название которого мы тут же и придумали – «Амурский ротан»*.
*Ротан (Perccottus glenii) – хищная рыбка с большой пастью, обитает в водоёмах бассейна реки Амур.
Я работал конторщиком у пароходчика Сомова. На следующее утро я подал заявление на расчёт.
Тем же днём я посетил Полозова на его квартире. Встреча была рабочая – мы обсудили планы по созданию нашего журнала.
Как выяснилось, мой компаньон хочет иметь собственную типографию, чтобы не быть зависимым от кого-либо. Кроме того, пояснил Прохор Кузьмич, это позволит вместе с изданием журнала печатать на продажу разнообразную канцелярскую продукцию, как то амбарные книги и бланки.
Полозов предложил мне незамедлительно поехать в Петербург для достижения договоренности о покупке типографского оборудования. Дорожные расходы до столицы и обратно, а также моё проживание в Петербурге на постоялом дворе, составляли одну четверть всех расходов на покупку и доставку типографии. Чтобы сделать эти затраты менее разорительными для дела, он предложил мне одновременно с главным заданием выполнить ещё одно поручение.
Мне предстояло найти в столице какого-нибудь известного человека и взять у него большое интервью, которое мы потом будем публиковать по частям в номерах нашего журнала.
– У кого же мне взять интервью? – спросил я.
– Да хоть у Ричарда Карловича Маака, который раньше много бывал в наших краях, а сейчас какой-то важный чин в Петербурге.
– Кто такой?
– Говорят, он первый открыл черёмуху, – Полозов указал в открытое окно, за которым буйно цвела раскидистая черёмуха*.
*По своему невежеству господин Полозов не знал, что в его дворе росла черёмуха азиатская (Padus asiatica) – местная разновидность черёмухи обыкновенной (Prúnus pádus). Маак же открыл совершенно новый вид черёмухи, позднее названный в его честь (Padus maackii).
– Как же можно открыть… дерево?
– А вы пойдите и спросите у него.
– Адрес дадите?
– Да его там каждый извозчик знает.
Недолгие проводы
Итак, я начал сборы в дальнюю дорогу. Значительную часть пути мне предстояло проехать на почтовых лошадях – архаичном транспорте прошлого века. Ускорить передвижение по почтовому тракту можно, если менять лошадей в первую очередь, но для этого нужна официальная бумага, подтверждающая, что вы едете по казённой надобности – подорожная.
– Хорошо бы мне получить подорожную от вашей конторы, – сказал я Полозову. – Вы можете поспособствовать?
– Мой начальник не позволит, – ответил он. – Может, нам самим состряпать подорожную?