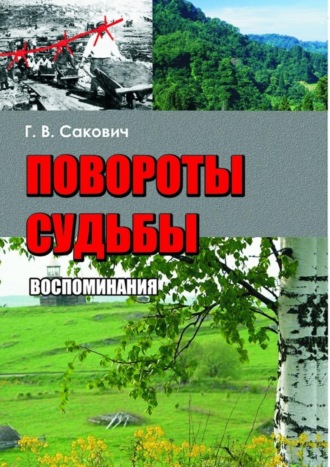
Полная версия
Повороты судьбы. Воспоминания
Воспитание детей в школе в те времена проводилось в условиях, когда в детских газетах, журналах, книгах – везде говорилось о том, что детям надо быть бдительными. Кругом на фабриках, заводах проводятся взрывы, диверсии, поджоги. Эталоном для детей был Павлик Морозов.
Помню, как сестру Нину (она училась в шестом классе) дети в школе столкнули с лестницы под возгласы:
– У нее отец – «враг народа»!
Бедная Ниночка, она пришла из школы вся заплаканная, побитая. Мы, как могли, успокаивали ее. Представляю, как эту сцену пережила мама? Семья наша была очень дружная. Видимо, общая беда настолько нас сплачивала, что об эгоизме и речи быть не могло. Мы старались только приятное делать друг другу. Мать для нас была просто божеством.
Переходя из класса в класс, я получала похвальные грамоты. Вот одна из них, за второй класс, лежит передо мной. В верхнем левом углу изображен портрет Ленина, в правом – Сталина.
В те времена был распространен плакат, на котором изображен Сталин, держащий на руках нерусскую девочку. Внизу было написано: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».
Я ему должна несколько раз сказать «спасибо»: за то, что он оставил меня без родителей; за то, что была лишена возможности резвиться, как все дети; за то, что еще не могла осознать, но уже была дочерью «врага народа»; за то, что в детстве не могла досыта есть; за то, что была как былинка в поле, – за все-все ему большое спасибо? Сколько несправедливостей, унижений, незаслуженных оскорблений пришлось мне испытать с раннего детства!
* * *
Теперь нам стало жить легче – с нами была мама. На работу ее никуда не принимали, кроме кирпичного завода. На нем полукустарно делали кирпичи. Глину мешали с помощью лошадей, которые все время ходили по кругу. Работа была наполовину ручная. Мама работала на станке. В ее обязанности входило формовать кирпичи. Для этого в специальную выемку станка руками следовало положить комок глины (специально подготовленной), прижать его крышкой и, нажав на педаль, вынуть получившийся кирпич из формы. Затем сложить кирпичи в тележку и отвезти к печам для обжига. На таких операциях работали женщины.
В мою обязанность входило принести маме обед. Чтобы дойти до кирпичного завода, нужно было пересечь небольшой лесок. Лес – это моя слабость! Все мне хотелось что-то рассмотреть. Иду однажды с горшком супа. Это был картофельный суп с крупными макаронами. Засмотрелась, запнулась, упала и пролила суп. От обиды за то, что мама осталась без обеда, разревелась. Что было делать? Стала руками собирать макароны и кусочки картошки. Пришла на завод, плачу, рассказываю, что со мной случилось. Убеждаю в том, что макароны можно есть, – они чистые. По-видимому, столько горя было в моих глазах, что вокруг меня собрались женщины-работницы. Стали уговаривать, успокаивать. Ответом на все это были мои громкие рыдания. Тогда женщины стали делиться едой с мамой. Когда я увидела, что она может поесть, стала успокаиваться. Вот так мы дорожили матерью! Причинить ей боль, неприятность было для нас большим горем.
Бабушка воспитывала в нас особое чувство любви, бережного отношения к матери. Однажды лишившись ее, мы боялись потерять снова. Бабушка часто говорила нам:
– Берегите мать. Если она умрет, то вы не сможете жить.
Теперь надо понять так – не жить, а выжить. Мать для нас была спасительницей от всех бед и огорчений. Как мы ждали ее с работы! Каждый раз я стремились порадовать маму, обычно своими пятерками в школе. Может быть, поэтому училась хорошо? Дома мы видели маму очень мало. Она всегда много работала, старалась как можно больше заработать, чтобы прокормить нас.
О сильной любви к матери говорит такой случай. Я болела корью уже в возрасте девяти лет. Все тело мое было покрыто сыпью, высокая температура. Мама очень волновалась за меня. Придя с работы домой, не отходила от моей кровати. Я начала поправляться. Однажды бабушка мне говорит:
– Как мать придет, ты пой песню. Она обрадуется и поймет, что тебе уже лучше.
Приходит мама с работы, спрашивает:
– Как она себя чувствует? Бабушка говорит:
– Слышишь, она уже песни поет!
Мне это стоило огромных усилий. Делала я это для того, чтобы успокоить маму. Так у нас воспитывали любовь к матери. Это святое чувство сохранилось на всю жизнь.
Проработав два года на кирпичном заводе, мама перешла на работу в детские ясли воспитательницей в младшую группу. Моя мама очень любила детей. У нее всегда были хорошие отношения с родителями воспитанников. Забегая к ней на работу, зачастую видела такую картину: мамаша зимой, укутавшись от мороза, порой в рабочей одежде, прибегает в ясли кормить грудью ребенка. А делать это надо было через каждые три часа.
Атмосфера в детских яслях была очень хорошая. В коллективе работали одни женщины. Они по-особому, сочувственно относились друг к другу, если кого-то из них постигали неприятности. В будущем долгое время они оставались друзьями.
Однажды прихожу из школы, бабушка плачет, дает мне треугольный конверт и просит отнести его маме на работу. Это было письмо товарищей отца по лагерю. В письме сообщалось о том, что отец умер, послано оно было нелегально. Сейчас удивляюсь: как оно могло дойти до нас?
Вот его содержание: «Мы – несколько знакомых Вашего мужа, Владимира Адамовича Саковича, – решили известить Вас о печальной действительности. Ваш муж умер 13 октября. Сочувствуем Вам и дочкам Владимира Адамовича в Вашем горе».
Приписка: «Уважаемая, я была у своего мужа на свидании, и они просили послать Вам эту записку. Это их всех ожидает. Одни слезы. Как я побыла, посмотрела, жить не захотелось. Какие муки они переносят! До свидания». Подписи нет. После этого мама написала письмо начальнику лагеря, чтобы сообщили, жив или нет ее муж. Ответа не было. Написала туда же письмо и Нина. Ей тоже не ответили.
Перед этим мы получили письмо от отца, где он писал о том, что ему назначили противоцинготный паек и чувствует он себя «хорошо». Письмо было написано 21 августа 1939 года. Это было третье и последнее письмо, которое мы получили от отца за два года заключения. До письма его друзей, сообщивших о смерти отца, выслали ему посылку.
Не получив ответа от начальника лагеря, мама пишет на почтовое отделение с вопросом о том, чтобы сообщили – вручили ли ему посылку? На что получаем ответ: посылка вручена 25 декабря 1939 года!!! Оказывается, отец умер 13 октября, а посылку ему вручили в конце декабря! Вот ведь как могло быть! Мы отрывали от себя последние крохи, чтобы послать отцу немного продуктов. А, видимо, посылок арестанты вообще не получали. Ведь, не задумываясь, написали такую чушь. Поэтому у нас долго в душе теплилась мысль о том, что отец жив. В те времена политически заключенных зачастую лишали права переписки с родными. На самом деле это означало расстрел, а родственникам сообщалось – без права переписки. При этом человек-то уже давно был на том свете. А, может быть, лишили и его? Что только не предполагали! И лишь в 1957 году нам сообщили о том, что отец умер. У нас ни у кого не поднималась рука помянуть отца в день его смерти. Мы просто хватались за соломинку, не веря в его смерть.
В 1957 году нам выдали похоронную. В ней не было указано место смерти – ни области, ни района, ни края, ни республики, но зато указана причина смерти – крупозное воспаление легких. Получается так, что неизвестно, где он умер, но известна причина смерти. В некоторых документах по этому поводу написано – гриппозное воспаление легких. Поражает безграмотность людей, вершивших судьбы человеческие! Вот и все, что мы узнали об отце только в 1957 году.
Мама рассказывала нам один случай из их жизни в тюрьме. Однажды арестанты устроили им свидание. Сделали это так: в одно и то же время они пришли за баландой для своих камер. Как удалось заключенным это сделать – до сих пор остается загадкой. Вот уж была взаимовыручка у заключенных!
Когда мама вошла и увидела отца, узнать его было трудно – абсолютно седой, обрюзгший, опухший, и голос был изменен. Он шепелявил. Наверное, не было зубов. Как его терзали, избивали, мучили – совсем невинного человека! Они смогли перекинуться всего лишь несколькими фразами. Он сказал:
– Катюшка, я все сделаю для того, чтобы тебя освободили, чтобы ты была с детьми. Посвяти себя всю воспитанию наших деток. Сделай все возможное, чтобы они получили образование.
И все. Для дальнейшего разговора возможности не было. Бедный наш папочка, представляю, сколько издевательств тебе пришлось перенести!
Всю жизнь мать жила ради нас. Помня эти слова отца, бывшие для меня как завещание, я преодолевала огромные материальные и моральные трудности, много училась и в итоге стала кандидатом наук.
Мне сначала было непонятно: что он мог сделать в тюрьме, чтобы освободили маму? Впоследствии узнала, что если заключенный отрицал все обвинения, предъявляемые ему следствием, несмотря на все издевательства, то последней угрозой было – посадить и отправить жену в лагеря, а детей в специальные детские дома НКВД. Первое они уже выполнили – маму посадили в тюрьму. Намечена уже была отправка и нас, детей, в детский дом. Это были последние угрозы следствия. Пытки его не могли сломить, а такая угроза – смогла. По-видимому, он все стал подписывать, что ему предлагалось, чтобы сохранить нас. Страшно все это представить!2
Сейчас я понимаю, что в освобождении мамы сыграла роль не только эта причина, но и «польская операция». Настолько много посадили жен и отправили детей в детские дома (300 000 детей), что просто не знали, что с ними делать. В связи с этим поступило распоряжение из Москвы – часть жен освободить, естественно, с ними освободятся и дети, или отправить семьи на поселение. По-видимому, эти два фактора сыграли роль в освобождении мамы из заключения.
* * *
Наступило еще одно страшное испытание – началась война. К этому времени я уже закончила третий класс. Еще до войны снабжение городка было плохое. Трудно было купить промышленные товары, в особенности ткани, даже самые простые, например ситец. За ним занимали очереди с вечера и простаивали всю ночь. Перед глазами такая картина: у магазина с вечера стоит огромная толпа. На ладонях люди пишут номер очереди. Отойти на какое-то время было нельзя, так как людей часто пересчитывали, и если тебя в это время не было, то очередь пропадала. Следовало занимать ее второй раз. Поэтому приходилось стоять всю ночь, вплоть до открытия магазина. Мы, дети, стоя в такой очереди, находили возможность для развлечения. Я обычно стояла с вечера, а ночью меня заменяла бабушка.
Какая была радость – купить пять-десять метров ткани! А если это был ситец, то особенно радовались, так как это означало, что кому-то из нас сошьют платьице. В основном мы носили вязаные платья, кофточки, юбочки, чулки, носки – все это вязали мама и бабушка. Они были большие рукодельницы, и это очень нас выручало. Старые изделия несколько раз перевязывались.
Начало войны почувствовали тогда, когда за хлебом начали выстраиваться большие очереди. Стояли целыми днями и ночами. Хлебные магазины работали круглосуточно. Мы с Ниной приспособились ходить за хлебом ночью. В самой середине ночи очередь за хлебом была меньше.
В это время в городке начались разбои. Ночью часто нападали на людей и все, что у них было, забирали. Произошло нападение и на нас с Ниной, когда мы с нею ночью возвращались из магазина с сумкой хлеба.
Чтобы дойти по улице до нашего дома, нужно было перейти деревянный мост, которой проходил через большой овраг. Идем мы с ней уже по середине моста, как вдруг с обеих сторон из-под моста выскакивают на нас хулиганы. Мы побросали сумки с хлебом и побежали, но в разные стороны. Она вперед по мосту, а я – назад. Не знаю, как нам удалось, но мы убежали. Может быть, этим хулиганам нужен был только хлеб? А может, они растерялись – за которой бежать?
Прибежав домой, Нина, плача, кричит:
– Галину поймали хулиганы!
Я же, пробежав мост, заскочила во двор первого от него дома. Хозяин находился в доме один. Он вышел во двор и увидел меня, плачущую. Стал, как мог, успокаивать, спрашивая, что со мной произошло. Затем вместе с ним мы вышли на улицу. Около моста была большая толпа людей. Среди них была мама. Искали меня, облазили весь мост и овраг. Что творилось с мамой – представить трудно. Увидев меня, она бросилась ко мне и, рыдая, прижала к себе. С тех пор мы за хлебом ночью больше не ходили.
Наши края – это места ссылок, лагерей заключенных. Но не помню, чтобы кто-то из них причинял нам неприятности, – вероятно, потому, что большая часть попавших туда людей были не уголовниками, а «политическими».
* * *
В начале войны к нам в городок стали прибывать эвакуированные, много людей – вместе с предприятиями. Был эвакуирован военный завод из Кунцево (под Москвой). Станки и оборудование из вагонов вытаскивали прямо на землю. Под цеха освобождали территории нашего комбината. Из досок сколачивали помещения для цехов. Это в наших суровых краях! Несмотря ни на что, устанавливали оборудование, и люди работали.
Эвакуированных стали расселять по домам. В этом случае никто не спрашивал разрешения к их поселению. Приводили людей и просто говорили – вот столько человек будет жить у вас.
Наш дом был небольшой: две маленькие комнатки, проходная кухня вместе с прихожей. К нам подселили двух мужчин – отца со взрослым сыном. Оба они работали на заводе, у них была бронь от призыва на фронт.
Работали сутками, без всякого учета времени, порой до тех пор, пока могли стоять на ногах. Наши квартиранты были измученные, всегда в замасленной, грязной рабочей одежде. Самое страшное, что у них были вши. Бабушка заправляла углями паровой утюг, и мы все время проглаживали нижнее белье, в особенности швы, в которых могли быть вши. Бабушка требовала, чтобы это делали и наши квартиранты. Она заставляла их стирать свои вещи. Мыла не было. Настаивали в воде золу и этим раствором стирали. Естественно, что в таких условиях жизни в городе вспыхнула инфекция сыпного тифа. На счастье, эта болезнь миновала наш дом.
Голод усиливался. Хлеб стали давать по карточкам – двести граммов на человека. И то непонятного качества. Спасал нас только картофель и дары леса. Но и эти продукты распределялись по дням буквально на граммы.
Случилась беда: наши квартиранты оставили нас без семенного картофеля. Они открыли отдушину в подвал, который был под их комнатой, и весь картофель померз. Встали перед фактом – для посадки картофеля нет. Купить его мы не могли – он стоил баснословно дорого.
Наступила весна. Огород мы засеяли, семена все-таки купили. Хотя в этом году мы уже не могли засаживать весь наш огород картофелем. Стало еще голоднее.
Если нам удавалось приобрести немного картофеля, то обычно срезали верхушки клубней и бережно хранили их до весны. Так хотелось съесть немного, что я обычно ходила вокруг этих верхушек и доказывала, что еще можно обрезать слой. А кустик картофеля все равно вырастет из оставшейся части. Вот как мне хотелось есть! Пайка хлеба казалась очень маленькой. Это был кусочек черного, испеченного с кукурузой и какими-то непонятными отходами, грубого хлеба. Съесть его сразу нам не давали. Делили этот кусочек на две части и съедали его в два приема. У меня выработалась привычка: укусив кусочек хлеба, не глотать его, а сосать. Видимо, приятно было продлить удовольствие от хлеба. Эта привычка сохранилась до сих пор. Голод выработал привычку любить хлеб.
Городок наш – промышленный. Деревень вокруг него очень мало, да и те были довольно небольшие. В них в основном занимались животноводством. Разводили коров, свиней, романовских овец, птицу. Сеяли различные кормовые культуры для животноводства. Немного высевали яровой пшеницы, но хлеб из нее получался слишком серый. Вдоль реки были площади заливных лугов. На них росли прекрасные травы, поэтому была возможность заготавливать много сена. Деревни располагались большей частью вдоль реки.
Нина к этому времени окончила курсы учителей начальных классов, продолжала учиться заочно в педучилище и работала учителем в одной из таких деревень. Она была очень неприспособленным к жизни человеком, в отличие от меня. Объясняется это тем, что до тринадцати лет прожила с отцом, который всегда обеспечивал семью. Мне же пришлось прожить с отцом до семи лет, а дальше только думала о том, как бы достать пропитание для всей семьи.
Я всегда старалась как-то помочь семье. Учась в начальной школе, часто жила у Нины в деревне во время летних и зимних каникул. Летом ходила работать в огородную бригаду колхоза на прополку овощей. За это получала обед в колхозной столовой – это обычно была ячневая каша, политая молоком вместо масла.
Приезжая зимой, помогала колхозу перебирать картофель в овощехранилище. За день такой работы нам давали по пять килограмм картофеля. Это было большой радостью. Осенью одно время жала серпом рожь. Но, не зная тонкостей такой работы, сильно порезала на левой руке палец – мизинец. Палец сохранился, но после травмы меня больше не стали брать на эту работу. Ведь, по сути дела, я была еще совсем ребенком (10—11 лет). На руке на всю жизнь остался шрам от этой работы.
Во время войны люди ходили по деревням менять вещи на продукты. Нина же всегда приезжала домой из деревни голодная. Мы как могли помогали ей. Такой она осталась на всю жизнь. Была очень доброй к людям. Ей всегда всех жалко, она могла все отдать человеку, который был беднее ее. Ее добротой зачастую пользовались нечестные люди.
Менять вещи на продукты ходили мы с мамой. Чаще всего это были всякие вязаные изделия. Ходили пешком десятки километров. Летом было проще. Идем, бывало, по деревне стучимся в дома и предлагаем вещи. Для того чтобы покушать, просили немного молока, вареной картошки и кусочек хлеба. Это была не милостыня. Взамен всегда мы что-то давали. Сядем, бывало, на завалинку перед домом, поедим, и так радостно становится на душе! Все, что наменяем, несем домой.
Однажды произошел такой случай. Дело было зимой. Крепкий мороз и сильная поземка. Пошли с мамой в деревню. Выменяли немного ржаной муки и картошки. Картофель хорошо укутали, чтобы не замерз. Положили все на сани. Пешком надо было идти пятнадцать-восемнадцать километров.
Идем. Дорогу заметает все больше и больше. Вот она уже еле заметна. Идем по снегу. Благо, он был очень крепок из-за сильной поземки. Ориентируемся по электрическим столбам. Километров за пять перед городом должны были выйти к замерзшей реке. Перед рекой на горушке стоял пустой деревянный барак без окон и дверей. Таких пустых бараков в лесу можно было встретить много. Оставались они от лесорубов. Это значило, что здесь когда-то рубили лес и в них жили рабочие. Рядом была река, по которой летом сплавляли лес. В этом случае в бараке могли жить и сплавщики. Когда работы заканчивались, бараки просто бросали. Если мы ходили за брусникой на вырубки и встречали такие заброшенные бараки, то ночевали в них.
Идем мы с мамой. Метель, пурга усиливаются. Поравнялись с бараком. Вдруг из него выходит мужчина, подходит к нам и спрашивает:
– Как добраться до города?
Душа ушла в пятки. Смеркается. Стало уже довольно темно. В то время на дорогах были разбои. Какие-то люди, то ли дезертиры, то ли сбежавшие с заводов, часто встречали таких меняльщиков и все у них отбирали. Ходили они по лесам. На большие дороги выходили редко, только за тем, чтобы добыть себе еду.
Он нам сказал, что тоже ходил менять вещи на продукты (в руках у него были две сумки), шел домой и заблудился. Зашел в барак, чтобы переждать ночь. Тут увидел нас и вышел. Мы ему сказали, чтобы шел за нами. До города оставалось километров пять. Мама толкает меня вперед, чтобы я шла первая, затем идет она и сзади этот мужчина. Мне стали понятны ее действия. Если он ударит, то пострадает она, а не я. Мужчина был довольно интеллигентного вида. Но все-таки нам было очень страшно: темно, пурга, кругом лес.
Он рассказал, что приехал в отпуск после ранения к семье, эвакуированной в наш город. Долго искал семью и наконец нашел. Семья страшно голодала. Поэтому решил поменять вещи на продукты.
Вскоре мы вышли на реку. Она довольно прямая в этом месте, поэтому вдалеке замаячили огоньки. Как обрадовались! Дошли до города, распростились с нашим новым знакомым. Он попросил адрес. На второй день приходит к нам домой и благодарит за то, что мы его выручили, буквально спасли от смерти. Еще неизвестно, чем бы закончилась его ночевка в бараке. Было очень холодно, он мог и замерзнуть. В благодарность за то, что мы для него сделали, он подарил два пакетика зубного порошка. По тем временам это было дефицитом, а для нас настоящим подарком.
Приезжим людям было тяжело приспособиться к нашим уральскому климату. В то время было много эвакуированных из Средней России, Украины. Они очень тяжело переносили морозы и те нечеловеческие условия жизни, в которые попали. За опоздание на работу, прогул, в особенности за самовольный уход с работы, судили по законам военного времени. На заводах много работало женщин, молодых девушек. Многие из них не выдерживали и сбегали с работы.
Однажды мы шли в деревню: часть расстояния по железной дороге, часть по лесу. Идем по железной дороге, подходят к нам две молодые девушки (по-видимому, сбежавшие с завода) и спрашивают, правильно ли они идут. Также спросили, где поблизости находится какая-нибудь деревня, чтобы раздобыть себе немного еды. На железную дорогу беженцы выходили для того, чтобы убедиться, правильно ли они идут. Шли в основном по проселочным дорогам. В ином случае их быстрее могли поймать, а это значит – судить. До сих пор стоят у меня в глазах эти две красивые девушки. Мне кажется, они были украинки.
На заводах работали трудармейцы. В трудовой армии служили в основном жители Средней Азии. Какой убогий у них был вид! По-видимому, все, что они имели из одежды, наматывали на себя. Надо было их понять – коренные южане – и вдруг попали в такие суровые условия! Иногда они ходили по домам и просили милостыню. По-русски говорили очень плохо. Придут, бывало, и просят:
– Шесть ног одна голова.
Мы, дети, смеялись:
– Шесть ног одна голова! (Злой был смех). От взрослых за это попадало.
Это означало: дайте чеснока одну головку. Жаль было их очень. Бедный наш народ, сколько он выстрадал!
Летом продолжали ходить за ягодами, но теперь уже их продавали, а на вырученные деньги покупали кусочек хлеба. Чтобы набрать ягод, нужно знать ягодные места. Приезжие не могли этого знать. Мы же знали, когда и куда пойти за той или иной ягодой, поэтому редко приходили пустые.
* * *
Наступил самый страшный для нашей семьи год – сорок третий. Я пошла учиться в шестой класс. Вдруг маму привозят с работы в тяжелом состоянии. На следующий день ее срочно отправляют в больницу в Свердловск. Заболевание – онкологическое. Мы с бабушкой остаемся вдвоем. Нина работает в деревне. Ни еды, ни топлива – нет ничего. Как назло, в этом году были сильные морозы. Каждый день, придя из школы, брала санки и шла в лес за дровами. Что же я могла привезти? Это были сучья, которые торчали из глубокого снега, полусгнившие пеньки и мелкий хворост. Такими дровами в лютые морозы дом не натопишь. Но все-таки можно было согреться.
Тогда многие люди возили дрова на себе. Транспорта никакого не было. За дровами ездили довольно далеко. Поблизости все было собрано. Идти одной за дровами мне не было страшно.
Однажды нарубила дров, сложила на санки и иду. День был ясный. Необыкновенно ярко светило солнце. Крепчал мороз. Снег блестел так, что порой резало глаза. Проезжаю маленькое болото. Там росли вековые кедры, ветки которых, с их темной хвоей, красиво выделялись на белом покрывале из снега. Было очень красиво! Остановилась, чтобы немного передохнуть. Села на свой возок и стала любоваться природой, о чем-то мечтать. Блаженное состояние охватило меня. Незаметно стала засыпать. Так это было приятно! Из леса, тоже с дровами, ехали наши соседи – муж с женой. Подъехали ко мне и увидели меня засыпающей. А ведь это означало, что я начала замерзать. Разбудили, растормошили меня и дальше поехали все вместе.
Приезжаем домой. Они рассказывают бабушке, что со мной произошло. Все были очень расстроены. Посоветовавшись, соседи решили всегда брать меня с собой, когда поедут за дровами. Своих детей у них не было, и с тех пор они меня очень полюбили. Теперь возить дрова стало легче. Со взрослыми могла отпилить чурку хороших дров, которых нам хватало на более длительное время, а это значит, что могла ездить за дровами уже не каждый день. Заготовка дров была полностью на мне. Бабушка уже стала совсем старенькая. Дома она помогала распилить дрова, а колоть их и делать все остальное приходилось мне. В это время мне было тринадцать лет.
Середина войны. Голод стал еще более жестоким. В школе на полдник нам давали булочку, пятьдесят граммов. Она была такая маленькая, румяная, такая аппетитная. Я ее не съедала, а приносила домой. Каждый раз сушила сухари и складывала их в небольшой горшочек. При этом говорила, что, как приедет мама из больницы, подарю ей эти сухари. Но как мне их хотелось съесть! Часто заглядывала в горшочек, чтобы посмотреть, сколько их уже накопилось. В школе же, получив булочку, бережно клала ее в портфель и выходила из класса, чтобы не видеть, как аппетитно съедали такие булочки другие дети. До сих пор поражаюсь сама себе – как у такой хрупкой, голодной девочки изо дня в день хватало сил не съесть булочку!

