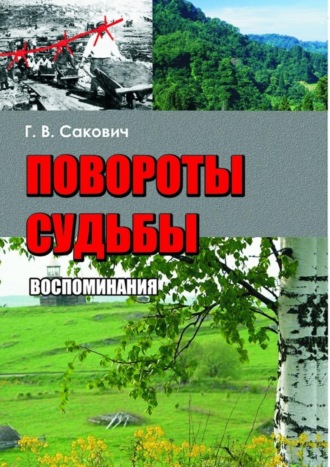
Полная версия
Повороты судьбы. Воспоминания
У нее была подруга юности, которая была замужем за юристом (должности его не помню). Жили они довольно прилично, зажиточно. Большой, светлый, красивый дом. Мама часто обращалась к юристу, чтобы он помог ей написать прошение об отце. Он выполнял ее просьбы. Но за это требовалась плата. Денег у нас не было. При отце у нас были какие-то небольшие деньги на сберкнижке, но ее у нас забрали при аресте отца. Так что мы остались без копейки. Существовали только на те деньги, которые имели от продажи вещей.
Мама и бабушка были большие рукодельницы. Они вязали очень красивые вещи. Мама выполняла филейно-гипюрную вышивку. У нас было много таких изделий. Вот мама и расплачивалась с юристом этими вещами. Когда я стала взрослой, как-то зашла к ним в дом и увидела везде в комнатах наши кружевные изделия. Это были покрывала на кроватях, скатерти, шторы на окнах, различные салфетки. Юрист к тому времени был еще жив, но уже стар. Какое отвратительное чувство возникло у меня при виде наших вещей! Живут же на свете такие крохоборы! Как же он мог брать у нас то последнее, что мы имели? Какая бесчеловечная душевная черствость! Бог им судья!
Однажды мама взяла меня с собой, когда поехала в очередной раз с передачей в тюрьму. Как сейчас вижу такую картину: окраина города (это место называется Красный Камень), заканчивается улица жилых домов, а дальше на пустыре – ряд бараков. Окна в них не застеклены, а забиты досками, между которыми оставлены щели для того, чтобы внутрь проникал свет. В таких бараках сидели заключенные. Вокруг них на каком-то расстоянии – оцепление из охранников. За ними – огромная толпа людей, в основном женщины. В этой толпе стояли в очереди и мы с мамой. Вдруг мама показывает мне рукой на один из бараков и говорит:
– Там твой папа.
Не знаю, откуда она это взяла? Может, это было и не так? Ни слова не говоря, вырываюсь из толпы и бегом, мимо охранников, к этому бараку. Один из них закричал и – за мной. Это был человек среднего возраста, коренастый, полноватый. Видимо, я так быстро бежала, что он меня не смог догнать. Прильнула к забитому досками окну, начала неистово стучать по нему, крича и плача:
– Папа, папа, это я!
Тут подбежал ко мне охранник. Схватил меня под мышки и потащил к толпе. Мама рвалась ко мне, но ее удерживали. Я вырывалась, била охранника ногами, старалась укусить. Всю эту картину наблюдали люди, стоявшие в очереди. Затем он бросил меня в толпу со словами:
– Не распускайте своих щенков!
Мама была буквально обезумевшая. Рыдая, схватила меня и стала осматривать. Никаких повреждений не было. Так ярко в памяти моей все это сохранилось до сих пор, что даже сейчас не могу писать эти строки без слез. Самое страшное было то, что эти люди были не чужеземцы, не враги, а свои!
Тяжкие испытания начались в моей жизни. Наступил праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Это была ее двадцатая годовщина. Мама снова поехала в тюрьму с передачей для отца. В этом городе жила семья друга отца, тоже железнодорожника. Наши семьи дружили, мы часто бывали у них в гостях, они приезжали к нам. Жили они в небольшом двухэтажном доме поблизости от вокзала. В семье трое детей, сын и две дочери. Младшая, Вера, была со мной одного возраста, мы с ней были подруги. Когда мама ездила с передачами отцу в тюрьму, то останавливалась на квартире у этой семьи.
Очередной приезд мамы. Она сразу с вокзала поехала в тюрьму. Но почему-то передачу отдать не смогла. Ей там кто-то сказал, что ее должны арестовать. Надо было представить ее состояние! Она пришла на квартиру и рассказала об этом супругам. Те встали и ушли в другую комнату, прихлопнув за собой дверь. Мама осталась одна и все поняла. Повернувшись, вышла из дома и побрела к тюрьме. Как позднее рассказывала, она не поехала домой, так как не смогла бы вынести, если б ее арестовали дома, отрывая от нас – детей. Приняв такое страшное решение, она побрела к тюрьме, где ее и арестовали. Надо было представить, какое мужество было у этой женщины! Итак, мы лишились и матери.
Когда я подросла, и мама рассказала мне об этих друзьях, я очень сурово осуждала их. Она же меня останавливала и разъясняла, что нельзя быть такой жестокой. Они не виноваты. Время было такое – с трудом соглашалась с ней. Я конечно понимала, если бы она не ушла, ее арестовали бы в их квартире. Еще неизвестно, чем все это закончилось. У них ведь трое детей. Сам арест был бы для детских душ страшной травмой, не говоря уже о последствиях.
Теперь мне все понятно, осознаю и не обвиняю их, но как-то непроизвольно дает о себе знать боль от той малой царапинки на душе, которая, по-видимому, никогда не исчезнет в моей жизни.
Позднее, когда мы уже жили в Нижнем Тагиле, после реабилитации, то общались с этой семьей. Мне приятно было наблюдать, как они, собравшись вместе с мамой, вспоминали прежнее время, когда с ними был еще и отец. Чем-то родным, добрым веяло от этих разговоров. Я не подавала вида, но на душе у меня все-таки скребли кошки.
Наблюдала, что при встрече со мной эти люди чувствовали себя виноватыми, старались сделать мне что-то приятное. Видя все это, анализируя события тех лет, и по просьбе мамы – прощаю их.
Итак, мы, две сироты, остались у бабушки совершенно без средств к существованию. Нам ничего не платили. До сих пор вспоминаю, как экономно мы питались. В основном это был картофель со своего огорода. Например, на завтрак нам давалось две столовые ложки поджаренного картофеля и стакан чая с кусочком хлеба и маленьким кусочком сахара. Есть много считалось неприличным. Милая бабушка! Как же она ухитрялась содержать нас! Все это было возможно благодаря ее прекрасным кулинарным способностям. Как и мама, бабушка хлопотала об отце, а теперь уже стала хлопотать и о маме. За все прошения приходилось платить. Как же она ухитрялась делать все это?
Были в нашем городке люди, жившие прилично. Имею в виду заведующего аптекой. Вот там бабушка временами и прислуживала. За это ей давали немного денег и продуктов. Все это, конечно, было мизером в сравнении с теми расходами, которые ей приходилось иметь, чтобы содержать нас.
Много сил уходило у нас с сестренкой на заготовку дров. Денег, чтобы купить их, не было, поэтому летом мы с ней таскали дрова из леса на себе, а зимой возили на санках. Бабушка тоже иногда ходила с нами в лес, тогда мы привозили много дров, которых хватало на более длительное время. Это были в основном сучья и пеньки, которые выкорчевывали. Напилить нормальных чурок нам не хватало сил. Мне ведь в это время было семь-восемь лет!
Бабушка была очень аккуратным человеком. Этого требовала и от нас. После того как обычно вымою полы, она шла проверять мою работу. Если в углах или щелях между половицами оставалась грязь, то она ее выскабливала ножом и заставляла переделать. Мытье полов – это не значит вымыть только в квартире, а это и мытье сеней, подмостков, вплоть до калитки. Полы были белые, некрашеные, их следовало вначале проскоблить щеткой, а потом уже мыть. Но если вымывала пол качественно, то мне за это полагалась награда – несколько копеек на мороженое.
Белье мы с сестрой не стирали. Этим занималась бабушка. Но ее постоянным требованием было – прополоскать его, независимо от времени года, и обязательно в реке. (Чтоб белье пахло рекой). Зимой мы с сестрой ставили корзины с бельем на санки и везли их к проруби. Своими детскими ручонками полоскали белье в ледяной воде. Температура воздуха в этом случае могла быть 20—30 градусов мороза. Бывало, руки покраснеют, уже не можешь выжимать белье, тогда бросали его неотжатым в корзины, везли домой и там его отжимали в помещении. Такая работа была в порядке вещей.
Много трудились и в огороде. Прополка, окучивание, полив овощей, уборка овощей и картофеля – все это мы выполняли в основном с сестрой. Бабушка была старенькая и помогать нам в полную силу не могла.
Летом мне давалось задание – наносить сорокаведерную бочку воды для полива огорода, из колодца через дом от соседей. Я не могла носить полные ведра, наливала их по половине и на коромысле несла домой. Конечно, наносить ее полную я не могла, но старалась принести как можно больше. Такой работой занималась два раза в неделю. Короче говоря, все мое раннее детство проходило в тяжелом труде.
Перед нашим домом была большая поляна, на которой собирались дети с нашего околотка и играли. Хотелось и мне попеть с ними, поплясать. Но бабушка обычно внушала:
– Что ты распелась, расплясалась? Родители твои сидят в тюрьме, а тебе весело!
Естественно, в следующий раз старалась этого не делать. Стояла в стороне от детей, с грустными глазами. Значит, я не такая, как все, и мне не все можно делать, как другим детям. Иногда наворачивались слезы. Уж очень горько было! На бабушку не обижаюсь. Ей, конечно, очень тяжело было видеть, как мы веселились. Это надо понять.
Интересный психологический момент: когда стала взрослой – и до сих пор, стоит мне только начать петь любую песню, как на глаза совершенно непроизвольно наворачиваются слезы. Проходит короткое время, и все снова становится на свои места. По-видимому, такой рефлекс стал у меня безусловным с моего детства.
Уже у взрослой это происходило у меня в торжественных случаях. Раньше часто на торжественных заседаниях исполнялся Гимн Советского Союза или Интернационал. При этом обычно в зале все вставали. До сих пор не могу выносить этой музыки! Встаю вместе со всеми, а по щекам совершенно непроизвольно текут слезы. Даже стыдно перед окружающими. Но ничего с собой поделать не могу. Что это такое?
* * *
Мама происходила из семьи коренных уральских заводских местных жителей. Родилась она на заводе Сысерть, недалеко от Екатеринбурга. Бабушка была очень красива, вышла замуж в шестнадцать лет, ее мужу было двадцать восемь. Они имели небольшой двухэтажный деревянный дом. Внизу этого дома была небольшая мастерская, как она говорила, по металлу. В этой мастерской делали различные изделия из железа. Вот на эти доходы и жила семья. Наемных работников не было.
Умер дед очень рано. Бабушка осталась одна с двумя детьми. Маме было два года, другой дочери, Лизе, – пять лет. Прожив немного без мужа, бабушка уезжает жить, как тогда говорили, «в люди», – в Екатеринбург, забрав с собой младшую дочь, а старшую оставив своей матери.
Устроилась работать к миллионеру, заводчику, англичанину Ятесу. Сначала она работала горничной, затем экономкой и кухаркой. Так и жила у них, воспитывала дочь. Мне интересно было слушать бабушкины рассказы об этой жизни. Детей у хозяев не было, поэтому они очень любили девочку. Прислуга должна была поддерживать устои семьи барина. Естественно, что ей прививались определенные манеры поведения. Вообще, у бабушки остались очень хорошие воспоминания об этих хозяевах. К каждому празднику дарили подарки, чаще всего одежду и обувь. Практически они полностью обеспечивали горничных. Поэтому прислуга была одета прилично.
Мама рассказывала, что когда бабушка ехала в гости к своей матери, где воспитывалась ее старшая дочь, то обычно на последние заработанные ею деньги нанимала кучера и ехала. Создавалось впечатление, что едет барыня. Так ее и звали на заводе Сысерть. На самом деле это была обыкновенная прислуга. Если сейчас смотрю на старые фотографии тех лет, то вижу свою бабушку высокой, стройной, симпатичной, с красивой прической.
Бабушка любила одеваться, и это осталась у нее на всю жизнь. Одежды у нас в семье всегда было мало, но сшита она была с большим вкусом, что создавало хорошее впечатление. Как сейчас помню, у нее было одно платье в клеточку и белая кофточка с юбкой. Иметь много одежды в семье считалось неприличным. Я была воспитана в таком же духе. Как раздражает сейчас меня сытое мещанство совершенно бескультурных людей! Они считают, что обилие, яркость одежды, богатство – главная цель жизни.
…Барин очень любил девочку. Ездил он обычно на серых лошадях в яблоках. В ее обязанности входило встречать хозяина, когда он возвращался с работы домой. Лошадям при этом она всегда давала специально приготовленные кусочки сахара. Сходя с повозки, хозяин благодарил ребенка. Иногда угощал ее конфетой, пряником или давал монетку. Вот в таких условиях проходило раннее детство моей матери.
Бабушка была очень хорошим кулинаром. Как это нам пригодилось в дальнейшей жизни! Во время войны, голода мы бы не выжили, если б не умелые руки нашей бабушки. Только благодаря ей мы остались живы. Она всегда могла что-то приготовить буквально из крох продуктов.
Когда маме исполнилось девять лет, ее отдали в приют, который находился при монастыре. Там она и училась в монастырской школе. Воспитывалась в приюте пять лет. Жизнь воспитанниц с утра до вечера была заполнена трудом. Кроме учебы их заставляли много работать. Занимались вышивкой. Выполняли филейно-гипюрную работу. Нужно было сначала связать филей, а затем расшивать его на пялах. Целыми днями воспитанницы сидели за пялами. Вот уж действительно труд являлся основным средством воспитания. Это был не физический труд, а такой, который развивал эстетический вкус ребенка. Эстетика делает человека гуманным. На мой взгляд, ребенок должен не просто трудиться, а делать это с желанием. Во всяком труде надо видеть его красоту.
До конца своей жизни моя мать занималась этой работой. Вначале я не понимала, что эти ее изделия являются предметами искусства. Однажды к нам в квартиру зашла женщина – страховой агент. Увидев, что у нас много таких изделий, спросила:
– Откуда у вас эта монастырская работа?
Очень жаль, что в какой-то период нашей жизни считалось «мещанством» оформление квартиры вязаными и вышитыми изделиями.
Образование маме удалось получить в объеме шести классов. По тем временам она считалась довольно грамотным человеком. Воспитание получила хорошее. Жизнь у богатых людей, приютское воспитание сформировали личность моей матери как культурной женщины. Общаясь с хозяевами, она впитывала в себя правильные манеры поведения. Умела всегда просто, скромно и красиво, со вкусом одеваться. В каких бы условиях мы ни жили – всегда отличалась интеллигентностью. Она умела общаться с любым человеком. Всегда оставляла о себе хорошее впечатление. И нам, детям, старалась все это привить. Но увы! Мы попали в другую эпоху, в другие условия жизни…
Я до сих пор в душе часто обращаюсь к «маминому совету». В каких-то особых трудных ситуациях спрашиваю себя: «А как бы в этом случае поступила мама?» Представлю себе ее ответ, так и поступаю. Она была для нас самым авторитетным человеком, воспитывала нас умело. Никогда не кричала, о побоях и речи быть не могло. Самым большим наказанием для нас были ее слезы. Жизненные ситуации, в которых мы оказались, были ужасные, а порой просто страшные.
…Бабушка вышла замуж второй раз, когда маме исполнилось четырнадцать лет. А наш дед Константин женился в первый раз. Перед самым началом революции они переехали из Екатеринбурга в маленький городок Новая Ляля.
В то время там уже был построен крупный целлюлозно-бумажный комбинат. Пуск его происходил в 1914 году. Комбинат включал в себя целлюлозный завод, несколько фабрик: бумажную, картонную, пакетную – и два крупных лесозавода. Городок выглядел довольно приятно. На большом массиве, островком среди дремучего леса, вдоль реки раскинулись корпуса комбината.
Сюда стали съезжаться специалисты. Местных жителей почти не было, большинство людей были приезжими. Постепенно стали приезжать крестьяне из окрестных деревень, но таких было немного. Вдоль двух улиц – Главной и Почтовой – для специалистов были построены бревенчатые двух- и четырехквартирные дома. В центре на небольшой площади стояла деревянная церковь. Позднее эти улицы обросли частными домами. Вся жизнь людей городка была связана с комбинатом, заготовкой леса для него. Лес сплавляли по реке врассыпную (молевый сплав). На реке в летнее время работало очень много сплавщиков.
Мы часто играли на реке. Леса сплавлялось очень много. Он шел по реке сплошным потоком. Бревна плыли очень плотно друг к другу. Мы – дети – устраивали соревнования: кто быстрее перебежит по плывущим бревнам на противоположный берег реки. При этом необходимо было рассчитать свои действия, ловкость должна была быть большая. Иногда запрыгнешь на бревно, а оно начинает крутиться. Тут уж держись! Что-то не рассчитаешь – и окажешься в воде. Следовало быстро прыгать с бревна на бревно, не останавливаясь, балансируя, приближаться к берегу. Я очень любила эту игру. Довольно часто была победителем в таких соревнованиях. Может быть, потому, что была очень худенькая, легкая, и бревна подо мной мало крутились.
Несмотря на то что городок был небольшой, образ жизни людей в нем был довольно типичен для промышленных заводских условий Урала. Вспоминаю, как в детстве гудел заводской гудок, оповещающий о том, что следовало просыпаться и собираться на работу, потом второй гудок – выходить из дома, и третий гудок – приступать к работе. Вот такие были часы! В памяти сохранилась картина, как сплошные потоки людей шли со всего городка к проходной комбината.
Мой дед стал работать начальником почты. В городке была небольшая гостиница, где работала бабушка. Маме, как она говорила, «прикупили» года (добавили), и она стала работать в конторе комбината, как тогда называли – конторщицей. Затем окончила курсы телеграфистов и стала работать на телеграфе. Вот такой семьей среднего сословия и достатка и были мои родные.
Городок был небольшой, многие знали друг друга. В нем была какая-то необыкновенная дружеская обстановка. У бабушки и дедушки были друзья – довольно приятные люди. Среди них было несколько специалистов, которые работали на комбинате, это были действительно русские интеллигенты. Кое-кого из них я еще помню. Они приходили к нам. О многих имею представление по разговорам в семье и фотографиям. Даже по внешнему виду можно было судить об их манерах, одежде, умении достойно держаться. Часто слышала их разговоры, не помню, чтобы они говорили о деньгах, о богатстве, наживе, хотя все вели довольно скромный образ жизни. И нам, детям, прививалась привычка – в компании людей неприлично говорить о деньгах и болезнях.
* * *
По семейным рассказам представляю себе нашего деда – Константина. Он был родом из Вятки. Высокий, статный, с большой бородой. Бабушка до конца своих дней очень тепло вспоминала о нем. Нам, детям, тоже прививалась любовь к деду, хотя он был нам не родным. Он тоже очень любил бабушку, ее детей, а позднее и нас, внуков. До сих пор думаю о нем, как об очень хорошем человеке. Бабушка рассказывала: получит получку, проиграет почти все деньги в карты, но обязательно оставит немного себе. Идет домой – купит конфет, сладостей. Выложит все это на стол и виновато говорит:
– Прости, Еля, я немного проигрался.
Проигравшись, становится особенно нежным, ласковым, старается всеми способами загладить свою вину. Никаких скандалов при этом не было. Бабушка в ответ только плакала и просила его не делать больше этого. Но все было бесполезно. Что бы бабушка ни предпринимала, отучить его от игры в карты не могла. Несмотря на это, жили они очень дружно. Других вредных привычек за дедом не наблюдалось.
У деда был круг своих постоянных друзей. И трудности, и радости они искренне переживали вместе. Тут уж не было ни хитрости, ни обмана, ни недомолвок. Все отношения были искренни и доброжелательны. Это была не кратковременная дружба, а дружба на всю жизнь.
В связи с этим вспоминаю своих друзей. У меня в жизни было две подруги, с которыми я дружила несколько десятков лет, где бы мы ни находились. Это была дружба крепкая, искренняя. А сколько «друзей-предателей» мне пришлось встретить в жизни! Как будто бы научилась отличать черное от белого, но чувство порядочности, жалости к людям мешало мне отвечать грубостью.
После почты дед перешел работать кассиром на комбинат. Тут кто-то решил, что у деда есть золото. В 1933 году за это его арестовали. Требовали отдать золото. Продержали некоторое время в тюрьме. Часто допрашивали, по-видимому, били, и он серьезно заболел. (Ему в то время было 54 года). Когда дед стал совершенно безнадежен, его выпустили из тюрьмы. На носилках перенесли в больницу. Через несколько дней он умер. Вот так погиб мой дед…
Наша семья в это время жила в другом городе на Урале, в Верхней Салде. Мне было три года. Конечно, я ничего не помню, но по рассказам мамы знаю: как только мы узнали, что дед болен, мама взяла меня и мы поехали к нему. Был голод. Мы привезли с собой топленого молока. Пришли к деду в больницу. Он уже умирал, есть ничего не мог, все внутри организма было отбито, но шутил и просил маму, чтобы я – ребенок – его покормила. Он очень любил меня. Взяла ложку, наполненную молоком, и поднесла к его губам. Он проглотил. Так я скормила ему немного молока. Это была последняя его еда. Через день он умер.
Чувство любви и уважения к старшим нам прививалось с детства. По религиозным дням памяти умерших мы обязательно ходили к деду на могилку. Приносили венки, цветы. Если же ходили в лес за ягодами за кладбище, то обязательно собирали букетик из ягод земляники, черники и других ягод. Заходили на могилку к деду и «угощали» его. А если была возможность набрать букет луговых цветов, то также не забывали принести их ему на могилку. Для нас кладбище было святым местом.
В дальнейшем, когда я там уже не жила, а приезжала в гости, то обычаем семьи было на второй день обязательно идти на кладбище, проведать могилки своих родственников. На могилку обязательно сыпали какую-нибудь крупу для птичек. Такой русский обычай всегда выполнялся. Нам всю жизнь не разрешалось ходить на кладбище в так называемые родительские дни. Какой абсурд!
В связи с этим вспоминаю несколько неприятных историй. До чего же мы были не свободны! В один из родительских дней пришла на кладбище семья моей учительницы. К ним в гости приехала дочка с мужем. Муж был капитаном корабля, пришел в форме. Видели бы вы, как его впоследствии за это осуждали! Почему же он пришел навестить родные могилы именно в этот день?
Довольно неприятный случай в этом отношении был и со мной. Мне чуть не стоило это увольнения с работы. Я работала в то время в райисполкоме в отделе сельского хозяйства. Нина, сестра, в это время жила на Украине. Она приехала домой в гости. Была родительская суббота. Наши родственники взяли венки, цветы и пошли на кладбище. Идти надо было через весь городок. Автобусов тогда не было. На второй день вызывает меня к себе в кабинет председатель райисполкома. (А в те времена суббота была рабочим днем). Он спрашивает:
– Почему в этот день ты ходила на кладбище?
– Я была на работе.
Он мне не верит и говорит:
– Тебя видели, ты шла туда с венками и цветами.
Мне не верили. Встал вопрос: могу ли я работать в райисполкоме?
Вдруг меня осенила мысль, и я спросила:
– Какие волосы, короткие или длинные, были у этой девушки?
Выяснили, что у этой девушки были косы. Это меня и спасло. Это была Нина, моя сестра, которая приехала в гости. Мы с ней были очень похожи, но у нее были косы, а у меня – короткая стрижка. Вот до такого абсурда доходили требования «нового образа жизни».
В дальнейшем по роду своей работы занималась воспитанием детей и молодежи. Сколько грубости, жестокости к детям мне приходилось видеть! Отсюда и результат. Совершенно уверена, что плохие качества детей являются плодом воспитания родителей. Часто встречаешь, что дети совершенно не уважают родителей. Они не знают своей родословной. У них не воспитано чувство уважения к старшим, памяти к умершим. В этом случае так и хочется спросить:
– А как вы сами относитесь или относились к родителям?
Никак. Порой о них совершенно забыли. По несколько лет, а то и совсем не ходят на могилки родных, не вспоминают родителей в дни смерти и памяти. А их дети – тем более. Чего можно ждать от такого поколения? Вот и возникло поколение, не интересующееся своим происхождением, родством. Отсюда жестокость и мещанство молодых людей.
* * *
О 1917 годе и Октябрьской революции в семье как-то разговоров особых не было. Это эпохальное событие в нашем городке прошло довольно спокойно. А вот период интервенции был очень памятен. Наша местность несколько раз переходила из рук в руки, то к белым, то к красным. Каждый раз это сопровождалось большими неприятностями. Мама в это время была уже взрослой девушкой, ей было очень трудно. Бабушка ее часто прятала, на улицу она выходила редко. Были такие случаи: пришли красные, заходят в дома и требуют, чтобы женщины, в особенности молодые, надевали красные косынки, брали с собой лопаты и выходили на земляные работы. Если замечали, что кто-то из них не умеет обращаться с лопатой, то следовал окрик:
– Что, интеллигенция, работать не умеете?!
Быть в то время молодой девушкой было просто опасно.
* * *
В лесах Западной Белоруссии находилась маленькая деревушка Огородище. Она относилась к Гродненской области. Вокруг нее – сплошные леса, среди которых встречались небольшие поляны, участки болот. Как гласит предание, в далекие времена царь дал надел земли двум братьям, от которых и произошла эта деревушка.

