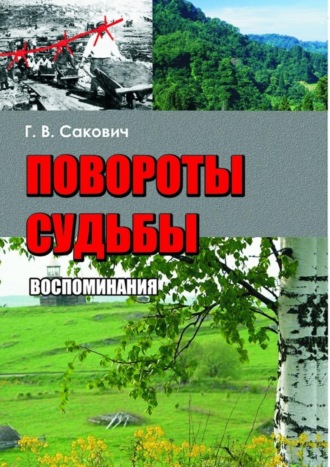
Полная версия
Повороты судьбы. Воспоминания
Природа – сказочно красива! Близ деревни протекала небольшая речка. Но местами она была довольно глубокая. Кое-где ее берега густо поросли камышом. В реке водилось много рыбы. Леса в основном были сосновые. В них росли грибы, ягоды, в особенности черника. Много было разного зверья.
Жители деревни жили в основном за счет леса: охотились, собирали грибы, ягоды. Кое-где корчевали лес под пашню. Каждая семья имела небольшие наделы земли. Земля в этих краях была малоплодородная. Чтобы получить урожай, необходимо было ее очень хорошо удобрить. Сеяли рожь, ячмень, сажали картофель, который в этих краях давал очень хороший урожай. Жители держали скот: лошадей, коров, свиней – и разную птицу. Это были очень трудолюбивые люди. Целыми днями они трудились также в лесу: заготавливали бревна для постройки домов, дрова для отопления. Семья отца имела дом, лошадь, двух коров, две с половиной десятины земли. Вот в такой семье и родился мой отец.
Мой дед был высокий, крепкого сложения мужчина. Работал лесником. Прадед был тоже лесник. Как сейчас мне стало известно, четыре поколения этой семьи были лесниками. Все мужчины семьи занимались охотой. Это передавалось из поколения в поколение.
Исторически местечко, где располагалась деревня, находилось то в Польше, то передавалось Белоруссии. По национальности семья отца была белорусской. Но в тех краях жило много поляков. Когда деревня была под Польшей, то дети ходили в школу и учились на польском языке. Поэтому в семье знали польский и белорусский языки. Семья была простая, но какая-то внутренняя врожденная культура чувствовалась во всем. Где-то, видимо, были довольно крепкие корни. Мой дед сам хорошо знал русский язык, учил ему детей. Учил не только разговорному языку, но и правилам грамматики. Таким образом, дети знали три языка – польский, русский, белорусский. Дед всегда стремился дать детям образование.
Вот так, на природе, в труде, прошло детство моего отца. А как он любил лес! Лес – это был его дом, который успокоит, напоит, накормит. Как он любил наблюдать лес! Как он его понимал! Как он бережно относился к лесу! Такую же любовь прививал и нам. И все это пригодилось в дальнейшем.
Отец очень дружил со своим старшим братом – Сильвестром. Это были не только братья, но и большие друзья. Они вместе ходили в школу, затем продолжали образование в соседнем селе. Домой приезжали по воскресеньям.
Дед мой умер рано. Ему было всего сорок лет. Бабушка осталась одна с пятью детьми: старшему, Сильвестру, было тринадцать лет, моему отцу, Володе, – одиннадцать, Степану – девять, сестре Жене – четыре года, и Александру еще не было и двух лет. Она продолжала учить детей дальше, хотя ей было очень трудно.
Дети платили ей за все большой благодарностью. Приезжая на воскресенье домой, они работали, как и их отец. В семье это были старшие мужчины.
Окончив школу, отец с братом вернулись домой. Какое-то время работали в лесу. Заготавливали лес для строительства нового дома. Начали его строить и помогали бабушке вести хозяйство. Но тяга к образованию всегда была на первом месте в этой семье.
В 1912 году отец окончил курсы телеграфистов в Вильно и стал работать в Гродно телеграфистом. Некоторое время работал по этой специальности на станции Ораны Северо-Западной железной дороги.
Наступил 1914 год. Обоих братьев забрали на войну. Больше они не виделись и ничего не знали друг о друге.
Только в настоящее время я узнала, что Сильвестр был два раза ранен. Поправился, вернулся домой и стал работать лесником. Это был очень умный и беспредельно трудолюбивый человек.
Мой отец с 1914 года служил в старой армии, в железнодорожном батальоне, работал телеграфистом. Он всегда имел много друзей. Это был очень коммуникабельный человек. И вот шестеро друзей, демобилизовавшись из армии, явились в управление Северо-Западной железной дороги в городе Петрограде, чтобы найти себе работу. Это была крепкая дружба молодых людей, несмотря на различные национальности: Иванов Федор – белорус, Котещенко Павел – украинец, Симонович Вячеслав – поляк, Ходорович Михаил – русский, Терентьев Иван – русский. Друзьям было предложено поехать на железные дороги Урала и Сибири.
Получилось так, что Иванов Федор и Симонович Вячеслав остались работать в Петрограде, а мой отец и остальные трое друзей поехали работать на Урал, на Пермскую железную дорогу. Там отца назначили на станцию Тавда, Терентьева Ивана на станцию Надеждинск, Котещенко Павла – на станцию Туринск. Друзья долго поддерживали связь между собой. В дальнейшем дружили семьями. Ездили друг к другу в гости. Мама рассказывала, что в 1926 году наша семья ездила в гости в Ленинград. В 1928 году Иванов Федор с женой приезжали к нам. Жена Федора была больна туберкулезом (по тем временам это была довольно распространенная болезнь). С какой любовью отец и мама делали все, чтобы она хоть немного поправилась. Соблюдался режим питания, с нею часто гуляли по сосновому лесу, слушали шум сосен, вдыхали запахи смолы и земли. Мама рассказывала, что она посвежела. Поездка к нам принесла ей большую пользу.
* * *
Отец и мама познакомились, работая на телеграфе. Он приехал в наш городок, прожил в нем всего несколько дней, и они решили пожениться. Венчались в церкви. Мне, уже взрослой, местные старожилы рассказывали о том, что это венчание было необыкновенно чудесным. Это была очень красивая пара. Отец – статный, высокий молодой человек. Под стать ему и мама – высокая, стройная, с красивой фигурой девушка.
После свадьбы отец перевелся помощником начальника станции к нам в городок. Они получили небольшую квартиру около железнодорожного вокзала. Это был 1921 год. В стране разруха, голод. Жизнь они начинают в страшной бедности. Отец во все времена года ходил в своей неизменной шинели. Он сколотил из досок топчан, который заменял им кровать.
Чтобы питаться и не умереть с голода, решили приобрести корову. Для покупки коровы все, что имело какую-то ценность, продали. Наскребли денег, сколько было у себя и у бабушки, наполовину в долг купили нашу любимицу Жданку. Она кормила нас и бабушкину семью. Сколько раз благодаря ей мы спасались от голода! Вскоре родилась моя сестренка Нина, позднее родилась и я. Родители очень хотели, чтобы вместо меня родился мальчик, но на свет появилась девочка. Волосы у меня были черные, поэтому и дали имя – Галка. В семье я была любимицей отца, очень ласковая, в отличие от Нины, которая была капризная, настойчивая, требовательная.
Отец очень любил нас. Большинство капризов Нины всегда выполнялось. Я же вечно что-нибудь придумывала. Мне всегда хотелось что-то «исследовать». Могла лечь на землю и рассматривать камушки на ней, наблюдать за движением какого-нибудь насекомого. Около муравейников могла сидеть часами и наблюдать за их жизнью. Иногда залезала в неглубокий водоем и рассматривала насекомых, которые там живут, ловила пиявок, наблюдала за жуками-плавунцами, лягушками, головастиками. И вот удивительно – никогда у меня не было чувства брезгливости к любому насекомому или животному.
* * *
Наша бабушка жила на окраине городка в собственном доме. Построил его наш дед. Домик был небольшой, но теплый и уютный. Из его окон открывался чудесный вид на расположенный поблизости лес. Во все времена года мы любовались им, выделяя «природные картины». Это приносило нам – детям – огромное удовольствие.
Мы очень скучали по отцу и матери, но, что интересно, как только заходили в лес, с меня сходила скованность, которая всегда как будто сидела во мне, исчезали горестные чувства, не покидавшие меня больше нигде. Передо мной открывался чудесный мир природы. Лес, кустарники и травы как будто успокаивали, ласкали. Это был совершенно другой мир. Я любила слушать песни леса, разговор трав с ветром. А если подует ветерок, выглянет солнышко, зашелестят листья на осинах и березах, то кажется, что они как будто говорят: «Не горюй, мы с тобой!» Лес просто утешал, заменял мне отца и мать; когда свежий ветерок проходил по моему лицу, то создавалось ощущение материнской руки. Легче, радостнее становилось на душе. Милый, родной мой друг, лес! Как я всегда любила тебя! Если захожу в лес, то словно попадаю в другой мир, мир моих друзей. Мною овладевает такое чувство, что встречаюсь с чем-то родным. Лес – это моя стихия, мой дом.
Местность в наших краях холмисто-увалистая. Представляет собой как бы застывшие волны разбушевавшегося моря, которые покрыты лесами.
В наших краях много верховых сфагновых и переходных торфяных болот. Болота располагаются открытыми участками или со сфагновыми сосняками. Они занимают довольно большие площади. Порой кажется, что тянутся бесконечно. Чем-то неприветливым веет от их безмолвия. Но все же есть что-то таинственное, притягательное, еще не изведанное в этой картине. Иногда среди болот островками встречаются крупные сосны в виде маленького соснового бора. На фоне этих сфагновых болот они выглядят особо красиво. В таких островных сосновых борах сплошным ковром растет крупная, спелая, большими кистями брусника. Собирали мы ее столько, сколько могли унести.
На кочках болота растут крупные, сочные, ярко-красные ягоды клюквы. Иногда ее бывает так много, что кажется – негде ступить, чтобы не раздавить. Как будто кто-то ее специально насыпал, особенно на кочки. Брусника и клюква созревают в сентябре. Во второй половине лета на болотах созревает морошка. Ягоды желтые, золотистые, необыкновенно нежного вкуса. Особенно много ее встречается около болотистых «окон». Это среди мхов небольшие, глубокие участки воды. Провалиться в «окно» очень опасно. Мало того, что они глубокие, так на глубине заполнены илом, поэтому если оступишься в них, то выбраться обратно очень трудно. В них человека может просто засосать.
Лес нас питал с ранней весны и до осени. Весной, пока еще не распустились почки на березе, собирали березовый сок. Позднее, когда на елях появлялись красноватые завязи шишек (называли их крупянки), употребляли их в пищу.
Ели также крупянки сосны и ее молодые побеги – пестики. Чего только не находили в лесу съедобного! Отрастала первая весенняя травка на лугах – шли за щавелем.
Наш уральский лес очень богатый. Первой созревающей ягодой была жимолость. Какая была это радость – идти за ней! Этим самым открывался сезон сбора ягод. Жимолость – это невысокий кустарник, на котором попарно растут синие, с восковым налетом продолговатые ягоды. На вкус они горько-кислые, с красивой сине-фиолетовой мякотью.
Вслед за жимолостью созревала земляника. Обычно собирали ее ведрами. Считалось бездельем пойти в лес и набрать мало ягод. Нужно было всегда принести много. Сбор ягод – это теперь было не развлечение, а своего рода промысел. Жимолость и землянику сушили и заготавливали впрок. Сахара, чтобы сварить варенье, не было.
Одновременно с созреванием земляники появлялись первые грибы. Специально за грибами ходили редко, только в случае, если надо было набрать для засолки. А так пойдешь, бывало, за ягодами, несешь и грибы. Их в наших краях очень много. Грибы сушили и заготавливали мешками.
В лесах берега рек и ручьев поросли ивами, черемухой, калиной. На взгорках было много малины. Ближе к воде росла смородина. Вот такое разнообразие ягод дарил нам лес! Особенно вспоминаю необыкновенную вкусную ягоду с ананасовым ароматом – княженику. В наших краях ее встречается мало. По внешнему виду ягода похожа на малину. Мы очень радовались, когда находили несколько ее маленьких кустиков. Малина поспевала в августе-сентябре. В сентябре же поспевал и шиповник, которого росло обычно очень много. За малиной ходили в так называемые гари. Это площади, оставшиеся после лесных пожаров. Огромные массивы, на которых очень много обгорелых бревен, располагающихся хаотично. Вот в таких местах были заросли шиповника и малины. Собираешь малину и ходишь не по земле, а по бревнам. Насобираем малины, а потом ведро-полтора – шиповника, и все это несем на себе пешком. Расстояния до ягодных мест были очень большие – десять-двенадцать километров. Шли пешком в ту и другую стороны, да еще при сборе ягод находишься, но все это считалось нормальным. Никто не считал это трудностью. Обычное дело.
Была у меня подруга моих же лет, такая же любительница леса. Сходим с ней за ягодами, устанем. Кажется, на другой день не сможем снова пойти. Ан нет! Встаю утром, болит все тело и ноги, а так хочется снова в лес! Иду. Стучусь к подруге в окно, и снова идем за ягодами. Ходили по два-три дня подряд и потом только отдыхали. Никаких разговоров об усталости, трудностях не было.
Дорогая бабушка, как она ухитрялась готовить нам еду! Шиповника насушивали мешками. Затем везли на мельницу, мололи, получалась мука. Зимой добавляли сухие распаренные ягоды или бруснику, все это перемешивали, и получалась масса в виде повидла, но несладкого. Из него пекли наши уральские шанежки (типа ватрушек). Если не было муки, то нарезали тонкие кусочки хлеба, на них намазывали это «повидло», ставили в русскую печь, и получались шанежки из хлеба. Вот до чего додумывалась наша бабушка. Теперь все это обдумываю и прихожу к выводу, что, несмотря на недостаток основных продуктов питания, мы очень много употребляли витаминов и других ценных веществ, которые давал нам лес. А ведь это было еще до войны!
Какую пищу мы могли с собой взять в лес? В основном это был хлеб, ели его с ягодами, луком, вареной картошкой. Изредка могли взять с собой немного молока. А если удавалось взять огурец, то это было для нас большим лакомством. Иногда нам давали небольшой кусочек сахара. Очень любила сидеть у речки, обмакивать кусочек сахара в воду и есть его с хлебом.
За черемухой обычно ходили со взрослыми к большой реке, с ночевкой. Вспоминаю, как ходили к устью нашей реки, берега которой сплошь были покрыты кустами черемухи. За ее зарослями виднелся большой сосновый бор. До сих пор в моих глазах стоит эта чудесная картина. Все такое родное, любимое! Слепящий блеск реки на перекате, стога на прибрежных лугах, таинственная глубина соснового бора.
А утренние зори! А закат! Августовские туманы, покрывающие лощины и старицы! Спали обычно в стогу сена или у костра. Ночью в августе взойдет какая-то особая луна, сделает все кругом призрачным, так что иногда становится жутковато. Сверкает роса на траве, шумит ветер-вершинник.
Сушеной черемухи заготавливали много. Большое удовольствие мне доставляло лазанье за ягодами по ее высоким кустам. Сушеную черемуху мололи и пекли знаменитые пирожки с черемухой.
А хождение за кедровыми орехами! Чуть только поспевают кедровые шишки, мы уже в кедровнике. Лазим по деревьям и добываем их. Вообще, я очень хорошо лазила по деревьям. Сейчас просто удивляюсь – как это ни разу не упала с дерева? Наверное, все это потому, что была очень худенькая, легкая, как я уже говорила, и сучья подо мной не ломались. Кроме того, существовала особая «наука» – умение правильно залезть на дерево, умело закрепиться на нем, а это значит – подобрать такой сук (обычно более вертикальный), который не обломится. Позднее, когда кедровые шишки сами начинали падать с деревьев, ходили в кедровники шишкарить. В этом случае – обязательно со взрослыми. Делалось это так: вырубали «колот» (небольшое бревно), подставляли его вертикально к стволу дерева, отводили в сторону и с силой ударяли по стволу. Происходило сильное содрогание дерева, и кедровые шишки дождем падали вниз. Их собирали, чистили, домой несли уже орехи. Много заготовить орехов мы не могли, так как это была довольно трудная работа. За целый день находишься по кедровнику, натаскаешься колота, домой идешь страшно усталый. Конечно, такая работа не для детей.
Какие красивые кедровые леса! Огромные развесистые деревья тянутся к небу, образуя сплошной полог из лохматых сучьев. Леса темнохвойные. Солнце едва пробивается сквозь них на землю. Когда собирают орехи, приходится много трудиться белкам, бурундукам, кедровкам. Все они тоже занимаются сбором орехов. Весь лес наполняется шумом кедровок. Мы всегда в этом случае говорили: «Им жаль, что мы забираем у них орехи». Интересно было наблюдать за бурундуками. Этот зверек очень любопытный. Он мог близко подойти к человеку – встанет на задние лапки и рассматривает его.
Были свои неписаные законы тайги. Если нас, детей, брали в лес взрослые, не разрешалось ныть от усталости, чертыхаться в лесу. Упоминать лешего, дьявола и другую нечисть. Считалось, что в этом случае можно заблудиться. Если кто нарушал это условие, то в следующий раз его в лес больше не брали. Обычно по лесу водил кто-то один из компании. Подсказывать этому человеку, куда лучше пойти, чтоб набрать больше ягод, тоже запрещалось. За все отвечал один человек, обычно самый опытный.
Взрослые далеко не каждого из детей брали с собой в лес. Меня же брать любили. Видимо, потому, что никогда не нарушала таежных правил, была очень трудолюбива, не лентяйничала, легко выводила компанию из леса. Я не понимала ориентира по солнцу, не знала других таежных примет, но очень хорошо запоминала путь, по которому мы шли. По нему и выводила. Если сомневались в том, правильно ли мы идем, обычно находили высокое дерево, один из нас залезал на него и рассматривал местность вокруг. Сверху можно было увидеть просеку, реку или просто тропу, ориентируясь по которым, можно было выйти из леса.
Когда шла в лес, то это значило, что шла на работу. Такая работа в тайге считалась обычным делом. Никто не давал скидки на то, что ты ребенок. Как это нам помогло во время войны! Страшный голод! Но лес, милый лес, нас кормил. Мне приходилось переживать все новые и новые горести. Я много страдала, подобно деревьям на Севере. Они растут и растут, несмотря на страшные невзгоды, и даже дают плоды. Детство и юность у меня украли. Дело доходило до того, что ели липовые лепешки. Для этого набирали молодые веточки липы, очищали их от коры, основательно сушили в русской печи, затем мололи. Получалась «мука», из которой пекли лепешки. К счастью, делали мы это не часто.
* * *
Итак, отец и мать – в тюрьме. Бабушка всячески ухитрялась, чтобы содержать нас. От отца мы получили за все время ареста два-три письма. От мамы писем не было совсем. Питались в это время очень скудно (об этом я часто пишу на страницах книги – уж очень тяжело, когда все время хочется есть…) У меня сохранилась одна фотография тех лет. Если посмотришь на этого ребенка – кости да кожа, среди которых выпирали суставы. Худенькая девочка с коротко остриженными волосами, руки, ноги – одни косточки. Грустный взгляд больших глаз. Даже страшно становится. Порой сейчас говорю, что если понадобится фотография ребенка из немецкого концлагеря, можно взять ту мою фотографию. Вот так я выглядела, хотя войны еще не было. Таким было мое «счастливое детство»! Мы оказались в ужасной бедности. За что?
Прожили без родителей мы почти год. Не помню, как и почему, но бабушка стала часто говорить о том, что нас заберут в детский дом. Она покупает нам с сестрой два маленьких чемоданчика, и мы постепенно собираем в них наши вещички. У нас был большой страх перед детским домом. Мама очень боялась, чтобы в детский дом нас не отправили. Таких детей, как мы, – детей «врагов народа» – принудительно забирали в детские дома, расположенные за пределами мест проживания, в том числе находящиеся под надзором органов НКВД СССР. Иногда дети терялись. Были случаи, когда маленьким детям специально меняли фамилии. Потом найти такого ребенка было очень трудно, а порой просто невозможно. Мама боялась потерять нас. Таких детей специально разлучали с братьями и сестрами1.
Дети таких детских домов были из разных территорий Советского Союза: Прибалтики, Поволжья, Украины, Москвы, Ленинграда, Заполярья…
Грудных и маленьких детей забирали у матерей упитанные дяди в форме НКВД. Можно представить, какой был крик и плач! Это объясняли тем, что яблоко от яблони недалеко падает. Ребенок «неправильно» воспитывался в семье «врага народа». Его следует перевоспитать. Жизнь детей репрессированных превратилась череду бед и унижений.
В настоящее время стало известно, что убили двух сыновей Каменева, сыновей Троцкого, исчезли в неизвестном направлении два сына Пятакова. Хотя в обществе в те времена говорилось, что сын за отца не отвечает. «Отец народов» многих детей оставил сиротами. Только до сих пор неизвестно – за что?
* * *
Первого сентября я пошла учиться в школу в первый класс. Мне очень хотелось учиться. Было сказано, что 9 сентября нас повезут в детский дом. Под этим страхом проходили мои первые дни учебы в школе. И вот третьего сентября возвращаюсь из школы домой. День был светлый, осенний. Бегу по деревянным мосткам, которые вели от калитки к крыльцу нашего дома. И вдруг вижу сидящую у окна кухни… маму. Не помня себя от радости, вскочила на ступеньки и с разбега бросилась к ней на колени. Осыпая ее поцелуями, плача, кричала, что сейчас в детский дом не поеду. Собралась вся семья. Слезам радости не было конца. Дорогая моя мамочка была худая, седая. Но по-прежнему для меня красивая, милая, родная! Вот так судьба подбросила этой хрупкой девочке два счастья – она стала ученицей, и возвратилась из заключения ее мать.
Сейчас из следственного дела матери узнала, что она часто подвергалась допросам и после них попадала в больницу. В тюремной больнице палата была с решеткой, в ней четыре кровати, иногда на каждой лежало по два человека. Больные могли лежать и на полу. Спасла от смерти мою мать только молодость.
Мама в очередной раз попала в больницу, там ее и застало распоряжение об освобождении. Тюремному начальству было дано указание – освободить, а если она не в силах ехать домой, то перевести в обычную больницу. Такое распоряжение было дано в начале августа. Но это указание выполнено не было, ехать она не могла. Так и лежала в тюремной больнице до тех пор, пока не поправилась и смогла поехать домой. Все это время она даже не знала, что ее освободили, поэтому лишний месяц была в заключении. А как могла за это время распорядиться нами судьба?! Видимо, Сам Бог помог ей поправиться и тем самым спасти нас от детского дома.
Мама вернулась домой очень слабенькой. Ей в это время было тридцать пять лет. До сих пор помню ее милые, выразительные глаза. Как любила прижаться к ней, почувствовать ее тепло! Прикосновение к матери меня отогревало, сбрасывало ту скованность, которую всегда чувствовала в своем теле.
Бабушка в этом отношении была довольно суровым человеком. Мы понимали, что она нас любила, заботилась о нас, но ласки от нее мы не видели. Я не обижаюсь на нее.
Пережить такое – дочь и зять в тюрьме, с клеймом «враги народа»! Ей приходилось содержать нас, двух сирот, совершенно без всяких средств к существованию, каждый день думать, чем нас накормить. По-видимому, на ласку, тонкие чувства по отношению к нам не оставалось никаких душевных сил. Мама же была совершенно другим человеком.
Учиться в школе мне очень нравилось. Я была старательная ученица, училась на «отлично». С большим уважением вспоминаю свою первую учительницу, Богданову Веру Николаевну. Она была прекрасным, глубоко культурным человеком. В свое время окончила гимназию, и ее гимназическое образование проявлялось во всем. Это был эталон русской женщины! В нашем маленьком городке она пользовалась большим авторитетом и уважением. Это был чуткий, добрый к детям человек. Под стать ей был и ее муж – Павлин Иванович. Он работал служащим на комбинате и был другом моего деда. У них было шестеро детей. Самый младший учился со мной в одном классе. Жили они до предела скромно, бедность во всем преследовала эту семью. Но, несмотря ни на что, культурный уровень семьи был всегда на высоте.
Вера Николаевна воспитывала нас своим внешним видом, каждым своим движением, своими поступками. Была она невысокого роста, с короткими кудрявыми волосами, заколотыми гребенкой, с большими, яркими, выразительными глазами и в своей неизменной черной юбочке, трикотажном жакете и белой кофточке. Сколько ее помню, она всегда была в этой одежде. Мне доводилось по поручениям бабушки иногда приходить в эту семью. Общение с ними очень обогащало. Тяжело мы пережили смерть Павлина Ивановича. Это было так, как будто умер член нашей семьи.
Не помню, чтобы наша учительница на кого-нибудь из детей накричала. Чаще всего она подзывала к себе провинившегося ученика и требовательным голосом делала ему внушение. Мы все ее любили. Старались ей подражать во всем. Вот уж действительно это называлось воспитанием силой примера! Сила примера – стержень всякого воспитания. Вера Николаевна иногда приходила в гости к нашей бабушке. И если та спрашивала у нее, как я учусь, как веду себя в школе, то она обычно подзовет меня к себе и спрашивает:
– Ну, Галя, что мы ответим?
Она никогда не была мною недовольна. Я была не по возрасту серьезна. Отпечаток грусти преследовал меня. Всегда помнила, что мой отец в тюрьме. Он – «враг народа». Раннее сиротство и горькое детство научили меня слышать и видеть больше других детей. Тяжелые условия, бедность – все это стало для меня хорошей школой.

